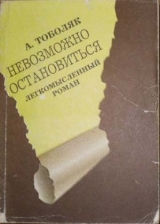
Текст книги "Невозможно остановиться"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
2. СНОВА В ГОСТЯХ
Да, снова я в гостях. Из одной квартиры, чужой, переселяюсь в другую, тоже чужую, но в общем-то знакомую. Так уж получается независимо от меня. Она, Лиза, пожалела, видимо, сервизную Ивановскую рюмку.
Я во всяком случае не слышу условленного звона и в какой-то предельно критический момент теряю ее из виду, хотя она несомненно присутствует где-то рядом, в этой же комнате. Лиза. Семенова. Потенциально Теодорова.
Уже на улице я пытаюсь выяснить у Жанны Мальковой, где моя любимая женщина. Гневно так спрашиваю: где, Жанна, моя любимая женщина, отвечай! А Жанна хохочет: какая именно? ибо на двух руках у меня висит по одной Суни и по одной Фае. Мы представляем собой трехголовое, шестиногое существо с одной вроде бы кровеносной системой, но разнонаправленное в движении. По прямой идти не удается, хотя прямая короче зигзагов, а гипотенуза дворов короче уличных катетов. Замечаю, что ночь нежна. Теплая, свежая, многозвездная. Где-то за сопками глубоко дышит океан. Верхние огни телевышки, как маяки, указывают нам путь. Пустынно-то как, безлюдно! Куда мы идем, подруги, и главное – куда придем? Вот лет так двадцать с лишним назад я точно знал свою цель. Вот так же, под теми же звездами вел по улице двух своих одноклассниц после выпускного вечера, чтобы с одной расстаться у подъезда, а с другой, бесконечно любимой, уединиться в реликтовой роще японских тисов… Какие сильные поцелуи, объятья тесные, какое помрачение ума! Надежда! Бесконечное пространство предстоящей жизни! Даль, даль осиянная! Слышите, что говорю, Суни, Фаина? Некто некогда предполагал, что абсолютно бессмертен и наделен божьим даром любви. Где этот человек, покажите мне его. Эй! К кому я обращаюсь?
Не слышат, поют Булата Окуджаву, не спросясь измученного автора. Эти и те, кучкующиеся впереди. Сплошной соцреализм ночного города и трезвых звезд.
– Ко мне идем! – Это Суни.
– А можно ко мне! – Это Фая.
– А можно и ко мне, но нежелательно. Напугаем тараканов. – Это я.
– До свиданья, Юра! Заходи! Звони! – кричит Жанна Малькова издали.
Машет рукой и уводит нетрезвого, нечеткого своего гинеколога в какую-то арку, подальше от соблазнов. Рассасываются, распадаются по одному, по двое. А где же все-таки столичная практикантка, кто мне может сказать? Есть в ней маленькая тайна, однозначная, конечно, но все-таки… некий международный секрет.
– Мы ее убьем! – кричат подружившиеся программистка Фая и журналистка Суни.
Кровожадные какие! Нет, я не допушу криминала. Всю ночь буду контролировать ваши действия. Вот умница, Юра, контролируй!
То есть я умница, и они согласны на технический контроль. Приблизительно ровесницы. Лет так пятьдесят на двоих. Это немало, думаю я, но и немного в сравнении с моей полновесной зрелостью, с моей сексуальной мудростью.
Оказываемся в квартире, перебудоражив безмятежно спящий подъезд.
Уверен, что это квартира Суни. «Твоя же, Суни?» – «Моя, чья же еще!» – «Очень хорошо! А скажи, милая Суни, что у тебя есть в заначке из спиртного? Есть что-нибудь?» – «А когда у меня не было, вспомни!» – «Очень хорошо! Значит, мы пришли к правильной цели. Одобряешь, Фая?» – «Ну еще бы! Только ты не задумывайся глубоко, как тогда на даче, ладно?» – «Не обещаю, но постараюсь».
И пока Суни хлопочет на кухне – гремит, звенит, шарахается, напевает даже, насвистывает – мы с Фаей, переплетясь, падаем поперек тахты в единственной комнате. Первое знакомство. Что скрывается под одеждой? Все ли у нас на месте, не потеряли чего важного в дороге?
– Ого! – удивляюсь я.
– Ох, какой! – шепчет она.
– Эй! Эй! – кричит Суни, внедряясь с подносом. – А я? Я что, рыжая?
Она не рыжая, спору нет. Черные-пречерные волосы, черные глаза с яркими белками. Маленькая, игрушечная. Зовут Суни.
А вино тоже зовут по-иностранному: Агдам. Здравствуй, Агдам. Мы тебя ждем. Ты тоже здесь не лишняя, Суни. Нечетные числа счастливей четных – так утверждает то ли астрология, то ли мифология. Это касается цветов, сигарет, детей, календарных дат. Поэтому, извини, друг Агдам, мы тебя уничтожим. За Президента России предлагаю тост, присутствующие дамы!
К черту политику! – возмущаются обе. Сладкий агдам. Взращенный под горячим южным солнцем. Талонный агдам. Нереально мерзкий. Но каков темперамент! Никогда не подводит, проверено. Заставляет играть кровь. Напрочь отключает мысли о предназначении, скажем, человека. А то и сражает наповал, в ночь погружая. К чему верхний свет! Хватит и настольной лампы, лепечет маленькая Суни. И Фая считает, что так оно лучше. Вообще-то и одежда ни к чему, отягощает! Давай мы его разденем! Давай, давай! Посмотрим, какой он на самом деле под свитером и джинсами! Ах, ах! – сопротивляюсь я. Как вам не стыдно, бессовестные! Неужели вы и сами разденетесь? А ты нам помоги, Теодоров, миленький! Нет, этого я не сделаю. У меня принцип. Я сторонник женской эмансипации в пределах постели.
Так говорю, подчиняясь их быстрым рукам. Но это неправда. На моей совести (в прошлом, в прошлом!) столько разорванных в горячке трусиков и лифчиков – по нынешним временам это целое состояние. Сейчас веду себя трезвей, хладнокровней. Будь Суни одна, как случалось не раз, ей пришлось бы потрудиться надо мной, сорокалетним умудренным сатиром, чтобы я по-боевому восстал… Но четыре руки – не две, два разгоряченных лица – не одно, и вот, удивляясь себе, я предстаю перед ними во всеоружии. Ого! – кричат. – Ого! И быстро, как наперегонки, хохоча, освобождают себя от всего лишнего.
Одна маленькая, с твердыми, острыми грудками, темнокожая; другая белобрысая, худощавая и светлокожая. Так я их вижу, лежа посредине тахты в ожидании. Надеюсь на некоторые неожиданности, а иначе ради чего лежать бы? Чувствую, что друг агдам, соединившись с ивановской водкой, исправно гонит кровь. Но мгновениями набегают какие-то темные волны – все исчезает. Спасибо соседям-зверям, а то висел бы сейчас в ванной комнате, склонив голову к плечу, вывалив язык, протухал бы в одиночестве, пока не хватились бы друзья-приятели: что-то Теодоров не показывается давно, не случилось ли чего с ним! Стало быть, думаю, есть смысл продолжать еше некоторое время? И вскрикиваю:
– Уй! Уй!
Это одна из двух перекатывается через меня. Ловлю, возвращаю на себя, ухватив за ягодицы. Это Фая. Она. Давай, Фая, знакомиться. А ты, Суни, побудь временно наблюдателем. Подсказывай нам, что не так делаем. Подсказывай! Подглядывай! Подглядывай! Любовь это называется. Так любовь. И так любовь. И так любовь, и эдак.
Фая вопит.
– Ты что? – замираю. – Больно, что ли?
– Не-ет! Не-ет!
Ага, просто крикунья. Бывает. То есть бывают крикуньи, а бывают партизанки, зубы стиснувшие. У Фаи глаза ошалелые. Вопит. Такая реактивная Фая.
– Тиш-ше ты! Соседи! – шипит Суни, сидя с поджатыми под себя ногами, наблюдая под удобным углом зрения.
– Ой! Ой! Ой! Ой! – не внемлет страстная Фая.
Что ж, перевернемся. Перекатимся. Технология позволяет. Может быть, так ты умолкнешь, Фая. Вот так. И вот так. И вот так.
– Ой! Ой! – закатывает глаза.
Невозможно прикоснуться. Сплошная эрогенная зона. Колючей проволокой надо бы обносить такую пылкую Фаю, смутно, в горячке, думаю я. Вот растревожила Суни. Она дерет меня ногтями за плечо, тянет к себе. Опасается, что при такой Фае все у меня произойдет неожиданно скоропалительно… напрасно, Суни. Я не думаю о себе, как бывало в прошлом. Давно преодолел половой эгоизм, кореяночка моя, и теперь стараюсь, как могу, заслужить благодарность. За честно выполненную любовь, можно так сказать? А следовательно, про тебя, кореяночка, не забываю, нет. Не забываю! Нет!
– Хватит с нее! Иди же сюда! – сердится Суни. Соски торчат, рот приоткрыт, волосы растрепаны.
Извини, Фая, крикунья. Отдохни, отдышись, понаблюдай за интернациональной парой. Дружба народов. Преемственность традиций и опыта.
– Ой! Ой! – не стихает Фая. То есть я к ней уже не прикасаюсь, но Фае и картинки хватает, чтобы чувствовать и голосить свое. Ну и Фая. Ну и Фая. (Такой ритм моих мыслей и телодвижений.)
Так действую прагматически, но назревает что-то… темнеет в глазах, товарищи… я еще живой… агдам не подводит… где ты, зеленоглазая Лиза?.. и прошу их перевернуться, и переворачиваю, и четыре, стало быть, ягодицы, темнокожих и белокожих, передо мной… я хочу заслужить их благодарность.
И, кажется, заслуживаю. Они лежат, тихонько повизгивая, я между ними, тяжело дыша, – не я даже, а оболочка моя без внутреннего содержания, и вот получаю с двух сторон благодарные чмок-чмок. Спасибо, мол, Теодоров, не жалел себя, не экономил, не скаредничал, не собой лишь был занят, как некоторые индивидуалисты. Имеешь право на отдых, на порцию агдама, вообще, право на существование… так надо понимать их ласки. А может, питают иллюзии на продолжение процесса после антракта?
Кыш, кыш! – бормочу я, прикрыв глаза, и слышу, как одна за другой, хихикая, шлепая босыми ногами, упрыгивают в ванную. Сразу же с шумом льется вода. А я сажусь, тряся головой. Слабость и одурь. Так астронавты, наверно, чувствуют себя при возвращении на землю: забытая тяжесть притяжения… А зачем, собственно, летал? – думаю. Вернулся в знакомое чистое поле, к дружку агдаму, в ту же самую непременную ночь.
Вот и попутчицы по полету. Bыходят из ванной пьяненькие, свежеомытые – темная и светлая… язычки заплетаются… глаза неземные… вообще, страшноватые, на ведьмачек похожие… часто бывают с ними такие преображения.
Кыш, кыш! – опять бормочу. Я неприкасаем. И сам плетусь в ванную под горячий душ.
…и пробуждаюсь на ковре, завернутый в одеяло, от загадочных звуков: вздохов каких-то, стонов, причмокиваний в темноте. Пытаюсь сообразить, где я и что со мной, куда попал и откуда. Это иногда непросто – определиться в пространстве, не пользуясь никакими приборами, осознать себя живым и вспомнить свое нынешнее имя. Несомненно, что все еще остаюсь тем, кем был, – Теодоровым. Но качественно я вроде бы иной: старый, гнилой инвалид. Рука, например, не моя, затекшая до онемения, сердце бьется не так, как ему положено, вызывающе часто, затылок ломит, спеклись губы, лоб в поту холодном. Все это признаки ночного перерождения. Или вырождения, что тоже не исключено. Но звуки рядом – стоны, причмокивания – заставляют все-таки анализировать ситуацию. И я тяну руку к ночнику, включаю его, хрипя при этом:
– Эй, хозяюшки!
А они не отвечают. Их тут, собственно говоря, нет. Они в таких высях, в таких далях, откуда Земля не просматривается и голоса не слышны. Можно зазвенеть стаканом и бутылкой – я звеню; можно выпить агдаму, закурить сигарету, что я и делаю; можно определиться по часам: четыре ночи; для них не существует ни звуков, ни времени. Даже свет им не мешает, а я ведь направил его на тахту. Разглядываю, как старательный ученый, сложную конструкцию двух тел. Темные ноги – светлая голова; темная голова – светлые ноги. Прекрасно обходятся без меня. Упоительное самообслуживание за гранью сознания. Стоны, перевороты… впору броситься им на помощь… но не будет ли это насилием над завоеванным плюрализмом?
Тут Суни, наконец, вскидывает голову. Она наверху, и она, по-видимому, инициаторша, снабдившая программистку первичной информацией…
– Теодоров! Нахал! Погаси свет!
– Зачем же? – хриплю. – Интересно же.
Ей некогда возражать, упускать мгновения. А я чувствую, что выздоравливаю, что наливаюсь вроде бы силой, что готов к ним присоединиться. Ибо, думаю, среди двух всегда найдется незанятое местечко для третьего, пусть мужчины, в данном случае не столь уж необходимого… Но опаздываю. Длинная судорога разрушает замечательную конструкцию. Распадаются. Лежат неподвижно. И вдруг Фая (программистка) содрогается от громких рыданий. Суни ловко переворачивается и, обнимая, целуя ее, утешает на своем языке.
«Ким Ир Сен, – чудится мне в ее шепоте. – Ро Дэ У… Чимча… Пенсе…»
Мой порыв утихает. Чем я могу помочь? Что нового предложить? Лучше щелкнуть выключателем – и я щелкаю. Забираюсь под одеяло, закрываюсь с головой. Сворачиваюсь клубком. Стискиваю зубы. Закрываю глаза. Хочу заснуть и не проснуться.
3. ИДУ В ПАРНУЮ
Но просыпаюсь. Это неизбежно. Есть вещи неизбежные. Сколько себя помню, всегда просыпаюсь. В детстве, бывало, со слюнкой на губах – так сладок сон, так безгрешен. И само пробуждение всегда счастливое, солнечное независимо от погоды за окном. В школьные годы уже по-иному: открыв глаза, тут же быстро закрываешь – так тянет на продолжение сна, на вторую серию, куда более интересную, чем предстоящая мутотня уроков. Что за неволя такая, крепостное какое-то право! Кому охота со страниц сна, где путешествуешь, летаешь по воздуху, переселяться в школьный каземат, за дурацкую парту! Или тащиться в университет – это тоже мучительно, не считая дней выдачи стипендии. Чем дальше, тем пробуждение насильственней. Отрываешь от себя сон, как частицу бессмертной души, – и вот вступаешь в пору осознанного долга и обязанностей: семья, работа. Сны становятся черно-белыми, а зачастую просто черными, – и быстрей вскакиваешь на ноги, ибо будняя реальность предпочтительней панических мыслей под одеялом… вот именно! Наконец, знакомишься с бессоницей, с неожиданными сердцебиениями, с тупой болью в затылке, а засыпая все-таки, – со злодейскими видениями, которые заставляют дрожать, бормотать, вопить, а то и выть по-волчьи… В последнее время вряд ли вообще сплю, даже когда отрубаюсь. Наполовину осознаю процесс, и неясно, что кошмарней – забытье или действительность: например, вот эта комната с пустыми бутылками, раздавленными окурками, разбросанной там и сям такой и сякой одеждой.
– Хозяюшки! – слабо зову. – Вы живы или как?
Им ведь тоже не позавидуешь. Я-то уж как-то свыкся с утренними угрызениями совести, со жгучим стыдом… ну, застонешь сквозь зубы, ну, обматеришь себя… и этого хватает для продолжения жизнедеятельности. А они вряд ли такие закаленные, такие привычные к превратностям пробуждений.
Лучше всего, конечно, смыться побыстрей, без прощаний. Но это не в моих правилах. В моих правилах вести себя так, будто ничего не произошло, будто Вселенная ничуть не изменилась, ну, может, по теории, слегка расширилась…
– Эй! – опять зову. – Кто скажет, почему я здесь? Жалобно стонут под простыней, но на свет божий не показываются.
Стыдно им. Очень. Гнусно им в высшей степени. Понимаю. Как не понять! Все-таки они интеллектуалки, так сказать. А вот взяли и поддались своднику Агдаму, сутенеру Агдаму Азербайджановичу. Были бы наедине, а то при свидетеле Теодорове… У-у!
– Там… в холодильнике… пиво… принеси! – просит одна слабым голосом. Хозяйка Суни.
Значит, сегодня воскресенье, раз решили опохмелиться. Возможна, то есть, реанимация действенными методами. Это хорошо, думаю. Не люблю, когда они, бедняги, отпаиваются чаем или кофе… очень тогда мне их жаль: жертвуют во имя работы своим единственным здоровьем.
– Иду, иду, – откликаюсь. – Принесу, конечно.
Когда оказываешь помощь, то свои недуги отступают на второй, что ли, план. Это я давно заметил. Вот однажды, помнится, рвет мне коренной зуб девочка-практикантка. Тщетно рвет, никак не осилит, умучилась, а мне ее, слабосильную, так жаль, что вся дикая боль переходит в восторг сострадания… Ну, и заслуживаю, конечно, потом горячую благодарность: какой вы, мол, терпеливый, всепонимающий, спасибо вам!
Вот и сейчас проявляю подлинное человеколюбие: приношу непочатые холодные бутылки. Присаживаюсь на край тахты. Открываю. Наливаю.
– Ну, кто первый? – и отворачиваю край простыни.
Ах, бедняги! Ах, страдалицы! Что за лица! Мужики тоже просыпаются не красавцами в таких обстоятельствах – я, в частности, – но тут что-то уже босховское, несообразно страховидное в этих чертах…
– Не смотри! – вскрикивают в голос обе, закрываясь ладонями. То есть, боятся, что может мне стать плохо от их вида, что грохнусь в обморок. Заботятся обо мне.
– Вам тоже, – говорю, – лучше не смотреть на меня. Во избежание эстетического коллапса.
И передаю, на них не глядя, стаканы с пивом. Буль-буль за моей спиной. Пью и сам. Ох… ах… пивовары подлинные лекари, благородная профессия! Как ты смотришь, Суни, если я заберу две, нет, три бутылочки (вон их сколько!) и отправлюсь прямиком и парную, и приведу там свои мысли в порядок? Спасибо, Суни. Так я и сделаю. Так я всегда делаю, когда наутро не могу восстановить последовательность событий, когда в памяти белые пятна, пустоты, провалы. Да и грехи, само собой, смыть не мешает, правильно, Фая? Я ведь нагрешил вчера или как? Не жалейте Теодорова, говорите честно.
– Все ты помнишь! – сварливо откликается Суни. – Нас утешаешь, знаю тебя. Скажи ему, Фая, что он вчера с нами делал.
– Не трогайте вы меня! – Это Фая. Неожиданно писклявая.
– Не трогай ее, Суни. Не будь агрессивной. Я тебя такой не люблю. А вообще-то люблю.
– Ага, а москвичку приглядел! Что ты в ней нашел?
– Она хорошенькая, – задумчиво отвечаю. И тем самым делаю ошибку.
– Уходи отсюда! И не приходи больше! – кричит Суни.
– Одеться хоть можно?
– Зачем? – кричит. – В бане все равно разденешься.
Резонно, но я все-таки по частям собираю одежду, облачаюсь, на них не глядя, чтобы не распалиться по-новому, чего доброго.
– Обиделся, что ли? – спрашивает Суни.
– Да ты что! Нет, конечно.
– Ты же знаешь, я всегда по утрам выгоняю.
– Золотое правило, Суни.
– А потом плачу.
– Бедная!..
И уже одетый, складывая в пакет подаренное пиво, говорю им, прикрытым простыней по самые глаза, что в наше смутное время надо, конечно же, почаще встречаться, обмениваться мыслями, идеями, уважать друг друга независимо от пола, национальности и вероисповедания. Берегите себя. Много еще впереди свершений, ох, много. Свершений, озарений, открытий.
– Исчезни, Теодоров! – опять срывается Суни. Я раскланиваюсь и выхожу в город.
Направляюсь, следовательно, в баню. Предпочитаю ту, что у базара, – народную, демократическую. Там сухой сильный пар, там продают веники и там интересный контингент посетителей, политикан на политикане. Можно услышать всякие интересные споры. «Ельцин мудак!» – кричат. – «Сам ты мудак!» – «А Горбачев самый большой мудак, мужики». В устах голых безобразных людей это звучит сильно и выразительно.
Вообще, баню каким-то образом не затронули перемены в обществе, – думаю я. Функциональное ее назначение прежнее. Баня не стала, скажем, обществом книголюбов или видеосалоном, или фондовой биржей; здесь по-прежнему моются, трутся вехотками, хлещутся вениками, как встарь. Равенство – что удивительно – абсолютное. Крутой кипяток может ошпарить кого угодно в равной степени, а ледяная вода ожечь без разбора. Нет несправедливости. Нет также явной вражды, нетерпимости, хотя узловатые колени, тощие ноги, жировые складки, мясистые груди, маленькие кислые письки и хулигански большие члены – все это при желании подлежит социальной классификации. Да кому это нужно – классифицировать! Суть в том, что права голоса тут никто не лишен, и права на верхний полок в парной, и права мучить себя там хоть до беспамятства… Очищение, значит, души и тела. Часовой-двухчасовой-трехчасовой уход в некое первичное состояние, в стихию жара и холода. По душе мне такое братство. Родись я в бане, проживи в ней всю жизнь, не выходя на волю под небеса, глядишь, познал бы тайны бытия, написал бы иные книги. (А три бутылки мало, надо было взять четыре, вскользь думаю я).
Утешаю себя тем, что погода отменная: легкое, высокое небо, которое уже никогда не увидишь, если всерьез повесишься; сопки вроде бы парят; одуванчики, самозабвенно самовыражаясь, желтеют по газонам и обочинам… слышу шум океана на востоке… слышу шум пролива на западе… и нарываюсь, разумеется, на неприятного знакомого.
– Привет! – шумно здоровается он. – Вот и встретились!
Фамилия его Икс. Имя Игрек. Отчество, положим, Зетович.
Я изображаю радость, жму его мощную культуристскую руку.
Здравствуй, говорю, Игрек. Рад.
– Чему ты рад?
– А давно не виделись, – говорю, – вот и рад.
– Знаешь какой сейчас месяц?
– По календарю конец мая.
– Правильно. Соображаешь. А когда обещано было отдать? В марте.
– Придется подождать еще немного, Игрек. Типографские, понимаешь, задержки. Но меня уже фальцуют.
– Что с тобой делают? Ась?
– Отпечатали меня. Теперь фальцуют. Потом присобачат южку. Издательство получит сигнальный экземпляр и считается со мной. Вот так.
– А на хрена мне знать, Теодоров, вашу технологию?
– Ну, может, тебе интересно… ты же любознательный.
– Мне интересно получить свои триста рэ. Цены растут, Теодоров, деньги дешевеют.
– Что ж… заплачу проценты.
– И кабак за тобой.
– Согласен, Икс. Но без меня.
– Это почему?
– Я понял, что пить вредно.
– Ума тебе не занимать! – хвалит он меня.
– Недавно я чуть не повесился. Не получилось. Но я упомянул тебя в завещании.
– В смысле?
– Все доходы от моих похорон завещал в твою пользу. А поминки распорядился за твой счет.
– Силен, Теодоров, силен! Короче, жду еще месяц, не больше, – прощается он. – Книжку свою не забудь подарить! – кричит издалека.
Как же, жди! – думаю я ожесточенно. Редкая все-таки гнусь этот Икс, беглый знакомый, приятель приятеля… но по-своему он прав, целесообразно убедителен. Из таких вот молодых деловых ребятишек (высшее образование, пирожковый кооператив) и создается ныне новый генофонд нации. Вот они точно знают, для чего светит солнце – чтобы способствовать их деятельности, их бурному росту.
Сворачиваю с улицы Комсомольской на Коммунистический проспект, словно перехожу из одной стадии в другую – из комсомола в партию. Тут у меня берут интервью японские телевизионщики.
Седой моложавый режиссер (или кто он?) быстро что-то лопочет. Оператор снимает. Переводчица японочка – миниатюрная, само собой, – отшатывается от моего дыхания – о, Господи! Но дело есть дело, и она толмачит. Снимается, дескать, документальный фильм. Гостей интересует, что советские люди – в частности, я, советский человек, – знают о Японии. Назовите, пожалуйста, ну, скажем, три слова, три определения, понятия, с которыми у вас связано представление об этой стране.
«Саке, – сразу мелькает у меня. – Гейши. Харакири». То есть выпить саке в компании с хорошенькой гейшей и затем сделать себе харакири.
Но говорю я другое, более для них приятное:
– Фудзияма. Икэбана. Чайные церемонии.
Отступая еще на шаг (дух мой, видимо, непереносим), она бегло переводит. Седой режиссер дружелюбно улыбается.
– А еще? – спрашивает она через него.
«Баночное пиво, – мелькает у меня, – хорошо пить облаченным в кимоно под зонтиком».
– Император Хирохито, – отвечаю. – Акутагава. Куросава. Хиросима.
Это вроде бы понятно без перевода. Режиссер – или кто он? – опять широко улыбается, так он рад моим познаниям. А я думаю: пригласить бы их в парную, потолковать бы там…
– Землетрясения, – завожусь, – искусственный жемчуг, танка (в смысле стихосложения), «Тойота», компьютеры, Цусима.
– Хоросо, хоросо! – восхищается режиссер и хочет знать, кто я такой, сколько мне лет и какова моя профессия.
Я называю себя Иваном Медведевым. Сорок лет. Программист. Делаю международное паблисити Ивану. Осень хоросо! А как я отношусь к проблеме Южных Курил? (Как ты, Иван, относишься к этой проблеме? – думаю. И решаю сделать Ивана патриотом.)
– Приблизительно так же, – отвечаю, – как англичане к проблеме Фолклендских (Мальвинских) островов.
– Ха-ха-ха! – Так они широко, по-нашему, смеются. Горячо жмут мне руку. Благодарят. Уходят.
Я продолжаю путь под легким, ясным небом. Теперь уже недалеко до конечной цели. Мысленно я продолжаю интервью – на этот раз с подлинным Теодоровым Юрием Дмитриевичем.
«Расскажите, пожалуйста, немного о себе, Теодоров-сан».
«Пожалуйста. С удовольствием. Я родился в Сибири, в рабочем городе Новокузнецке. Он тогда назывался Сталинском, и сам вождь еще был жив. Тогда я еще не понимал, но сейчас знаю, что мои родители, служащие, всегда были тайными агентами… простите, тайными диссидентами, и их убеждения, видимо, впитались в меня вместе с молоком матери, я ведь пил тогда только молоко. В середине шестидесятых семья переехала на Дальний Восток, в эти самые края, где мы с вами беседуем».
«Так, так. Очень интересно».
«Мне тоже. Почему я родился? Почему именно я, а не кто-нибудь другой? Впрочем, у меня два брата на материке. Родители тоже недавно перебазировались туда, а я все еще тут. И умру наверняка тут, а не в Японии».
«О-о!»
«Дальневосточный государственный университет – там я учился. Я, господа, журналист, как и вы, правда, бывший».
«О!»
«Семенова Лиза тоже, между прочим, журналистка».
«Кто это, простите?»
«А вот узнаем кто. Пока не знаю. Знаю, что светловолосая и зеленоглазая».
«Выпейте саке. Вам не помешает».
«С удовольствием!» – соглашаюсь я. Женщина с авоськой, а в авоське страшный красный краб, бросает на меня испуганный взгляд. Наверно, шевелю губами, разговариваю вслух. Это со мной бывает.
«Юля Зайцева – моя первая жена по университету. После третьего курса уже не жена. Где ты, Юля? Увы, потерял!»
«Как печально».
«Да. Страна большая, Юля маленькая. Ей не нравилось, что я уделяю много внимания своим однокурсницам. Она считала, что я не семьянин по призванию».
«Юлю, Теодоров-сан, можно понять».
«Да, самураи, вы правы».
«И что же дальше?»
«А что! Я распределился на север Красноярского края. Я много летал, ездил на оленях, ночевал в чумах, пил чистый спирт, ел сырое мясо».
«О!»
«Я, хирохитовцы, много чего увидел и узнал. Потом я перевелся в Среднюю Азию, в предгорья Памира. И там тоже продолжал обогащаться знаниями».
«Представляем!»
«Южные женщины темпераментнее северных».
«Неужели?»
«Да. Такой закон».
«Выпейте еще саке».
«Обязательно! Наконец, я вернулся домой, в эти вот края. С женой Клавдией и дочерью Ольгой. Жена моя библиотечный работник. Но она уже не моя жена. Два года, как уже не моя».
«Мы, простите, рады за нее».
«Да я и сам рад за нее, друзья. Дочь мне, правда, жаль. Но мы регулярно встречаемся, беседуем».
«Кто же вы теперь, Теодоров-сан?»
«Уже много лет я числюсь писателем. Есть даже книжки, но их лучше не читать. Есть профессиональный билет, но показать его не могу. Я его потерял. А может, обменял на что-нибудь, трудно сказать».
«На винно-водочный талон, да?»
«Не исключено».
«Какой вы интересный человек! Вы довольны своей жизнью?»
«Могла быть и хуже».
«Прекрасно сказано! Мы заплатим вам миллион йен за это интервью».
«Спасибо. Я найду им применение».
И вхожу, прекратив бормотания, в двери бани № 1, в этот клуб свободомыслия и душевного уюта.






