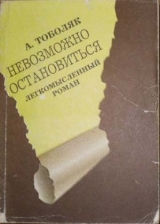
Текст книги "Невозможно остановиться"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– Поднажмем! – командует наш руководитель Илюша Скворцов, и мы матерясь прибавляем шагу, оскальзываясь в дорожной грязи.
Как же мы здесь оказались, на острове то есть Кунашир? Очень просто. Это я захотел нарушить последовательность событий. Автор я или кто? Творец я или кто? Имею право, стало быть, перемещаться во времени и пространстве по желанию своему. Мое дело, не придирайтесь! Захочу, и поставлю вот здесь последнюю точку. Напишу «КОНЕЦ». А вы кусайте ногти, ломайте голову, мучайтесь вопросом, что я недосказал. Ладно, пощажу.
Спеша, я заскакиваю в личный туалет Ольги Ц. Вас сюда с собой не приглашаю. Постойте за дверью. А вот писатель Эдичка Лимонов непременно пригласил бы. Этот Нарцисс непременно живописал бы, как его желтая струя по изумительной глиссаде падает с шумом в унитаз, пенясь. Причем, не простая это струя – патриотическая! Ибо Эдичка Лимонов не элементарно, прошу прощенья, ссыт, а совершает идеологический акт – обливает мочой Америку и Европу вместе взятые. Ему, дети, там очень плохо живется, коммунистическому педерасту, надо его понять и пожалеть. Капиталистические педерасты его уже не устраивают, беднягу. Вот он и злобствует, полагая при этом, что не злобствует, а страдает, страшно страдает за человеческое несовершенство. Но почему-то – я заметил – муки его проходят не через душу, а через, прошу опять прощенья, жопу. Ну, ладно. Прости, Эдичка. Живи, как хочешь, то есть думай, как хочешь. А я спешу и отливаю без всякого подтекста. На миг, правда, ловлю себя на каком-то неудобстве в мочеиспускательном канале. А, мнительность! Мнительность. Что-то засорилось, подумаешь! Маленькая неисправность, ерунда! И выскакиваю из личного туалета Ольги Ц.
Без двух минут шесть. Один за другим мы проходим через турникет перед окошечком вахтерши рыбозавода. «Куда?!» – кричит она, и Илюша ей на ходу объясняет, что мы писатели, писатели мы, а не какие-то ворюги с улицы. Нам консервов не надо. Нас ждет не дождется рабочая аудитория. Убеждает, и мы втроем проникаем в разделочный цех, пустой и гулкий, спешим мимо неподвижного конвейера, где на ленте лежат тушки сайры, поднимаемся по железной винтовой лесенке. Бывали здесь когда-то, года два, кажется, назад. Вот и красный уголок, откуда долетают женские голоса и женский смех. Женские, какие же еще! Здесь, я уже говорил, обитают исключительно женщины, в этом общежитии медицинского училища, ну, девушки. А коли Лизочка моя не ответила по рабочему телефону, то должна она быть непременно в своей комнате 309.
Я стучу в дверь и тут же распахиваю ее.
А мы входим в Красный уголок, вызывая сильное оживление молодых и старых рыбообработчиц. «Девки! – слышим мы. – Мужики пришли! Разбирай кто кого!»
А Лизочка молча на меня смотрит. Она только что приняла душ. На ней короткий купальный халатик. Волосы мокрые. Голые ножки… это самое… голые. Но странно, что на светлом, омытом ее лице нет и намека на улыбку. Смотрит на меня хмуро и неприязненно, как на чужого.
– Ты чего? – удивляюсь я.
– Ничего.
– А чего ж ты не радуешься?
– Чему?
– Ну, мине. Это же я.
– Вижу.
– Я звонил, звонил. Звонил, звонил. Чи-истенькая! – хвалю я ее, приближаясь и протягивая руки с известным намерением. Но она отступает на два шага. Что такое?
– Что такое? – останавливаюсь я.
– Слушай, я улетаю.
– Чего-о?
– Улетаю. В Москву.
– Куда-а?
– В Москву, в Москву! – нетерпеливо повторяет она.
Я, естественно, тут же спрашиваю, не сдурела ли она, не белены ли ненароком объелась.
– У меня бабушка умерла. Я телеграмму получила от мамы. Уже билет купила, – сумрачно и отрывисто объясняет Лиза.
Разумеется, я тут же опускаюсь на ее сиротскую кровать, ошарашенный.
Лезу в карман за сигаретами.
– И когда летишь? – помедлив, спрашиваю.
– В три ночи.
– А надо лететь?
– А ты как думаешь? Родная бабушка. Знаешь, какая хорошая, – вдруг жалобно кривится Лизонька.
Я тупо на нее смотрю. Есть такое неписаное правило: когда общаешься с аудиторией, надо выбрать из многих лиц одно – приветливое, привлекательное, внимательное – и именно на нем сосредоточиться. Такое лицо тут есть. Это молодая девушка в белом, как у всех, туго повязанном платке, в сиреневом, как у всех, халате и желтом, как у всех, прорезиненном переднике, – во втором ряду третья слева.
– Дорогие женщины! – Так я оригинально начинаю, стоя за столом на маленьком возвышении. Дело в том, что я ведущий. Илюша Скворцов руководитель нашей бригады, а направляю такие вот встречи я. Потому что я прозаик и умею говорить прозой. – Дорогие, значит, женщины! – продолжаю я.
Их называют верботой, этих молодых и старых представительниц самых разных российских губерний. Сильные ветры, бурные течения, помотав по стране, занесли их в наши туманные края. Деньги – их компас руководящий. Гипотетические тысячи плывут перед ними на конвейере в облике сайры и горбуши. Они слышат плачущие голоса далеких своих детей. Кто мы в их глазах? Махаоны легкокрылые, счастливцы праздные, везунчики, родившиеся в рубашках. Мы достойны ненависти и, право, стоило бы вспороть нам животы острыми разделочными ножами, отсечь головы и, порубив на части, закатать в консервные банки… чтобы не выдрыгивались перед ними со своими слабенькими душевными откровениями. На кой им наши стихи – на кой? – если руки их в рыбьей крови и слизи, ноги изуродованы варикозом, а ночные сны сопровождает звон и грём пустых консервных банок? Но нет же, слушают в тишине с необыкновенным любопытством и серьезностью, как инопланетян каких-то, вот что странно! И я говорю глухим голосом:
– Да-а, жаль бабулю.
Лиза всхлипывает:
– Еще как!
– А ты вернешься?
– Конечно.
– Когда?
– Через неделю, наверно.
– Ну, иди ко мне… бедная ты моя, – протягиваю я руки и, обхватив ее за пояс, притягиваю к себе.
Под халатиком у нее ничего нет. Бабушка умерла. Лиза летит на похороны. Под халатиком у нее ничего нет. Мои руки, проникнув под халатик, скользят по ее чистому нежному телу… от лопаток вдоль спины.
– Не надо… пожалуйста! – сопротивляется Лиза, упираясь ладонями мне в плечи.
Прости, бабушка, но так устроено – не мной! – что живая эта жизнь сильней, видишь ли, абсолютной смерти. Тут ничего не поделаешь. И утыкаясь лицом в горячий впалый Лизин живот, я целую ее пупок, души средоточье, и с померкнувшими глазами, с колотящимся сердцем, кощунствуя, наверно, прильну я губами сейчас к сладостному местечку, которое люблю за первичную, непознаваемую тайну, бабушка.
– Перестань! Ну, не надо!.. Бабуля моя! Юрка, гад! – приговаривает сопротивляясь Лиза, но сама по себе, независимо от себя, обхватывает мою неразумную голову, и вся дрожит под моими подзабытыми губами и руками. А я продолжаю:
– Сейчас, дорогие женщины, хочу предоставить слово известному дальневосточному поэту Илье Скворцову, автору многих сборников, которые выходили в центральных и региональных издательствах. Поднимись, Илья, покажись, – улыбаюсь я. Илюша встает под короткий оживленный аплодисмент. Его лицо сразу заостряется, и ложится на него тень нездешнего отстраненного вдохновения. Смешки стихают. Шутки в сторону. Илюша кудесничает. С легким беспокойством я смотрю, как он осторожно извлекает пинцетом шприц из металлического корытца, а с помощью другого пинцета вставляет в него длинную и тонкую иглу.
Это таинство происходит ранним утром у меня на кухне еще до отъезда на Кунашир.
– Ты, Илюша, особенно не свирепствуй, ладно? – прошу я с некоторой дрожью в голосе.
– Не бойся. Опыт есть, – сухо отвечает мой личный врач. – Спустил штаны?
– Спустил.
– Хорошо. Сейчас.
Необычайно сосредоточенно, как в момент чтения стихов, Илюша отламывает головки ампул, протыкает резиновую пробку бутылочки и попеременно набирает лекарства в шприц.
– Ты все правильно делаешь? – тревожусь я.
– Все правильно. Жопой к свету, Юраша! – командует он.
Я поворачиваюсь, как просит, хотя чего ее разглядывать в солнечном свете, мою дуру?
– Не дрожи!
– Я не дрожу.
– Дрожишь. Не дрожи! Расслабься. В левую или правую?
– Давай в левую. Ближе к сердцу.
Бац! Сильный шлепок по ягодице… можно сказать, пощечина. И легкий, неболезненный укол – это Илюша ловко вводит мне иглу в мягкое место.
– Стой спокойно! Не больно?
– Нет.
– Ну, вот. Готово! Придержи ватку. Видишь, как все просто, – гордится Илюша своей умелой работой.
– Спасибо тебе.
– Пять-шесть таких сеансов, и все как рукой снимет.
– Пять-шесть? – переспрашиваю. – А не мало?
– Хватит. Я тебе лошадиные дозы вкатываю.
– А мне это не повредит, нет?
– Ну, иди в лечебницу! – сердится он. – Хочешь?
– Нет, не хочу. Избави Бог!
– То-то, – удовлетворенно говорит Илюша, складывая свои инструменты.
Но и он, многомудрый эскулап, не знает (и не может знать), успел ли я, сумел ли передать свою нежданную заразу Лизоньке в тот прощальный вечер. В принципе, считает Илюша, должна подхватить – и я содрогаюсь. Но может пронести благополучно, говорит он, и я облегченно дышу. Все зависит, видишь ли, от предрасположенности, от сопротивляемости организма. А от кого получил такой подарок?
По моим расчетам, это пароходная Римма. Да, та самая, из клана калиновых, которую Теодоров так беззаветно (нежно и трепетно) утешал в каюте… подумать только! Если это так, то – Господи, Господи! – не пострадала ли от меня стерильная медицинская сестра Мотенька? Как считаешь, Илья? Он считает, что такая опасность есть, и по приезду с Курил я должен наведаться к Моте и поинтересоваться ее самочувствием.
А пока… пока я ничего не знаю, не ведаю и распаленно умоляю свою Лизоньку:
– Ну, не брыкайся, милая! Ну, зачем?
– Я не хочу.
– Хочешь.
– Не хочу я!
– Хочешь. Чувствую.
– Бабуля моя!..
– Ей уже не поможешь, пойми. Она не осудит, Лиза.
– Ты гад. Циник.
– Ох, нет! Неправда!
– На Страшном Суде, знай…
– Беру на себя, Лиза. Все на себя беру.
– Бабулечка моя милая! – причитает она.
– А я не милый? – сержусь я.
– И ты милый.
– Ну вот, правильно.
– Я тебя… укушу сейчас.
– Кусай.
– Я тебя ждала.
– Правда?
– У тебя с Варькой ничего не было?
– Что ты, окстись!
– Дверь не закрыта.
– Закрою.
И закрываю поспешно дверь, сбрасывая с себя ненавистную одежду… и шепчу Володе Рачительному, рядом сидящему:
– Второй ряд, третья слева.
Он кивает: он сам уже приметил, выделил среди одинаковых белых косынок, стягиваюших волосы, среди единообразных халатов и фартуков эту молодую, вдумчивую рыбообработчицу. Она не сводит глаз с Илюши, который, вскинув подбородок, отрешенно воспарив, уподобясь то ли Финисту Ясну Соколу, то ли Аленькому Цветочку, то ли великому артисту Нерону… неважно кому! – накаляет Красный этот уголок высоким своим голосом, неразменными словами. По линии Бюро пропаганды художественной литературы.
– Четвертый ряд у прохода, – быстро шепчет мне остробородый Володя Рачительный.
Теперь киваю я: вижу, вижу. Нерусское лицо, широкоскулое, с удлиненными глазами. По линии Бюро пропаганды художественной литературы провести воспитательную беседу. А пока сбрасываю кроссовки, стаскиваю джинсы, трусы, а рубашку-безрукавку оставляю на себе, ибо Мотенькины клейма на плече и груди очень легко расшифровать. Ах, хитер пьяный Теодоров! По линии Бюро пропаганды художественной литературы.
– Дай-ка я тебя разгляжу, – говорю я, стоя на коленях между разбросанных ног Лизоньки, – какая ты. Ну-ка, ну-ка.
– Не надо! Не хочу! Давай быстро! Бабуля, – тянет меня к себе Лиза.
– Погоди. Это что за пятно?
– Где?
– А вот на груди, у соска.
– Дурачок! Всегда было. Ну, иди.
– Погоди! А это что такое?
– Где?
– На бедре, вот. Темное.
– Ударилась, наверно. Ну иди же!
– Ой ли, Семенова? Ударилась ли?
– Слушай, садист, я сейчас уйду! – вскипает Лизонька.
– Еще чего! – пугаюсь я.
– Без всяких штучек сегодня. Дай мне. Я сама. Вот так.
– Узнаешь его?
– Да-а.
– Ну, поздоровайся. Он любит.
– Глупый, молчи! Нет, говори!
– Он у меня подрос, – хвалюсь я. – Соскучился, у-у!
– Правда? Не врешь?
– Что ты, что ты, милая!
– Я тебя ждала. Без тебя плохо. Ты меня приучил. Поцелуй в грудь. Почему не целуешь?
– Смотрю. Любуюсь. У-у!
– Я красивая?
– Чудо ты, чудо.
– А ты старый, гадкий, любимый. Я тебя убью, – бредит Лиза.
– Не надо.
– Убью.
– Не надо.
– Знал бы ты… о-о! Сильней, не бойся! О-о! Бабуля моя!.. Юрка!..
– Тише, солнышко.
– Если я забеременею, у меня вырастет живот.
– Что ты! Неужели?
– Да, пузо, пузо! Я не хочу!
– Ну, и не надо.
– Я, Юрка… о-о!.. хочу забеременеть.
– Ну, тогда что ж… у-у!.. действуй.
– Урод!
– Кто-о?
– Он!
– Почему? – не понимаю я.
– Громила! бабуля!.. Юрка! Сделай мне больно!
– Нет. Не буду.
– Сделай!
– Нет. Не умею.
– Посмей только сделать мне больно! Я люблю, когда ты нежный. Я тебя хочу. А ты?
– Тоже.
– Юрка, какая я блядь!
– Что ты!
– Послушай, я не хочу в Москву. Хочешь, переведусь на заочный? Приеду сюда.
– Хочу. Очень.
– Хочешь?
– Хочу.
– Значит, так, – вдруг здраво говорит она, открывая глаза и невидяще глядя. – Ты меня совсем измучил. Не стыдно тебе?
Прервав постанывания, я хохочу, а Лизонька жалко и нежно улыбается.
Затем мы продолжаем. Я представляю аудитории Володю Рачительного как поэта перво-наперво и еще как издателя. Высокий, остробородый, мужественный Володя производит, вставая, благоприятное впечатление на рыбообработчиц – ему заранее аплодируют, и правильно. Вообще, мы все нравимся этим изработавшимся, ломовым женщинам; от нас, видимо, разносятся по Красному уголку живые мужские токи. Ясно, что наша троица хоть и кормится странным отвлеченным трудом, проживает все-таки не в башнях из слоновой кости, куда грубые звуки жизни не долетают, а в близком с ними соседстве, в рабочих низинах, и, судя по всему, простые земные желания нам не чужды. Пусть этот остробородый читает что-то мудреное о какой-то Элладе, золотом сне человечества, – видно же, что производитель он еще тот, племенной, и, дай ему волю, многих бы тут испортил, стихотворец! Да и двум другим тоже палец в рот не клади – вишь, как зырят, шепчутся, усмехаются! Неплохие мужики, простецкие, свойские. Так они, наверно, думают, наши слушательницы.
А Лизонька моя что думает, то и говорит. Диалог наш то есть продолжается.
– Ты не такой, – говорит она, опять начиная задыхаться и раскачивать меня.
– А какой?
– Не такой.
– А какой, какой?
– Другой. В рубашке.
– Ну и что?
– Только с проститутками ложатся в рубашках…
– Снять?
– Не надо. О-о! Юрка! Ты меня разлюбил?
– С чего взяла? Нет.
– А почему… о-о!.. ничего другого не просишь?
– Ты же сама запретила. А я…
– Хочешь по-всякому, да?
– Да. Давай!
– Нет. Нельзя. О-о! Я такая гадина! Бабуля моя! Юрка! Влупи мне, гадине! Не жалей меня!
– А я что делаю, милая?
– Милая? Повтори!
– Милая.
– Милая?
– Милая.
– Милая?
– Милая.
– Любимая?
– Любимая.
– Любимая, правда?
– Любимая, – повторяю я за ней, как попугай, как попка-дурак, раскачиваясь, стоя на коленях, приподняв ладонями ее крутой задок. И тут начинается необыкновенное солнечное затмение, с обыкновенными солнечными затмениями, а тем более лунными, не схожее. Постараюсь объяснить. Полное. Солнечное. Затмение. Не лунное. Лунные затмения часто бывают. Подумаешь, лунное затмение! Не видали мы, что ли, лунных затмений? Их не сравнить с полным солнечным затмением, когда солнце видишь в последний раз, а вместо него даже луна не появляется, – такое исключительно полное солнечное затмение. С очевидной невозможностью возврата света… ужас! Нетипичный ужас с астматическими задыханиями и стонами и чернотой в глазах, как при агонии своей и солнца. Причем, возможно, что даже орешь от страха – и не один, а вместе с ней, и думаешь, что она погибнет первой, а ты вторым, или оба разом в полном мраке. И оба орете от страха, хватаясь друг за друга, и знаете наверняка, что никакая сила в данный момент не расцепит вас, не растащит, как отца и дитя, или как мать и дитя, – такие вы единокровные и любящие в своем далеко не обыкновенном соитии.
Ну, и, поорав, замолкаете, ошеломленные. Это уж обычно.
Нет, все-таки не обычно. Теодоров никогда еще не получал таких сильных, страстных поцелуев постфактум. Он сам, впрочем, тоже никогда не отвечал постфактум таким безудержным, слабоумным лизаньем Лизоньки, как сейчас. Она его целует и лижет, и он ее, получается, тоже целует и лижет. Они оба, видимо, страшно рады, что спаслись, пережив полное солнечное затмение. Оба что-то косноязычно бормочут непослушными языками о необыкновенном солнечном затмении, положившем, конечно же, начало новой эры, в которой они никогда уже не смогут разлучиться.
– Знаете, – говорю я, ободренный хорошим смехом рыбообработчиц, – анекдотических случаев в литературном прошлом было много. Ну, вот еще расскажу. У меня выходила повесть, главная героиня которой семнадцатилетняя девушка, вчерашняя школьница. Повестью заинтересовался один московский театр. Я написал по ее мотивам пьесу. И вот пьесу стали читать в Министерстве культуры. Я как раз был в Москве и вместе с режиссером пришел в Министерство. Там нас приняла одна ответственная дама. И знаете, что она заявила? «Вашу пьесу, уважаемый автор, я не могу пропустить». Как? почему? Она отвечает: «А потому, что вы позволили вашей семнадцатилетней героине забеременеть!» Представляете? Так и сказала, как будто автор непосредственно повинен в этой беременности. И зарезала пьесу на том основании, что, дескать, история с ранней беременностью совершенно нетипична для советской действительности. Представляете? Вот какие страшные времена пережила наша литература, – говорю я скорбно. – А сейчас, знаете, другая крайность: свирепствует порнография, наглый секс… ну, вы знаете, наверно.
Они шумят, переговариваются – я задел, видимо, чувствительную тему.
Илюша под столом бьет меня ногой: мол, закругляйся, лимит времени исчерпан. Я закругляюсь:
– Вот мы и познакомились, дорогие женщины. Надеюсь, вы не считаете, что эти сорок минут потеряны зря. Нам было с вами интересно. Мы вам благодарны за внимание. Есть у вас к нам вопросы?
О да, вопросы есть, правда, однообразные. Лизоньке хочется знать, зачем я потащился на Север, с какими сучонками там встречался. Кого встречал в Москве, каких сучонок? Ей известно, сколько в Москве сучонок – море! А кривоножку Суни я уже успел посетить? Она эту сучонку когда-нибудь убьет. А не занес я ей в постель какую-нибудь сучью гадость? Погоди, погоди! А это что за укусы? Какая сука меня искусала?
– Перестань, – морщусь я, натягивая рубашку. – Это я пьяный о косяк звезданулся.
– Врешь, это явный укус!
– Лучше спроси о моих творческих успехах, – перевожу я на другую тему. Но Лизонька свирепеет.
– Я тебе изменю в Москве, так и знай! – кричит она.
– Тогда не возвращайся. Мне изменщицы не нужны.
– Все-таки ты свинья, Теодоров! Я такая молодая, а ты такой старый, и ты меня ни капли не ценишь!
– Глупая, – глажу ее по волосам. – Кто я теперь без тебя? Никто. Даже не человек.
Лизонька сразу стихает, тесней прижимается ко мне.
– Продал свой роман? – спрашивает она.
Теодоров закуривает. Он лежит на спине то ли хмельной, то ли уже нет, в тесной комнатенке медицинского училища, в городе Тойохаре, который расположен на острове, а остров этот в свою очередь расположен в океане, который омывает все земные материки, которые подпирают спинами три кита, которые, собственно, уже истреблены и занесены в Красную Книгу, – с белокожей девушкой Лизой, которая дана ему в награду за примерное поведение, для поддержки его краткосрочной жизни… именно так обстоит дело. Время идет, не желая останавливаться, намекая, что остановиться невозможно даже в такие минуты неподвижности и задумчивости и грустного осознания гибели бедных китов, поддерживающих своими спинами бедную Землю… печально это! Не избежать Лизоньке, ныне юной, своей, понимаете, старости. Теодоров напишет новый роман до последнего листочка и засмеется нелепости им содеянного. Сестры и братья, дорогие соотечественники! Вам жалко бедных загубленных китов, когда-то подпиравших нашу землю? Тик-так. Это часики стучат. Надо успеть доказать юной Лизе Семеновой, что есть на свете человек (это Теодоров), который со щемящей болью, болью щемящей прислушивается к ее сердцебиению под левой грудью и смиренно дарит ей свои геологические запасы нежности. Взамен он просит немного – чтобы киты жили и поддерживали Землю, когда его самого не станет, ну, и еще небольшого животного тепла самой Лизоньки, в просторечье называемого, кажется, любовью. Милая и драгоценная, и женщина! (А Теодоров мужчина.) Зачем она улетает к мертвой бабушке от живого еще Теодорова? Не восстанет бабушка, а я могу утерять за эту неделю это радостное чувство зависимости от дыхания и сердцебиения внучки. Потому что тик-так, тик-так. И грубые гарпунщики москвичи, более молодые, чем Теодоров. Надо же понимать все-таки, что время переливается из настоящего в будущее, а в прошлое – никогда, как я полагаю. Не продал я свой роман, Лиза, нет, но может ли это помешать нам еще раз напоследок соединиться, как верным друзьям детства?
О-о, у-у – символы нечленораздельного счастья. В дальнейшем… пропускаю… мы достигаем вершин взаимослияния и понимания. То есть я могу продолжать жизнь Лизой, а она Теодоровым, и никто не заметит подмены, настолько я осознал и почувствовал себя Лизой Семеновой, летящей на похороны бабушки, а она себя Юрием Теодоровым, вскоре уезжающим на Курилы, чтобы потом снова встретиться надолго и навсегда, и опять перелиться друг в друга. Ночь, и мы необыкновенно нежны друг к другу, как нежна, понимаете, сама ночь. Мы говорим робкие и нежные слова: «солнышко», «ласточка», «наважка моя», «лосось мой золотой»… ну, не так, конечно, но набор ласкательных слов примерно таков, и прикосновения наши легки, как дуновения. В аэропорту я не отпускаю Лизоньку ни на шаг от себя, все время обнимаю за плечи, целую, ласкаю – наконец, она не выдерживает такой муки и плачет. (Впервые.)
– Юра, – всхлипывает, – так не хочу улетать!
– Ну, с Богом, – отвечаю я невпопад. – Жду. Быстрей возвращайся. Я приеду с Курил и сразу устроим в доме ремонт. Тараканов прогоним, ты их не любишь. Я вернусь на работу в редакцию. Буду много зарабатывать, тебя кормить. Пить я брошу. Зачем! Ты слаще вина. Так что пить я брошу. Такая наша программа. Хорошая?
– Хорошая, – кивает и всхлипывает Лиза, сама на себя непохожая – слабая, беспомощная.
И так получается, что самолет улетает. Нашелся бензин-керосин, все в самолете исправно, и он – на тебе! – улетает, как дурак, вместе с Лизонькой. (Иногда ненавижу авиацию!) А я глубокой ночью в одиночестве возвращаюсь в свой дом, чтобы на следующий день в полдень сделать в туалете открытие, которое потрясает меня своей несомненностью. И вот вскоре появляется деловой Илюша Скворцов с набором лекарств и шприцов (запасливый!) и командует мне: «Жопой к свету, Юра-ша!» – как обычный прозаик, а не поэт.






