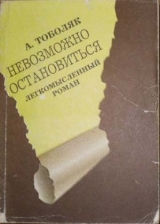
Текст книги "Невозможно остановиться"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
4. СМЫВАЮ ГРЕХИ
Надо в таких случаях сдирать этикетки и пить не афишируя, чтобы не вызвать зависть других голых, менее удачливых. Делиться ведь, собственно, нечем – не канистра у меня, друзья, не цистерна! Уже после первого захода в парную, опоражнивая бутылку, чувствую, что начинают созревать имперские планы дальнейшего времяпрепровождения. Омерзительно я все-таки живуч! А все потому, что располагаю свободой действий, независим от расписаний и указаний, от бытовых обязательств. Это дано не всякому. Это мое большое демократическое завоевание. Ведь ясно, что одно дело конституция общая, а совсем другое – личная, неподконтрольная свыше. Вот пью пиво, потею, а потом оденусь и пойду – куда? Да куда угодно. И что буду делать? Да что угодно, согласно моей конституции.
Так уже два года, и каждый из них котируется, как один, предположим, к пяти, с годами прежними, подневольными. Недаром же замордованные мои приятели вздыхают иногда: хорошо тебе, Теодоров, сам себе хозяин! Тот же Иван вздыхает, тот же Мальков, да и другие благонамеренные. Я их понимаю. Сам прошел той же дорогой – подтвердили, Юля Зайцева, жена № 1, и ты, Клавдия, и вы, многочисленные начальники. Не вы ли, как рабовладельцы, свистели бичом надо мной, галерником? Вот смотрите: весь в рубцах и шрамах Теодоров-сан! Не считались вы с моим свободомыслием, с моей жаждой внерабочих и внесемейных познаний. Странно, что люблю вас и по сю пору – и тебя, простушка-хохотушка Юля, и тебя, строгая умница Клавдия, и вас, дорогие начальники. Вы не виноваты. Вы считали, что свобода бывает от сих до сих, как дорожка для прогулки в зоне, и в этих пределах дозволяли мне самостоятельность. Уповали, что перебесится Теодоров, войдет в берега мудрого здравомыслия, избавится от детской дворовой тяги ко всему запретному – прежде всего к шумным разговорчивым компаниям, этим стойким ячейкам общества. Пиши, Юра, говорила ты, Клавдия, пиши, раз дан природой мало-мальский дар, не теряй времени. Ну и не писал разве Теодоров?
Еще как! Много. Ночами глухими, безобразно трезвый, прокуренный – букву за буквой, слово за словом. О чем же? Да все о том же (буль-буль): о любви ненасытной к таким же, как он, двуногим, к перемещениям в пространстве, ну, и об отвращении своем, конечно, ко всякому застойному кровообращению и идеологическому скудоумию. Вот, пожалуйста, могу вспомнить книжки: «Сережа и Катя», «Путешествие с боку на бок», «Игра в бисер»… нет, это не мое, увы, у меня всего лишь «Игра в жмурки»… «Папа приедет» и так далее. Мало тебе, Клавдия? Это сколько же слов, сколько, е-мое, мыслей! И порой казалось Теодорову, что вот так сидеть за столом глухой ночью и есть его высшее предназначение. Кабы не наступал рассвет и не озарял подлинную действительность, перед которой черновики мои стыдливо съеживались – и Теодоров (это я) осознавал, что есть и другие ценности, кроме буковок.
Об этом отдельно, в свое время. А пока иду на второй заход. Веник мой увесистый, хлесткий. Да, Лиза Семенова, думаю я, веник мой увесистый, хлесткий. Хочу прийти к тебе, Лиза, чистокожим, светлолицым, скажу даже, помолодевшим. Ох, обжигает как! Жирный мужик рядом стонет, как роженица. Сочувствую ему, но советов не даю. Тут самоистязается каждый по-своему, у всякого свой творческий почерк. Отвернись, Лиза, не смотри: сейчас я пропариваю причинные места, нашу надежду и усладу. Так их и этак! Хлесть, хлесть… у-у! Пот заливает лицо, пар обжигает тело, невтерпеж, Лиза. «Кончай!» – подсказывает мне головной мозг (есть мозг, есть!). Но тут жирный мужик, сидящий рядом, вдруг валится набок, выронив веник. Я ору: «Мужики! Мужику плохо!» Веники застывают. Трое тут же бросаются на помощь. За ноги его, за руки – ох, и туша, мужики! – поднимаем и спускаем с верхнего полка. Переговариваемся: эй, помоги еще кто! под спину поддержи, под жопу. Ага, вот так. Хрипит мужик – значит, жив. С таким брюхом лезет в парную, козел! Ладно, с каждым бывает. Тащим, пыхтим, вносим в раздевалку и укладываем на скамейку. Мать, звони скорей в «скорую», доходит тут один! Скорей, мать. Господи, да что ж это такое? Только что из женского увезли. А это, мать, наверно, его жена. Они семейно решили. Ха-ха-ха! Чего гогочете, мужики? с вами бы так! Дышит хоть? Дышит. Гляди, глаза открыл. Эй, мужик, ну как? Оклемываешься? Мать, погоди звонить, вроде пришел в себя. Ему бы сейчас стопарь – и порядок. Ха-ха-ха.
Старуха-служительница разгоняет всех: ржут, дохнуть не дают бедняге! Вызывать, что ли, скорую или не надо? Ну, гляди сам.
Я возвращаюсь в парную за веником, а затем встаю под ледяной душ. Но душевный подъем уже не тот, на порядок ниже. А кто виноват? Да этот толстяк. Напомнил невовремя о нашей мимолетности, краткосрочности. Заставил солнце за окном потускнеть, направил мысли по знакомому темному пути: отсюда – туда, от живых – к мертвым, от простыни, в которую его завернули, к погребальному покрывалу.
А обморочный пузан уже пришел в себя, сидит бледный, тяжело дышит, соображает, наверно: что это было со мной? Семья, конечно, есть, дети, внуки, сберкнижка… мало ли чего… и все это чуть не ускользнуло от него, надо же!
Я пью из горлышка вторую бутылку. Опять – в какой уж раз! – с мрачным любопытством разглядываю гостей, пришедших проводить Теодорова в последний путь. Мать… отец… братья… они прилетели, конечно… какие темные у них лица! Жаль их. Дочь Олька плачет, плачет… ее особенно жаль. Суровая Клавдия… «я предупреждала тебя, Юра, ведь я предупреждала»… ну, друзья-приятели, конечно, со своими женами. «Бедный Юра!» – это жена Малькова. Сам Мальков и Медведев смотрят неотрывно: «Что ж ты наделал с собой, болван?» Бывшие коллеги по редакции: «Эх, не выпьем уже с Теодоровым!» Знакомые девицы, в количестве достаточном… та же Суни с замкнутым лицом восточного божка… Шепот: «Как он изменился! Совсем не похож на себя». Издатели мои тут же и коллеги по творческому союзу, само собой… Похороны за счет Союза, надо полагать. Не зря же я все-таки усердно писал буковки столько лет, верой и правдой служил отечественной словесности… прости, словесность! Вот Илюша, вот Вадюша, Андрей, Митя, Егор, Клара… непривычно неулыбчивые. Эх, Юраша, на хрена ты это сделал! Знали бы, держали бы тебя в смирительной рубашке… не уследили, да и как было уследить!
Есть горечь на этих лицах, есть. Спасибо. Но это пройдет вскоре. Может, даже уже на поминках, а в крайнем случае на вторых поминках, через девять дней, а через год, на третьих, стану уже не Теодоровым с живыми приметами, а неким художественным образом без крови и плоти. Буду удаляться, растворяться, исчезать. Это происходит быстро – знаем, не маленькие! А книжки мои, на которые ухлопал годы, зарастут таким быльем (уже заросли!), такими лопухами, крапивой, медвежьими дудками, папоротником, что ни один изыскатель не раскопает, это уж точно.
– Слушай, друг, не продашь бутылку?
– Что такое? – пробуждаюсь.
– Бутылку, говорю, не продашь?
– Не могу, друг. Одна осталась. Для третьего захода.
То есть, тряхнув головой, чтобы согнать мутную одурь, иду на третий заход. Парная битком набита, тесно. Живые люди вокруг, ни одного покойника! Очень жизнелюбиво хлещутся, стонут, крякают. И я, проскользнув наверх, истово включаюсь: хлещу себя зверски, словно бесов выгоняю, постанываю, крякаю… тебе, Лиза, лучше все-таки этого не видеть!
Все. Напарился. Надо отваливать.
Пошатываясь слегка, омывшись под душем, я выхожу в раздевалку, заворачиваюсь в простыню, жадно пью. Есть просветление или нет? Есть! Вот оно: легкое перистое облачко, всплывающее изнутри. Лето впереди, и я уже слышу гул самолетных турбин. Несут куда-то в отечественных небесах… к брату? к родителям? в Дом творчества?.. посмотрим! Неисправимо все-таки живуч Теодоров.
5. ЗНАКОМЛЮСЬ С ЛИЗОЙ
На крылечке бани происходит незапланированная встреча. Меня окликает чернявая, шустрая девица с огромной сумкой. В первый момент не могу узнать, кто такая. И во второй тоже. Мелкие черты лица, острый носик, живые глаза. Безбоязненно улыбается.
– Погоди, погоди… – бормочу. – Ты ведь…
– Ну да. Зина.
– Черт возьми! Какими судьбами? С Шикотана?
– Нет, я уже не там. Я на плавбазе теперь. С рейса пришла. А ты как? – приглядывается она ко мне.
– Я как? Да вот так, как видишь. Работаю в бане. Иду со смены.
– Так я и поверила! С легким паром!
– Спасибо, Зина. А ты все такая же. Не изменилась. Значит, рыбачкой стала?
– Жить-то надо, – шмыгает она острым носиком.
– На разделке?
– Ага, на разделке. Я у подружки остановилась. Скоро снова в рейс.
– Ясно! Ну, и что будем делать, Зина? Как будем жить дальше?
Она смеется. Живые глаза блестят. Лет двадцать, не больше.
– Это ты уж сам решай.
– А ты свободна вообще-то?
– Как сказать… Освобожусь.
– Телефон у подружки есть?
– Есть.
– Давай.
– Все равно ведь не позвонишь, знаю. Ладно! – Она называет номер.
– Ну, жди вечером звонка. С легким паром!
– Ага. Спасибо. Только не обмани.
– Да уж будь спокойна.
И, улыбнувшись друг другу, расстаемся после такой содержательной беседы. Мысленно я повторяю номер, хотя вряд ли им воспользуюсь. Потому что неясно, что со мной приключится в ближайшие часы, а еще потому, что есть некая загадка в наших с Зиной взаимоотношениях. До сих пор мной не установлено: она, Зина, или ее подруга – толстенькая такая, помнится, матерщинница – надолго выключили меня из активной жизни. Около двух лет прошло, кажется, с тех пор.
«Поздравляю! – сказал мне носатый, черноволосый, веселый венеролог. – Типичная гонорея. С кем изволили общаться?» – «Это трудно, знаете, вспомнить», – нахмурился Теодоров. – «А вы постарайтесь. А то упечем в стационар. У нас такой порядок». – «Писателя в стационар?!» – возмутился Теодоров. – «А почему нет? Там найдутся читатели. Ну, давайте! Припоминайте всех потенциальных». – «Предполагаю, что Зина или Лена. Фамилий не знаю», – трудно выговорил Теодоров. «Так. Так. Фамилий не знаете. Но адрес-то, надо полагать, известен?» – «Какой адрес на Шикотане! Барак на бараке. Там их полно. А девиц как сайры».
– «Знаю. А работают где? Вы поймите: вы других мужиков спасаете». – «Я понимаю. На рыбозаводе работают. Но там их несколько. На каком именно – мне неведомо». – «Пьяны, конечно, изволили быть?» – «Да уж не трезв». – «Что ж, так и запишем. Амнезия, запишем, у писателя. После Зины и Лены отношения имели?» – «Не успел, доктор. Потекло. Еще на пароходе». – «Женаты?» – «Разведен, месяц назад». – «Та-ак-с! Понятно. Придется, товарищ классик, дать подписку». – «Что еще за подписка?» – «А такую подписку, что вы на шесть месяцев прекращаете свою половую деятельность». – «Шесть месяцев?!» – «Не меньше! Ничего, воздержание полезно. И вообще мужайтесь!»
И с этим напутствием я прихожу, помнится, к своему попутчику по творческой командировке, к своему, так сказать, подельнику и сообщаю ему: «Поздравь, Алеха. Чистейший триппер». И он бледнеет, мой дружище. Он ждет, видите ли, в скором времени приезда из отпуска своей жены, а Зина и Лена ему тоже знакомы не понаслышке. «А у меня ничего нет, – бормочет. – Никаких таких признаков». Надо утешить его, и я утешаю: «Это, Леха, бывает. Значит, ты более стойкий. Или общаешься с ними по-дилетантски». – «Убить их, сучонок, мало!» – рычит Леха. «А вот это ты зря, – говорю. – Мы сами напросились. А, кстати, они могли и не знать, что больны. У них все иначе, чем у нас». – «Всех ты жалеешь, всех оправдываешь, христосик!» – «А как же! Жизнь у верботы несладкая. Да ты ведь чист». И правда, все у него обошлось.
А я вот встретил одну из двух виновниц и взял у нее телефон, хотя, может быть, именно благодаря Зине чуть не полгода у меня вылетело вхолостую… Нет, нельзя сказать, что вхолостую. Трезвый и непорочный, я усердно писал буковки, которые, постепенно множась, превратились в большую повесть о беззаветной любви.
«Может, и позвоню, – думаю. – Боевая ведь девица Зина. Много чего знает. И на суше, и на море. Интересно с ней!» – И с этой мыслью вхожу в будку телефона-автомата.
Откликается сам Мальков Виктор Алексеевич, гинеколог, стало быть. Мы обмениваемся приветствиями. Он радуется, что я жив, а я прошу его позвать к телефону Жанну.
– А зачем тебе Жанна? Спрашивай меня. Я все знаю, что она знает, даже больше.
– Неужто? И даже адрес практикантки по имени Лиза тебе известен?
– Может быть. Но зачем она тебе? Она не для таких пьянчуг, как ты.
– Слушай, Малек, не хами. Я ночь не спал, думал о ней. А ты в любви ничего не понимаешь, только во внутренних органах.
– Ладно, сжалюсь. Она здесь.
– Да ты что!
– Вот именно. Пришла в гости. Садимся за стол.
– Осень хоросо! Еду! Жди.
– А кто тебя приглашал, интересно?
Но на такой дурацкий вопрос я не отвечаю. Выхожу из будки и думаю: надо же, все одно к одному! Как замыслено, так и осуществляется. Думаю: надо бы купить цветы на Ивановы деньги, давненько не приобретал я цветы. И действительно покупаю у старухи-кореянки шесть великолепных, предположим, тюльпанов. И сразу сам себя чувствую в каком-то смысле тюльпаном, обрызганным свежей водой.
Шагать недалеко. С улицы Ленина сворачиваю на проспект Коммунистический, то есть из революционного прошлого попадаю сразу, без промежуточных периодов, в сияющее будущее. Здесь у домов этажность особая, здесь дворы почище, собаки выгуливаются породистые, а у подъездов стоят машины преимущественно японских марок. И Теодоров-сан хорошо вписывается со своими цветами в этот положительный пейзаж, не разрушает его.
Мальков, конечно, поражен:
– О! С букетом! Какой подарок! Спасибо, Теодор!
– Не прикасайся, – говорю я, – к восемнадцати рублям.
– Откуда у тебя такие бешеные суммы?
– Я писатель! – огрызаюсь. – Не знал? Писатель я!
– Извини, подзабыл. Входи, что ж.
Гинекологи, женатые на журналистках, как правило, хорошо живут, безбедно, но уюта в их домах мало. У них беспорядок, разброс вещей и книг, есть эстампы на стенах, но висят косо; их дети, если они маленькие, – безудержные и неуправляемые, а если взрослые, как у Мальковых, то их вообще не бывает дома. Не знаю, чем это объяснить.
– Ну вот, я вас нашел, – удовлетворенно говорю я, входя в комнату, где за столом в одиночестве сидит и курит вчерашняя Лиза. На ней потертые джинсы, какая-то замысловатая курточка.
– А зачем вы меня искали? – не удивляясь, бесстрастно спрашивает она.
– Ну как же! Я же должен извиниться.
– За что это?
– Вчера вы попросили проводить вас домой, я пообещал, но я не сумел.
– Вы меня с кем-то путаете.
– Не может быть! Вы же Лиза?
– Я Лиза.
– Вот видите. Вы ничуть не изменились со вчерашнего.
Тут влетает (всегда влетает, а не молоденькая уже) Жанна Малькова – не иначе, как из туалета, – со словами: – Теодорчик, милый, здравствуй! И входит следом за ней сам Мальков, несет, догадливый, «огнетушитель» и бокалы.
И вручаю Жанне три, предположим, тюльпана. Еще три я протягиваю гостье, которая с некоторым недоумением, пожав плечами, принимает их и кладет на край стола. Жанна, разумеется, целует меня в щеку (за ней не заржавеет), а практикантка ограничивается беглым «спасибо».
Мальков походя замечает, что цветы, вероятно, ворованные – бездарно так шутит. Затем он спрашивает, кто хочет причаститься. «Я!» – сразу кричит Жанна. «Мне не надо», – мягко отвергает Лиза. «Я тоже, пожалуй, не буду, – рассеянно заявляет Теодоров. И в наступившей тишине добавляет: – А, пожалуй, буду».
Жанна хохочет, жизнерадостности ей не занимать. Она требует, чтобы Лиза тоже пригубила. Есть повод. В газете «Свобода» большая статья Лизы. Безжалостный материал о бывших партаппаратчиках. «Перестаньте, пожалуйста», – смущается московская гостья и в смущении, надо полагать, выпивает вдруг пол-бокала агдама (агдама, конечно). «Вот молодец! – хвалит ее Жанна. – Лиза очень талантливая, Юра, знай. А Юра у нас тоже небесталанный», – прямолинейно наводит она между нами мосты. «Да, – соглашается Теодоров насчет себя. – Сегодня вот дал интервью японскому телевидению. Не отдал я им Курилы. То есть Ваня Медведев не отдал». – «А причем тут Иван?» – «Я говорил от его имени, Жанна».
Мальков тонко смеется и выходит из комнаты – наверняка звонить Ивану.
– А когда выйдет твоя книжка? – не терпится Жанне разрекламировать меня. – У него, Лиза, выходит новая книга.
Я кривлюсь: все-таки лобово это, Жанна, дорогая.
– А я вас читала, – вдруг звонко заявляет зеленоглазая. – Еще в школе.
– Неужели? – хмуро спрашиваю. – И что именно?
– «Сережу и Катю».
Я кривлюсь еще сильней: давняя повесть, очень давняя, первый лепет, разгон пера… Сам я воспринимаю ее как большое школьное сочинение, а гляди-ка, кто-то еще читает.
– Сочувствую вам, – говорю. И опоражниваю свой бокал.
– Почему же? Мне понравилось. А некоторые мои подруги были без ума от вашего Сергея.
«Лучше бы от автора», – думаю я. Но что-то теплое (агдам, наверно) разливается по телу от ее лестных слов… словно она меня нежно погладила, а вдобавок трепетно поцеловала. И слышу, разомлев:
– А о чем ваша новая книга?
Но Мальков, беспардонный, входя, обрывает завязь беседы. Он позвонил Ивану. Иван возмущен. Он клянется, что подаст на меня в суд, а заодно лишит дальнейшего кредитования. Иван потребовал, чтобы мне больше не наливали и вообще вытурили из дома.
– Неблагодарный он все-таки, – качаю я головой. – Эта новая книжка, Лиза, о сильной и светлой любви.
– Юра пишет только о любви! – горячо поддерживает меня личный секретарь Жанна.
– Я вам подарю книжку бесплатно, Лиза.
– Неужели? – улыбается она. (Уже улыбается.) Мне кажется, что агдам исподволь взялся за нее и понемножку перетягивает на свою сторону. В ее глазах загорелись огоньки, припухлые губы приоткрылись, она вольным жестом отбрасывает длинные светлые волосы. А я думаю: как же она провела ночь и где? Тот молодой плечистый программист… добился ли он своего? Неизвестно мне также, замужем она или нет… социальное происхождение не известно… не ясно, какие книжки читает, кроме моих… уважительно относится к сексу или пуританка… многое, словом, не поддается вычислению, много загадок она хранит.
Я хочу их разгадать, подвигаюсь ближе, сам наливаю ей вина, подношу пачку с сигаретами, чиркаю спичкой.
Она смеющимися глазами одобряет мои действия. Но и Мальков не желает оставаться в стороне – гинеколог он или кто! женщина Лиза или кто? в своем он доме или где?
– А вот, Лиза, покажу-ка я вам коллекцию минералов, – вдруг заявляет он. – Пойдемте, не пожалеете! – И позволяет себе на глазах Жанны положить свою руку на Лизину, как бы врачуя. Она порывисто встает, и Мальков уводит ее в другую комнату.
«Ну, Витя, четвертуют тебя сегодня», – жалею я друга. Ибо Жанна такая. Она абсолютно спокойно относится к кошмарной работе своего мужа, даже полагает, что множество женщин, проходящих через его руки и лишенных своей извечной тайны, это своего рода гарантия безопасности семьи. Но любое невинное ухаживание в ее присутствии… Глаза Жанны нехорошо блестят.
– Мальков! – кричит она уже через три минуты нашей болтовни о том, о сем. – Иди-ка сюда!
– Сейчас, дорогая, – тонким голосом откликается безумец. Потерял напрочь чувство самосохранения.
Но все-таки тут же возвращается, причем, ведет Лизу под руку, точно они успели в той комнате по меньшей мере обручиться.
– Есть уже никто не хочет, – жестко говорит Жанна. – Будем пить чай. Но сначала унеси посуду и помой. А вино оставь. Мы допьем.
И правда, мы втроем исправно приканчиваем большую бутылку (Лиза Семенова не отказывается), пока Мальков очень задумчиво носит на кухню посуду и гремит ею там. Дальше – чай. Дальше неинтересно. Сбивчивый разговор о газетных делах, о новых изданиях, о происках партийцев, не утерявших еще власти, о проблемах нашей свободной экономической зоны.
– Я, пожалуй, пойду, – докурив сигарету, встает Лиза. Встаю и я, мне тоже пора.
– Ты проводишь Лизу? – адресуется ко мне Жанна.
– Обязательно.
– Собственно… – начинает было гостья, но не договаривает. Мы прощаемся с Мальковыми в прихожей, благодарим за угощение. Я успеваю шепнуть другу Вите, что завтра справлюсь о его самочувствии.
6. У МЕНЯ ДОМА
Последовательности изложения – вот чего я придерживаюсь. Я, Лиза, придерживаюсь последовательности изложения. Согласись, жизнь реальная не допускает сочинительских эффектов, при которых будущие события вдруг внедряются в сегодняшние, наплывает прошлое, чтобы соединиться с настоящим… и эти три измерения, переплетаясь, как лесные тропки, создают впечатление полнокровности литературного бытия. В действительности движение всегда последовательно и единонаправленно: с востока на запад по солнечному кругу. Невозможен, Лиза, возврат назад или скачок – через календарные даты – вперед. Да и событий, будем честными, немного. Из прошлого помнится десятка два узловых эпизодов, а настоящее вполне укладывается в слова «проснулся», «пошел», «сделал», «заснул». Будущее – игра воображения. Чего уж тут мудрить! Встаешь, идешь, делаешь, засыпаешь.
В идеале часовой текст для чтения должен вмещать час жизни героя, а не так, как бывает в книжках: всю жизнь от рождения до смертного ложа. Но при таком буквализме, Лиза (учу тебя, будущего литератора), есть опасность мелкомасштабности, сужения зрения на бытовых частностях, – опасность дикого занудства, не прощаемого нетерпеливым читателем. Последовательное движение может обернуться топтанием на месте под уличными часами с застывшими стрелками. С другой стороны, что поделаешь? Раз вышли мы из квартиры Мальковых, то вынуждены пройти или проехать по улице, прежде чем куда-нибудь попадем. Так ведь? А надо ли это описывать? Надо, строго говоря. Однако, читатель-сирота (у читателей сиротский вид за книгой, замечала?) может возмутиться: какого, мол, хрена! На кой мне знать, на каком транспорте вы ехали? Укладывай, автор, свою Лизу сразу в постель, к чему ты, кажется, ведешь. Давай конечный результат без промежуточных звеньев.
То есть предлагается вырвать частицу времени из общего потока, произвести его усечение, резекцию. Но при таком хирургическом вмешательстве выпадает, например, главка «В автобусе» на пять так, примерно, страниц, на десять реальных минут, необходимых для того, чтобы добраться до моего микрорайона… жаль!
Да-а, такие вот сложности в нашем ремесле. Приходится описывать действительность избирательно. Это похоже на то, как набиваешь походный рюкзак не всем, что есть в доме, а лишь необходимым в дороге.
От последовательности изложения все-таки не отказываюсь. После квартиры Мальковых привожу Лизу Семенову к себе, в свою однокомнатную, пообещав подарить книжку. Да, я квартиросъемщик. Это результат либеральности Клавдии. Она не выгнала меня, как собаку, на улицу под снег и дождь, чего я, в общем-то, заслужил, – нет, мы чинно-благородно разменялись. А свой угол, если даже нет в нем животного домашнего тепла, все-таки ценен и необходим. Здесь может стоять кухонный стол, пригодный как для еды, так и для одиноких посиделок над листом бумаги; есть вода, свет; есть вполне приличная тахта; имеется исправный репродуктор, обеспечивающий живую связь с Москвой, – а больше, я полагаю, ничего не надо Теодорову, ну, разве еще тарелки, ложки, кастрюля, сковорода.
Бытовое обеспечение, таким образом, превосходное. Теодоров законно горд. И он не понимает, почему его гостья Лиза, осматривая квартиру (а хозяин норовит показать ей даже туалет), хмурится и не удерживается от вздоха.
– Что, Лиза? Что-нибудь не так? – тревожно спрашиваю я.
– Живете вы по-спартански.
Мы все еще на «вы», но скоро должны, видимо, перейти на более дружеское обращение…
– Чаю, Лиза? – широко предлагаю я на кухне.
– А у вас есть заварка?
– Ах, черт! Нет. И сахару тоже.
– Тогда, пожалуй, не надо, – отвергает она несладкий кипяток. Капризная какая! – думаю я. И предлагаю новый соблазн:
– А вот моя рукопись. Хотите взглянуть? – Шевелю исписанными листками на кухонном столе.
Она бросает быстрый взгляд и зримо пугается:
– У вас такой почерк?
– Какой?
– Шизичный.
Гм… М-да… Довольно-таки сложная натура, думаю я. Но хозяйской уверенности не теряю. Есть еще в запасе книжки Теодорова на разных языках, театральные афиши с его именем – это сильнодействующее крайнее средство. Пойдемте, Лиза, в комнату. Садитесь на тахту, стул ненадежен. Неважно, что застелена, неважно. Курите, Лиза, вот пепельница. А вот типографские свидетельства многолетнего упрямства Теодорова, вбившего себе однажды по дурости в голову, что он сможет выразить себя через перо и бумагу.
Попадаю в точку: глаза моей гостьи разгораются.
– Вы столько написали? – искренне удивляется она, раскладывая книжки и журналы на коленях и тахте.
– Так получилось, – не отрицаю я своей плодовитости.
Издал я десять так, примерно, повестей да еще четыре пьесы. Это немало, если учесть, что писал их исключительно в часы просветленного сознания, отрешась от дружеских застолий. Все остальное время (тысячи дней) у писателей типа Теодорова уходит на процесс самоистребления, никак не связанный с ручкой или машинкой. Но Лизе это не обязательно знать. Она видит готовую продукцию, правильно? В достаточном количестве, правильно? И, следовательно, думает, что этот Теодоров при его шизичном почерке и порочных наклонностях способен все-таки к умственным полетам. Она сама пробует писать рассказы (пока только для себя), так почему бы не получить консультацию у профессионала?
Начинается все просто, охотно объясняет Теодоров. Однажды у младенца возникает желание высказаться. Дитя чувствует, что немота тяготит его. Хватит «уа, уа!». Пора сказать «мама, папа» и другие интересные слова. С Теодоровым это случилось лет в четырнадцать. Действие первого рассказа происходило в Париже. Герой носил аристократическую фамилию. И пошло-поехало. Остановиться стало невозможно. Много лет он пользовался в дневное время журналистским лексиконом, а по вечерам переходил на иную словесность, запрещающую такие обороты, как «трудовой подъем», «высокая производительность труда», «выполнение социалистических обязательств» и так далее. Кое-что стало получаться, но до тиражирования было еще далеко.
Ошибка, говорит Теодоров нравоучительно, превращать писание в серьезную, мучительную работу. Если обливаться потом, кряхтеть и надрываться, то можно родить только рекорд по поднятию тяжестей.
Ни в коем случае! – учит Теодоров, а Лиза серьезно слушает. Ежеминутное удовольствие, радость и любопытство должен испытывать автор, даже если он хоронит кого-то на своих страницах. Можно и всплакнуть, не возбраняется. Можно захохотать вдруг над какой-нибудь строкой.
Словом, назидает Теодоров, а Лиза серьезно слушает, происходит увлекательная игра по правилам самого сочинителя.
Желательно, подчеркивает Теодоров, кладя ладонь на руку Лизы, знать предмет, о котором пишешь. Если, к примеру, еще ни разу не любил, то влюбиться на бумаге чрезвычайно трудно. Важен личный опыт поцелуев, объятий, – особо подчеркивает Теодоров. Или другой пример. Не передашь качественно ощущение от ледяного спирта, льющегося в глотку, если сам пьешь исключительно теплый компот, да-а. Или безденежье. Надо испытать самому, что это такое, прежде чем лишать беднягу-героя средств к существованию.
Все это элементарно. Но есть странности, отклонения. «Вот у меня, – говорю я, нервно закуривая, – герои почему-то всегда моложе реального автора. Наверно, я не поспеваю за своим возрастом, как считаете, Лиза?» – И начинаю дрожать. И сглатываю комок в горле.
– Что с вами? – пробуждается гостья от задумчивости.
– А разволновался что-то. Это вы виноваты, Лиза. Слушайте, Лиза. А не прилечь ли нам? Лежа удобней беседовать. – Обнимаю ее за плечи.
Она отстраняется.
– По-моему, вы вчера належались. У вас были возможности. Разве не так?
– Я вчерашним днем не живу, Лиза. Вфсамом деле, отчего бы нам не прилечь?
– Зачем вам это нужно? – спрашивает она, немигающе глядя. Неплохой вопрос. Хороший вопрос.
– Как объяснить, Лиза? Предположим, мы созданы друг для друга, но сами об этом не знаем. Может такое быть? – И снова обнимаю за плечи.
Она бегло усмехается:
– Если даже так, то что?..
– Ну-у, проверив это, мы могли бы пожениться, – предполагает Теодоров.
– Слушайте, не дурите.
– А почему нет? Годы мои еще не старые. Средние годы. С большим сексом я, правда, расстался, но не трудно наверстать. Пью, правда. Но я отучусь, если меня бить каждое утро скалкой.
– О, Господи! Неужели вам сорок? Похожи на мальчишку…
– Одна проблема, Лиза: замужем ли ты? Ничего, что я на «ты»?
– Ничего. Я не замужем. И что из того?
– А была замужем? – развиваю я интересную тему.
– Нет, не была.
– Вот видишь! А замужем быть интересно. Так говорили мои бывшие жены.
– Почему же вы расстались? – смеется она. (Красивая все-таки! Диво дивное, как говорит мой дружище, поэт Илюша.)
– Все из-за безнадеги, – вздыхаю я.
– Как понять?
– Высший смысл утерян, – смутно поясняю я и чувствую выразительное шевеление в паху. – Жизнь, Лиза, очень занудливая штука.
– Я бы не сказала.
– Ну, ты юное создание! Кстати, ты коренная москвичка? – придвигаюсь я вплотную. Тотчас же слабое шевеление преобразуется в энергичное движение. Я закидываю ногу на ногу, удивляясь собственной прыти.
– Да, коренная.
– Родители там?
– Да. И две сестры.
«Многовато», – думаю я и спрашиваю:
– Такие же неотразимые, как ты?
В ответ ослепительная улыбка. Удачный комплимент отпустил Теодоров. Молодец!
– Сколько из-за тебя было смертоубийств, Лиза?
– Ни одного, представьте.
– Ну а как насчет светлой, чистой любви? Знаешь, что это такое?
– Вы что, интервью берете?
– Я же инженер человеческих душ. Я, Лиза…
Тут Теодоров, недоговорив, накидывается, мерзавец, на свою гостью.
Давно уже, ох, давно не прибегал он к насилию… верней, давно не выступал активным инициатором, да еще к тому же в трезвом состоянии.
Под действием агдама все происходит само собой, элементарно просто, как у двух, скажем, инфузорий, а вот в такие мгновенья (внезапные) надо проявить изобретательную страсть, вспомнить, как осуществляются, например, поцелуи… атавистические поцелуи… словом, оправдать свою несдержанность уникальностью обуревающих тебя чувств…
Странно, что все у меня, мерзавца, получается. (А вот с Суни бы сейчас ни в жизнь!) Опрокинул Лизу на тахту. Затяжной поцелуй. Головокружение. Дрожу очень естественно. Расстегиваю неверными пальцами ее курточку.
– Слушай… слушай… – бьется она. – Не надо, а? Зачем?
Что за бред! Что за прагматизм такой! Почему не надо? Что нам мешает? Какие такие физические несоответствия? Какие социальные бури?
– Надо, – бормочу. – Еще как. Будь умницей, Лиза.
– Ах, черт возьми! – вдруг восклицает она, отталкивая меня. – Всегда одно и то же. Вот что бесит!






