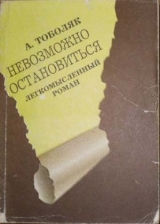
Текст книги "Невозможно остановиться"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Возможно. Но жалко! А давай сейчас поженимся, а? – предлагает раскрасневшаяся Елена Александровна. – Что нам стоит!
– А давай, – соглашаюсь я. – На часок-другой. Покажешь мне ту самую родинку. Только с дочерью как?
– Сама думаю. Дина! Дина! – громко зовет она.
Дверь открывается. Бледная, сумрачная девочка стоит на пороге кухни.
– Слушай, милая! – говорит ей мать. – А чего ты сидишь дома, как старушка? Такая хорошая погода. Иди погуляй. Сходи к подружкам или на видик.
– Я тебе мешаю? – спрашивает умная Дина.
– Да, ты мне мешаешь. Считай, что так. Можем мы с Юрием Дмитриевичем поговорить не таясь? Иди, одевайся.
– Я вам мешаю? – переводит Дина взгляд на меня.
– Да как сказать… – мнусь я, заискивающе ей улыбаясь. – В общем-то мама твоя права. Погода чудесная. Я бы на реку пошел… бумажные кораблики пускал бы по реке…
– Эх, мама! – вздыхает девочка.
Лена Абрамова вскакивает с табуретки.
– Что мама! – кричит она. – Что за дурацкие вздохи? Когда к тебе приходят подружки, я вам мешаю? Нет же! А ты? Ну-ка пойдем! – И, схватив дочь свою родную за руку, уводит ее в другую комнату. Дина успевает послать мне сумрачный, недетский какой-то взгляд.
Я сижу один, я курю. Меня гнетет мысль, что вот опять, как всегда, я нарушил семейное равновесие, вмешался в чужие судьбы, разъедаю, как сильная кислота, домашний относительный покой… а зачем? Я улечу, я забуду, я очень скоро забуду Лену Абрамову, на этой земле нам наверняка никогда уже больше не встретиться… так надо ли терзать памятливую, восприимчивую, угасающую, в сущности, женщину? Сволочь ты все-таки, Теодоров! Или нет? Или благо творю? – думаю я.
Но поздно уже идти на попятный. Уже щелкнул дверной замок. Уже выпровожена девочка Дина. Уже возвращается Лена Абрамова, рассерженная, растерянная – я вижу – но с дрожащей улыбкой на губах.
– Ну вот. Ушла, слава богу, – говорит она.
– Плакала? – спрашиваю я.
– А! Пусть! Переживет. Имею я, в конце концов, право на какую-то собственную жизнь? Или нет?
– Или да.
– Вот именно! А она меня терроризирует, бессовестная. А я веду себя, как синий чулок, честное слово, ничего себе не позволяю. Ну, идем, развратник! Ты все еще развратник?
– Какое там! После тебя жена – и все. Угас я, Лена.
– Ах, лгун! – приникает она ко мне, заглядывая в глаза. – А я тебя не насилую, дружок?
– Скажешь тоже! ради тебя прилетел, подружка.
– Так я тебе и поверила… Ах! – восклицает она. Это Теодоров по старой памяти подхватил ее на руки и несет, как в былые времена…
– Потолстела? Потяжелела? – сияя, допытывается Елена Александровна.
– Ничуть! куда?
– Сюда, сюда!..
…Пропустим, пропустим! Анатомическое строение Лены Абрамовой, в сущности, такое же, как у всех представительниц ее пола. Мне вообще не приходилось, надо признаться, встречать трехгрудую или двулоновую женщину, или, положим, женщину с маленьким, вертлявым хвостиком… не доведется, наверно, уже встретить и сильно при этом удивиться. А сейчас мы с Леной стараемся показаться друг другу прежними, ничуть не постаревшими. Лена любила, помнится мне, всякие гимнастические позы… шпагаты и мостики… она обожала кувырки и перевороты… а я поощрял, помнится, эти технические поиски, сам учился и ее обучал… отчего же сейчас я прошу ее:
– Ну, успокойся. Потише, Леночка, не так страстно. Я за тобой не поспеваю.
– А ты поспевай! Раньше поспевал!
Только что была подо мной и уже подпрыгивает на мне. Только что лежала лицом вверх – и вот уже стоит на коленях и локтях, призывно вскинув кверху маленький зад… а как больно хватает руками, того и гляди оторвет… Я чувствую себя беззащитным и молю:
– Полегче! Осторожней, Христа ради! Да что с тобой творится?
– А ты не понимаешь? Я же безмужняя, Юрочка. Я голодная. Ах, как я хочу! Я все время чувствую, каждую минуту. А ты?
– А я уж если завершу, то надолго.
– Старенький стал! Бедняжка! Хочешь в рот? – бесстыдно спрашивает она. (О, Лиза! В твоем бесстыдстве нет бесстыдства. Тебе все дозволено.) А от слов этой зрелой, почти сорокалетней женщины меня вдруг передергивает, и я отвечаю, заливаясь краской, как несмышленыш:
– Ну, давай. Только не кусайся, ладно?
– Не буду, не буду, дружок Юрочка! – И, конечно, делает Теодорову очень больно. Я воплю, а она сердится.
– Ну что такое? Какой ты недотрога стал!
А где же знаменитая теодоровская нежность – куда подевалась? Почему он не гладит Лену Абрамову по волосам, не бормочет ласковые слова благодарности? почему думает в этот момент… прости, Господи, и помилуй!.. о девочке Дине, тоненькой, длинненькой, бродящей неприкаянно по улице?..
– Зеркало принести? – отрываясь, спрашивает Елена Александровна. – Помнишь, как мы баловались с зеркалом?
– Не надо! – пугаюсь я. – Тогда было что разглядывать, а сейчас…
– Ага! Значит, я отвратительно выгляжу?
– Не ты, а я! Не надо. А когда она придет?
– Кто? Дина?
– Ну да.
– Эта чертовка может в любую секунду забарабанить.
– А-а! вот как! Тогда я… это самое… интенсифицирую процесс.
– Но мы же повторим, правда? Не сейчас, а ночью. Ты ведь переночуешь у меня, да?
– Если твоя Дина не выгонит.
– Пусть только посмеет!
Так она угрожает своей дочери, а я… почему я соглашаюсь остаться? Ведь ясно, что ошибся, приняв эту женщину за давнюю Лену Абрамову. Вот сейчас приходится призвать на помощь все свое воображение, чтобы выйти из состояния ступора… рисую с закрытыми глазами всякие мерзостнейшие и прекраснейшие картинки совокупления: юная девственница-египтянка и бородатый козел… я и какая-то темнокожая мулатка с венком на голове… я и Лиза… пока, наконец, не распаляю себя этими видениями и не постигаю со стиснутыми зубами, беззвучно, тот самый момент истины. И все-таки остаюсь в этой квартире, где прежде никогда не бывал, – не новой ли бутылкой коньяка прельщенный? Да нет, пожалуй. Очень жаль мне Лену Абрамову – так не хочется ей отпускать меня и оставаться наедине с дочерью. А дочка Дина не желает, ну не желает понять мать и смириться с моим присутствием. Полчаса всего-то погуляла, и вот опять – в какой раз! – заглядывает на кухню.
– Я есть хочу!
– Сейчас получишь. Ешь в своей комнате, – отвечает растрепанная мать.
– А почему не здесь?
– А потому, что здесь тебе нечего делать.
– Ты пьяная!
– Ах ты негодница! Ну-ка брысь отсюда!
– Вы пьяный, – говорит она мне.
Я встаю.
– Ладно, ухожу. Твоя взяла, Дина.
Но тут Лена Абрамова свирепо налетает на нее, выталкивает, силком уводит в комнату и тут же прибегает назад, хватая меня за руки:
– Юрочка, милый, не уходи! Ну, пожалуйста! Не обращай внимания на эту дурочку. Я ее скоро спать уложу. Я ей сказала, что ты будешь у нас ночевать.
– Ладно, остаюсь, – вновь опускаюсь я на табуретку. Пьян я уже основательно.
Затемнение. То есть на улице по-прежнему светло, хоть и поздний уже час, но хозяйка сдвигает на окне плотные шторы, чтобы создать видимость ночи, стелет мне на диване в гостиной и, обещая вернуться, убегает в спальню к дочери. Я раздеваюсь и… Да, отключаюсь на какое-то время. Но затем чьи-то руки, чьи-то губы, чье-то прильнувшее тело возвращают меня к жизни. Это, конечно, Елена Александровна, заместитель председателя окрисполкома, кто же еще! Шепчет:
– Уснула, Юра! Уснула. А ты проснись. Ну, проснись же!
– Зачем, Лена? Полежи спокойно, – бормочу я.
– Как бы не так! Ты хочешь, чтобы я заплакала? Я сейчас зареву, честное слово. Да что с тобой, Юра? Ты ли это, Юра?
– Я, Лена… но я сейчас вроде мороженого минтая… ни на что не способен… прости, ради Христа.
– А я тебя расшевелю. Вот еще новость! Прилетел к бывшей любовнице и дрыхнешь! Нет уж, дружок! Я тебе покоя не дам! – Такая безжалостная руководительница!
Зря я не ушел, поддался на ее уговоры, либерал малодушный. Если бы я знал, что дверь вот так распахнется и девочка Дина в длинной ночной рубашке возникнет на пороге… если б знать! До сих пор в ушах звучит ее крик, до озноба пробирает:
– Мама! Ты гадина! Гадина, гадина!
Лена Абрамова вскакивает с дивана – голая! – я рывком сажусь. Дина стоит в проеме двери, ухватившись за косяк, захлебывается от слез, дрожит всем телом.
– Диночка! – бросается мать к ней.
Это истерика… сильный истерический приступ…
– Диночка, Диночка! – причитает перепуганная мать, а Дина с закатившимися глазами, с закушенной губой оседает на ее руках. – Господи, Юра! Звони в «Скорую»!
Я только этим, кажется, и могу помочь. Вскакиваю, кидаюсь к телефону.
И вот опять лечу над таежной пустошью – в обратном направлении, с севера на юг. Ускользнул под утро я тайком из дома Лены Абрамовой… оставил лишь записку на кухонном столе: «Спасибо. Прости. Ю. Т.», и прихватил полбутылки коньяка, которые сейчас распиваю в самолетном кресле. С билетом повезло… очень повезло с билетом… а с Колей Ботулу так и не попрощался, а с Викой Дорожко так и не встретился, а в тайгу так и не выбрался, а в горле сушь, а на языке желчь, а на душе тоска ночная… Ну, Теодоров, и чего же ты добился этим своим незапланированным визитом в места своей молодости? Поразмысли, хрен моржовый, скотина, пропойца, звериная морда! За что наказал Лену Абрамову, растерзал в пух и прах ее устоявшуюся провинциальную жизнь? Зачем сделал врагами мать и дочь? А что приобрел сам? Какие такие душевные богатства почерпнул, подонок? Жратва да питье, да пьяный сон – вот твой удел! А что впереди, кроме жратвы, питья и пьяного сна? Москва, темная и злая, как побежденный Багдад, – какие утешенья она обещает? Малеевка-Маниловка, приют отдохновения на дармовщинку, – зачем тебе это? Роман? А кому он нужен, твой роман, в пору, когда деньги, деньги, деньги, большие и малые, стали подлинными вершинами духовных дерзаний? Зачем живешь, мразь? Невозможно остановиться, говоришь? А ты попробуй – ты пробовал? Стань вегетарианцем, трупоед, отрекись от злого питья, ненасытная глотка, посвяти себя Богу, ирод, – слабо, да? не потянешь? Не привык себя сдерживать, ограничивать законами целесообразности, а если разобраться, то мечешься всего-то в пределах алфавита… зациклился на постылом «я, я, я»! Ну, зови на помощь Лизу Семенову, кличь на подмогу родителей и братьев, друзей и приятелей! Без них ты, Теодоришка, вообще величина неизмеримо малая, бесплотная, как нейтрино, пронизывающее без следа небо, воду и землю. Лиза! Щедрая душа, ay! Ау, золотое лоно! Почему не связал тебя бельевой веревкой с прищепками и насильно не погрузил в воздушное судно? Не слышу ответа. Оглох. Блевать охота, вот что.
Иди, гад, поблюй с высоты. А потом дожри коньяк и усни. И продолжай полет над просторами родины.
7. ОСВАИВАЮ МОСКВУ
По твердой земле, по стальным рельсам, мимо громоздких городов и тихих, унылых деревень, по Западно-Сибирской платформе, плоской, как Западно-Сибирская платформа, через Уральский индустриальный хребет и все дальше, дальше на неизменный запад – это путь всякого, кто, подобно Теодорову, сменил воздушное судно на пассажирский поезд и из точки К. пытается попасть в точку М. Он видит из окна страну, которую помнит и любит, но не узнает ее, как давнюю знакомую Вику Дорожко, отечную и больную. Изредка лишь, в часы солнечной погоды, сама себя вытянув погулять на незаселенные просторы, родина эта преображается, вольно дышит тайгой, полями, березовыми перелесками… Тогда и пассажир Теодоров, курящий в тамбуре, слегка оживляется и позволяет себе по-детски улыбнуться какой-нибудь летящей вдоль пути деловой вороне. Сутки почти он лежит на своей второй полке, пробуждаясь, чтобы пробудиться, и опять засыпая, чтобы уснуть. На вторые сутки он посещает вагон-ресторан, где ест что-то невнятное и пьет какой-то сок, курит в тамбуре и пробует читать припасенные столичные журналы. Затем в купе внезапно пустеет, лишь безвредная старушка вяжет на нижней полке. Теодоров-путешественник извлекает из сумки бумагу и ручку и присаживается к столику. Неужели он будет сейчас писать? Совсем одурел, свихнулся, однако! Жаль слабоумного и пора его, конечно, лечить в закрытом заведении.
Да, пишет. Корябает. Выводит буковки.
«Здравствуй, дорогая, красивая и умная Лиза! Здравствуй. Я прочитал в газетной заметке, что самолеты сейчас часто и беспричинно падают. А я хочу долго жить, ты знаешь. Поэтому в г. Красном Яре я пересел в поезд. Сейчас я уже за Уралом, то есть в Европе. Рельсы ведут в Москву – не обрываясь. Меня поражает этот стальной путь. Как только смогли люди построить такой длинный стальной путь! Я еду хорошо, в компании тихой, чинной старушки. Она учит меня вышивать крестом и гладью. Пью я исключительно соки, очень полезные для здоровья. Я здоров, крепок духом. Я вспоминаю тебя на каждом километре стального пути. Ночью я не сплю и думаю: а вспоминаешь ли ты меня? Я тебя вспоминаю на каждом километре стального пути. Чаще всего я вспоминаю тебя необутую и неодетую. Тогда я сразу закидываю ногу на ногу, чтобы не смутить старушку… потому что, Лиза, спортивные мои брюки почему-то встают дыбом. Но вспоминаю я тебя и в интеллектуальном плане. Мне страшно не хватает замечательных наших бесед о смысле жизни. Кажется, я понял, в чем смысл жизни. Приеду – скажу, а если кто-нибудь опередит меня, не верь тому.
Таким образом, стальной путь ведет меня прямо к цели – и приведет. Сообщения о моем приезде в Москву появятся, конечно, в центральных газетах, прозвучат по Радио России, так что ты будешь в курсе.
Очень, очень горько, что тебя нет рядом на этом стальном пути. Мы бы усыпили старушку-вязальщицу хлороформом. Я надеюсь и верю, что ты бережешь, как зеницу то есть ока, мою мужскую и писательскую честь. Я же чист и невинен, видит Бог.
До свиданья, радость моя. Я еще не съел соленую горбушу, которую вез твоим родителям. Целую.
ЮРИЙ», – выводит Теодоров свое нынешнее имя. На ближайшей крупной станции он бросит письмо в почтовый яшик. А пока достает из сумки ту самую рукопись. Похоже, что он собирается уморить старушку громким чтением вслух, как проделал это с Н. Х. Ботулу. Нет, слава Богу! Он просто размышляет, перелистывая злополучную. Здравствуй, недоношенная Маруся. Что же делать с тобой, несчастное создание? Не лучше ли всего открыть окно и пустить эти листы по ветру? Они разлетятся и усеют вон тот зеленый заливной луг. Грачи, вороны, галки унесут их в свои гнезда для подстилки малым птенцам. Как хорошо! какая прекрасная участь для всякого современного произведения! А в Малеевке-Маниловке, размышляет Теодоров, нужно начать абсолютно новый роман. Название уже есть, давно просится на бумагу. Название хорошее: «Невозможно остановиться». Главный герой тоже давно уже порывается родиться на свет, заявляет о себе громко, настырно: «Вот он я!» Страшно напоминает чем-то Теодорова Юрия Дмитриевича. Что ж, такой не подведет! Он не будет выкобениваться, как Маруся, а с ненормальной откровенностью расскажет о себе. В назидание другу-читателю, чтобы друг-читатель знал, с кого надо «делать жизнь». А что! Почему бы не помечтать об обществе теодорианцев? Его члены отвергают воду как неполезный напиток, нагло пренебрегают здравомыслием, но зато почитают низменные, животные проявления таких чувств, как любовь, дружба, товарищество. Да, решено: «Невозможно остановиться». Так оно и есть на самом деле. Проще простого дернуть тормозную ручку в этом поезде, бегущем по стальным путям, – и поезд на минуту-другую замрет посреди пустого поля, чтобы через минуту-другую вновь двинуться в правильном направлении. Мы же имеем в виду остановку гибельную, необратимую, безвременную.
Да, решено. Прочь, Маруся. Созревай в запаснике, как положено, девять месяцев, а там, глядишь, напомнишь о себе младенческим писком.
Мы приступаем к новому, трезвому замыслу! И Теодоров выводит на чистом листе бумаги крупными буквами: «НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ. Роман».
А старушка-вязальщица завершает свой собственный блестящий замысел: откладывает в сторону второй шерстяной носок.
Москва, Москва!.. Приближаюсь. Медленно въезжаю, Лиза, в пределы твоей жизненной территории.
Надо тебе сказать (а то скрывал зачем-то), что Москва-столица – заметная веха в неряшливой биографии Теодорова. Именно здесь с десяток лет назад литературные знатоки заметили и вычленили из почтового потока провинциальных рукописей первую мою повесть «Сережа и Катя». В дальнейшем – это в скобках – она претерпела странные метаморфозы: из журнальной публикации стала книжкой, затем пьесой, киносценарием, радиоспектаклем и закончила свою половозрелую жизнь либретто для исполнителей в балетных пачках. Говорю это к тому, чтобы ты знала, что Москва-столица не чужая для меня. Она долгое время, от случая к случаю, привечала Теодорова, баловала гонорарами, пестовала, обманывала, низводила до нищеты… спасибо, спасибо! Именно отсюда Теодоров получал интересные читательские письма с просьбами выслать партию горбуши, с предложениями о создании добротной семьи, с комсомольскими угрозами казни на Лобном месте – и так далее, Лиза, и так далее. Это, в общем-то, достаточно давняя жизнь, на кой она тебе! Теперь в Москву въезжает иной Теодоров, малоузнаваемый… отречется от него столица или нет?
– Сынок, – говорит старушка-попутчица, – до свиданья, сынок. Спасибо тебе. Не обижал меня.
Так хорошо, умильно говорит! А Москва ничего не говорит: ни «здравствуй», ни «привет», но позволяет выйти из вагона на Казанском вокзале. Это я по-простецки, по-родственному обращаюсь к ней: «Ну, здорово! Заждалась, поди, соскучилась? Ладно, не серчай, мать. Разберемся».
А Казанский вокзал – можешь представить, Лиза? – принимает и отправляет очень много пассажиров. Я двигаюсь в густой, текучей толпе, и она выносит меня к спуску в метро. Вот то, что мне нужно: телефоны-автоматы. Сейчас, Лиза, я буду звонить по телефону-автомату в наш Союз писателей. Может, тебе небезынтересно, о чем я буду говорить – тогда послушай.
– Здравствуйте. Это Союз?
Мне отвечают, что я не ошибся, это Союз. Мужчина отвечает!
– Это вас беспокоит дальневосточный писатель Теодоров Юрий Дмитриевич. С вами была предварительная телефонная договоренность относительно устройства меня в гостиницу. (Оцени стиль, Лиза!) Сделано что-нибудь относительно моего устройства?
Минутку, отвечает мужчина, сейчас выясню. И действительно через минуту:
– Все в порядке. Вам забронировано место в гостинице «Центральная». Знаете, где это?
– Кто же не знает, где гостиница «Центральная»!
– Ну, прекрасно. Все бумаги там. Вас устроят.
– Спасибо.
– Пожалуйста.
Короткий, деловой, благожелательный разговор мужчины с мужчиной стоимостью в одну монету. Очень хорошо! Такое начало московской жизни бодрит, вдохновляет. Дай, пожалуйста, двушку, Лиза, позвоню еще. Не надо, нашел. Слушай дальше.
– Але! Добрый день. Я могу поговорить с Константином Яковлевичем Киселевым?
– Можете. Костя!! Возьми трубку.
– Да. Слушаю. Киселев.
Я:
– Киселев, не хами. У тебя грубый голос. А говорит с тобой не кто-нибудь, а Теодоров.
– Кто-о?
– Теодоров, глухая тетеря. Это я Теодоров! А ты Киселев.
– Ю-юра! (Тут следуют непечатные выражения удивления и радости.) Ты где? Ты в Москве, что ли?
– А еще точней – на Казанском вокзале. Слушай! Я только что прибыл. Еду сейчас в гостиницу «Центральная». Устроюсь там, и я свободен. Где встретимся?
– Стой… погоди… дай очухаться! сейчас соображу. Так! Сообразил. Как у тебя с капустой?
– Не понял. С какой капустой?
– Ну, провинция! Ну, писатели в провинции! С деньгами у тебя как?
– Вот так бы и говорил. Не уважаешь, Киселев, деньги.
– Плохо, что ли? Мне надо искать?
– Плохо будет, когда спустим. Не ищи! Говори, где встретимся.
– Так. Так. Так. А что, если в ЦДЛ? Членский билет у тебя с собой?
– Дурацкие вопросы задаешь, Костя. Давно утерян.
– Понял. Извини. Ладно, я тебя сам проведу. Часа тебе на гостиницу хватит?
– Дай два.
– Даю два! Будешь выходить из гостиницы, позвони, идет?
– Идет.
– Юра, а ты… (непечатное выражение) действительно Теодоров?
– Не сбивай меня с толку, а то я сам засомневаюсь. А я твои планы не нарушил?
– Еще как! Работы полно, но хрен с ней! Деловая встреча намечена, но пошла она! Жена ждет пораньше, но… (непечатное выражение). Короче, жду звонка!
Вот такой, Лизонька, интересный разговор, хотя несколько… это самое… нецензурный. Но друг-читатель, я надеюсь, уже привык к простой бытовой речи. Да и не злоупотребляю я, кажется, нехорошими словами – зачем? Стараюсь сопротивляться нашему хулиганскому времени, не только хулиганскому и негодяйскому, но еще и утекающему, утекающему, как… как песок в песочных часах (вот сильное сравнение!). Обещаю, что в этой главке и в последующих никто больше не посмеет… это самое… грубо выражаться. Разве только в шутку? В шутку, я полагаю, можно. У меня все герои (и сам Теодоров иногда) матерятся только в шутку и сами же при этом добродушно как бы смеются. Не то что у злого, неприятного писателя Лимонова… У него грубый, неинтеллигентный мат-перемат. А потому что живет за границей и ненавидит окружающую действительность.
Но это так, к слову. А разговор мой с Костей Киселевым, разговор, который я мог бы уложить в одну повествовательную фразу, привел я дословно для того, чтобы ты, Лиза, сильно удивилась. Что, мол, за тип этот Теодоров! Везде-то у него друзья-приятели! Все-то радуются встрече с ним, даже какая-то старуха-вязальщица готова подарить ему шерстяные носки! Встретилась в дороге жирная продавщица, так и ту он не сумел как следует возненавидеть. Так не бывает, Теодоров! Врешь ты все.
Но я не вру. Бывает. И всегда так будет, предполагаю, пока Теодоров-сан сам не окрысится, как… как крыса, на весь этот Божий мир, на всех людей, родных и чужих, близких и далеких, на счастливых и несчастных, особенно, особенно не счастливых, процветающих, удачливых, денежных, – пока не озвереет, как… как зверь, не научится ненависти к умным и глупым, больным и здоровым, особенно к здоровым, непьющим, разумным, полноценным, – пока не станет презирать, завидовать, клеветать, наушничать, строчить доносы, подсиживать и опять презирать, опять завидовать, клеветать, наушничать, строчить доносы, подсиживать, – а всего этого человеческого многообразия и богатства ему, однозначно слабоумному, не дано.
Поэтому, Лизунчик… (о, Боже!)… поэтому, милая Лиза, Теодоров не виноват в том, что следующий его телефонный разговор не менее дружелюбен, чем предыдущий. Но тебе его лучше не слышать. Прерываю связь.
– Але! Это квартира Авербахов?
– Правильно. Это квартира Авербахов. Бывших.
– То есть как? А с кем я, простите, говорю? Что-то мне ваш голос знаком. Уж не Соня ли это Авербах?
– Совершенно верно. Я Соня. Но давно не Авербах. Кто это?
– Меня проще узнать, Соня. Я не сменил фамилию. Я по-прежнему Теодоров. Помнишь такого, Соня?
– Боже мой! Юра? Неужели?
– Да, я.
– Боже мой! Юрочка! Где ты?
– Здеся.
– В Москве? Правда? Боже мой, Юрочка! Немедленно презжай ко мне!
– А у тебя что, спектаклей вечером нет?
– Боже мой, Юрочка, как ты отстал от жизни! Я уже два года, как ушла из театра.
– Даже так? И где ты теперь, прости?
– Где, где! Я в кино снимаюсь, мальчик ты мой золотой. Но, Боже мой, Юрочка, что за вопросы по телефону? Приезжай немедленно. Сына я выгоню к папе с мамой. Мы с тобой такое устроим!
– А муж? Про мужа забыла.
– Муж, муж! Тоже нашел проблему. Мужа я отправлю по его блядям, он рад будет.
– Боже мой, Соня, как я рад тебя слышать! Диктуй адрес. Я у тебя не был.
Она на диктует. Адрес я утаю от друга-читателя.
– Понял, Соня. Записал. Да! На всякий случай: как твоя нынешняя фамилия?
– Голубчик ты мой, ты и этого не знаешь! Голубчик моя фамилия. Софья Голубчик.
– Прямо-таки Голубчик? Брось, Соня. Не верю.
– Ха-ха-ха! Все не верят, кто первый раз слышит. А я Голубчик. И муж у меня Голубчик. А ты, голубчик мой, когда приедешь? Сколько тебя ждать?
– Часам к шести-семи.
– Боже мой! Почему так долго?
– Делишки есть, Соня. А как смотришь, если привезу приятеля? Можно?
– А почему нет? Пожалуйста! Вези кого хочешь!
– Ну, спасибо. Жди!
– Жду, Юрочка. Чем раньше, тем лучше. Целую!
Але, Лиза! Наладил с тобой связь. Информирую: старушенция Москва встретила меня на первых порах гостеприимно. Еду, Лиза, в гостиницу.
Мой славный приятель Митя, с которым мы однажды попали в Москву, был подавлен и угнетен ее многолюдностью. Старожил наших мест, Митя свои отпуска проводил обычно в таежных сопках или на побережье с ружьем, спиннингом, собакой. По улицам Москвы Митя ходил, держа меня за руку, затравленно озирался, хныкал, матерился, ныл и норовил все время шагнуть под машину. Он улетел домой при первой же возможности, счастливый от того, что покидает это урбанистическое средоточие суеты и пороков. Понимаю Митю. Но я не такой. Я легко нахожу общий язык со столицей: дневной, и вечерней, и ночной. Не могу сказать, что люблю ее сильно и мучительно – и не скажу. Но она интересна мне, я готов домогаться знаков ее внимания, Может быть, я хочу понять ее душу – то темную, алчную, то привольно размашистую… то чиновную, чернильную, то пролетарскую, кровавую, то светлоликую арбатскую… всякий раз иную!
Сейчас Москва сумрачная и унылая, как вон тот сутулый прохожий, озирающийся на перекрестке, словно не знает куда идти. Похожа она также вон на ту растерзанную, озлобленную гражданку, помятую в очереди… но не исключено, что настоящий ее облик – это беззаботно-наглая рожица вон того мальчугана, надувающего жвачные пузыри. Многолюдно-то как! Интересно-то как! Жутковато, зябко и весело Теодорову. Он опять идет по давним своим следам, по старым засечкам легкомысленной своей жизни в легкомысленном романе «Невозможно остановиться». И забывает, конечно, про почтенные свои сорок с лишним лет и временно про тебя, Лиза, тоже.
Меня заботит: надо ли расшифровывать ЦДЛ? Не надо. Заинтригую друга-читателя этой аббревиатурой. А Костю Киселева, вон того длинноногого малого в джинсах и с курткой через плечо, уже поджидающего меня на ступеньках, надо расшифровать. Костя Киселев родился в 1963 году в г. Долгопрудном под Москвой. Ходил в детский сад, учился в школе, успешно ее окончил и поступил в Литературный институт имени А. М. Горького на факультет прозы. Успешно окончил институт и поехал работать в наши края. Успешно работал три года в областной газете, Костя Киселев. А теперь работает в Москве сотрудником журнала «Мы», а живет в том же Долгопрудном. Русский. Женат. Теодоров должен ему тридцать пять рублей. (Вот так бы и писать мне всегда – ясно и просто. Цены бы мне не было как писателю! А то образы, сравнения, сложноподчиненные предложения, подтексты, балбес!)
– Здравствуй, Костя Киселев, – говорю я, подходя к нему.
Костя Киселев родился в 1963 году в городе Долгопрудном. Молодой, однако!
– Юраня! – оборачиваясь, восклицает он.
А Теодоров родился в 1950 году в городе Новокузнецке, бывшем Сталинске. Мы хорошо обнимаемся, разглядываем друг друга. Я немного встревожен, что Костя по-прежнему очень молодой; мне даже кажется, что он стал моложе, чем был в то время, когда я занимал у него тридцать пять рублей, а это было достаточно давно. Он отпустил небольшую светлую бородку, легкие светлые усы. Он голубоглазый, высокорослый. Он должен (мельком думаю я) непременно понравиться Софье Голубчик, бывшей Авербах, которая родилась в 1959 году, но в городе Виннице.
– Вы хорошо выглядите, Костя, – вслух одобряю я. – Сколько мы с вами не виделись?
– А полтора года уже, Юрий Дмитриевич, как не выпивали, – отвечает он, светло улыбаясь.
– А мы сумеем наверстать, как считаешь?
– Это смотря по тому, сколько у тебя капусты, – считает он.
– А нас в этот храм впустят?
– Я договорился. Все в порядке. Пошли!
– А ты, Костя, разве еще не член? – поднимаюсь я по ступенькам.
– Почти член. В разборе мое дело, – открывает он дверь и пропускает вперед. – А на хрена мне это нужно – не знаю! – И ослепительно, по-гагарински улыбается даме на вахте.
Она нас пропускает. И молодой серьезный человек в штатском на входе в буфет и ресторан нас не задерживает. С Костей Киселевым проще преодолевать контроли, чем с народным художником Н. Х. Ботулу.
– Вот что, Костя, – говорю я. – В кабак мы не пойдем. Ну его, кабак! Мы в буфете давай посидим, возьмем с собой запас и поедем к одной моей хорошей знакомой. Как смотришь?
– А кто такая?
– Артистка, Костя. Играла в моем незабвенном спектакле, и вот тогда я ее… это самое… изучал в перерывах между репетициями. Прекрасная женщина. Я уже договорился.
– А подружку имеет?
– О подружке позаботься сам. Вон их сколько за столиками!
– Да, это не проблема, – лучезарно улыбается светлобородый Киселев. Родился, между прочим, в 1963 году в городе Долгопрудном. – А я хотел повезти тебя по своим адресам.
– Ну, успеем и по твоим. Не сегодня, так завтра. Я вообще-то еду в Малеевку, в Дом творчества. На два дня уже опоздал, но ничего. Мы многое можем успеть. Мы же с тобой прозаики. Я рад видеть прозаика. А то у нас там, сам знаешь, поэт на поэте. Иногда обидно.
– Все ребята на месте? – оживляется Костя. Мы стоим уже в очереди к буфету.
– Все. Илюша на месте, Андрей, Митя, Егор, Вадя, Клара… – обстоятельно перечисляю я. – Только ты уехал, а остальные все на месте. Илюша недавно книжку новую выпустил. Андрей тоже. Я тоже не отстал, разродился. А ты как?
– Да как! – Киселев хмурится, теребя бородку. – Одна книжка выскочила. Так, ерунда, мелочишка. А капитальный свой труд не могу пристроить. Бардак у нас! В госиздательствах глухо. А кооператоры и прочие гонят всяких Агаток да Сименончиков. А я серьезный автор, ты знаешь.
– Знаю.
– Ну вот! А серьезным авторам нынче не вздохнуть, не пернуть.
– Костя! – укоризненно говорю я.
– Извини, но у меня накипело. Другие издают за свой счет, а у меня откуда капуста? Мне жена – такая, Юра, стерва стала, не приведи Бог, – выдает наличными на пирожок и стакан газировки. Ребенка кормить надо. У меня пацан родился, ты знаешь?
– Нет. Поздравляю.
– Лучше пособолезнуй. Я мечусь, калымлю, консультирую графоманов, то, се – все одно не хватает. Писать, Юра, некогда!
– Да-а, непросто тебе, – сочувствую я Киселеву.
– Не то слово! Я, наверно, свихнусь или руки на себя наложу. Ого! – вдруг восклицает он.
– Что такое?
– Видишь вон того типа? В голубенькой рубашке. Он сам голубой и рубашка под стать. Ты стой тут, а я схожу набью ему морду.
– Брось, Костя! – смеюсь я.
– Недолго, Юра. Я его давно искал. Сейчас вернусь.
Он хлопает меня по плечу и исчезает в дверях вслед за своим знакомым.
Минут через пятнадцать, уже заняв два свободных стула за столиком в глубине, я начинаю слегка беспокоиться. Передо мной два бокала с лимонной водкой, две тарелочки с тарталетками, пачка сигарет. Все подготовлено, таким образом, для интересной, содержательной беседы с Костей Киселевым, но самого Кости нет. А с одинокой девицей, которая сидит за этим же столиком и курит, курит, мне беседовать почему-то не хочется. Не в том дело, что девица пьяна – это я понимаю, – но уж больно страшная девица. У нее нездоровое, бугристое лицо, худые руки, жидкие волосы… пиявистая какая-то девица. Наверняка, думаю я, поэтесса, причем, авангардная. И стараюсь на нее не смотреть, чтобы не привязалась, а разглядываю зал. Ну, зал как зал, каким он был во все времена – тесный, продымленный, душный – и завсегдатаи вроде бы те же, как всегда, – пьяные, свойские, шумные – и автографы на стенах вроде те же. Странно мне даже, что ничего тут с годами не меняется, словно никто никогда никуда отсюда не уходит, – живут тут, тут же пишут, рожают, разводятся и соответственно умирают, – а никакой Западно-Сибирской платформы, не говоря уж об Охотском море или Курильских там островах не было, нет и не будет… Трудно мне представить, что это я, Теодоров, впервые попав сюда много лет назад, так был взволнован посвящением в… нет, приобщением к… словом, на почве волнения у меня тогда напрочь отказал мочевой пузырь и каждую бутылку пива приходилось немедленно отливать… да-а… Такой вот был молодой и впечатлительный!






