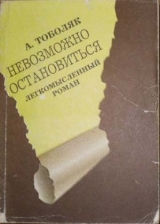
Текст книги "Невозможно остановиться"
Автор книги: Анатолий Тоболяк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Так бормоча и рассуждая, я бреду темным двором и утыкаюсь в подъезд, явно знакомый по сорванной двери и жалким останкам телефона-автомата. Чудо, но я не удивляюсь. Я готов и к этому – к подъезду Суни. Ибо провидение меня бережет, – понимая, как я прав и как несправедлива Семенова.
И Суни, открыв дверь, сразу понимает, что меня надо беречь и любить. Их вождь Ким Ир Сен тоже, думаю, приветил бы меня, ввались я сейчас в его резиденцию. Потому что корейцы не такие злые, как ты, Семенова.
– Туфли снимай! – кричит Суни. (А между прочим, в длинной ночной рубашке.) – Сумеешь?
– Смогу. А выпить у тебя есть?
– А тебе будто надо!
– Надо.
– И сразу свалишься, да?
– Нет, Суни, я нынче спать не намерен. Тр-рагедия, Суни.
– Что – Семенова отлуп дала?
– А ты не радуйся, Суни. Ишь, как ты возрадовалась. Ну, дала. Но Бог-то все видит. Накажет.
– Она на работу не вернулась. Ее редактор искал. Он ей завтра влупит.
– Правильно сделает. Плохая она. А ты хорошая.
– Молчи, изменщик! Скажи спасибо, что у меня никого нет. А то бы не пустила.
– Спасибо, Суни, – выговариваю я внятно, – что у тебя никого нет, что так меня ждала. Куда идти?
– В комнату, куда!
– Ошибаешься. В туалет.
В туалете (брысь, Эдичка Лимонов, не подглядывай!) меня, разумеется, выворачивает смесью твердого и жидкого. (Кому не по душе, не читайте, а я правду говорю.) Но выхожу я, ополоснув под краном личико, с новыми силами и по-прежнему талантливый. Мой талант не выблюешь, хоть всю жизнь блюй – правда, Суни?
– Чи-иго?
– А, ладно! Вина бы, Суни, хорошо бы.
– Все у меня выпиваешь! – кричит ночная рубашка.
– А тебе вроде жалко? – хмурюсь я.
– Учти, мне завтра на работу.
– Мне-то не на работу.
– А мне на работу!
– Тебе-то на работу, а мне нет, – настаиваю я на своих правах свободного художника.
– Полвосьмого выгоню, учти!
– Ну, иди, иди, не пугай! – отправляю я Суни на кухню и громко продолжаю: – Суни, слышишь! Ты завтра Семеновой не вздумай сказать, что я у тебя был, ладно? Ты же умеешь молчать, я знаю.
– Боишься! – слышу из кухни.
– Нет, Суни. Мне уже ничего не страшно. Все я знаю и понимаю, вот что обидно. Суни, давай поженимся назло Семеновой.
– Как же!
– Конечно, – обижаюсь я, – тебе Ким Чен Ира подавай. Националистка ты!
– А ты блядун и пьяница.
– А ты чимча и пенсе!
– Добьешься, не налью!
– Нальешь, нальешь. Ты же не такая злая, как Семенова. Представляешь, Суни, она может укусить! Страшно ведь!
– Я тоже могу укусить. Посильней твоей Семеновой!
– Да, ты тоже можешь, – вдруг соглашаюсь я, поникнув. – Как же быть? Что мне делать, Суни? Где выход?
– Вот! – входит она в комнату с подносом, а на подносе бутылка «Агдама» и тарелочка с колбасой и сыром. – Больше ничего нет.
– Мало, – укоряю я.
Суни по-корейски что-то шипит – какой-то непонятный мат.
– Суп тебе, что ли, согреть? – кричит она.
– Не надо. Лучше поцелуй. Меня сто лет никто не целовал. Одинок я, Суни.
– Ври больше!
– Скоро умру.
– Да перестань ты! На ночь каркаешь!
Но ставит поднос и целует, как прошу, – формально, правда.
Пропускаю полчаса. За полчаса ничего не происходит. Лишь вино в бутылке на две трети уменьшается. Лишь Суни, разгорячась от агдама, расслабляется, теплеет и льнет, прося ласки, лишь я тяжело мрачнею, цепенею и удаляюсь в свои окрестности.
– Раздеваться думаешь? – начинает сердиться хозяйка.
Тут Теодоров наливает в свой фужер остатки из бутылки, выпивает одним махом, встает и идет к двери. Суни думает, что он отправился в туалет, но Теодоров в прихожей натягивает нерасшнурованные туфли, привалясь к стене. Суни выбегает следом. Маленькая, в ночной рубашке.
– Ты куда? – не понимает она.
– Суни, я тебе надоел. Я пойду.
– Не бесись!
– Нет, пойду. Извини, Суни. Пойду, – бормочу я. Красные справедливые пятна гнева вспыхивают на ее щеках.
– Пришел, все выпил и убегаешь, гад! – кричит она.
Вот опять Теодоров стал гадом, во второй уже раз за день!..
Чувствую, что затягиваю, расползаюсь мыслью по древу. Но ночь-то необычная, бесконечной длительности. Она густеет, темнеет, наливается внутренней силой. Последняя, может быть, ночь или предпоследняя, кто знает. Дождь закрапал из темного безлунного неба. Одна лишь звезда, неизвестно какая, без имени, светит низко над горизонтом в океанской стороне. Страшная городская тишина. Временное вымирание всех жителей. Редкое окно светится, а за тысячами темных – оцепенелый сон.
Могут ведь не проснуться, думаю я, и сами того не заметят. Не боятся спать, надеются вернуться. Путешествуют с боку на бок. Как дети, ей-богу, полагаются на утреннее солнце. Не жалеют утраченного времени, как дети, ей-богу, неразумные. В дальних краях… в глубинах земли… там, на западе… там то же самое. Тут проснутся, как дети, чтобы продолжать, там лягут утомленные. Я хотел бы летать сейчас ночной бесшумной совой с проницательными глазами, осеняя взмахом крыльев ваш сон. Но всего-то иду по пустому городу, покачиваясь, безнадежно приземленный. Знаю даже направление – наискосок. Не может того быть, думаю я, чтобы ее окно не горело. Она не может спать, как ребенок. Исключено. Она, конечно, стоит у окна, высматривает темную фигуру своего любимого. Любимый – это я. Любимый приближается. Я помашу зажженной сигаретой, как фонариком: вот он я! Она откроет окно, спрыгнет с третьего этажа, и я ее легко поймаю, как малого ребенка. Мы сольемся. Я скажу: – Простила? – Она скажет: – Угу. – Я унесу ее к себе домой на руках и никогда больше, до окончания дней не выпушу из квартиры. А зачем? Нам и вдвоем неплохо. В сущности, нам и вдвоем неплохо, скажи, Лиз! Мы так долго друг друга искали, что временами отчаивались. Теперь глупо теряться вновь – скажи, Лиз!
Наискосок. Все время наискосок на северо-запад. С фасада в общежитии не горит ни одно окно, кроме как у дежурной вахтерши. А нам и не надо с фасада. (Я обхожу здание.) Но тыльная его сторона тоже темна и безмолвна. Ни одного огня. Бред! Не может она спать, как ребенок.
Я отхожу под деревья (это березы исконно русские) и пытаюсь высчитать Лизино окно. Девятое, видимо, с краю. Да. Шепчу:
– Лиза. Семенова. Ответа нет.
– Лиза, – повышаю я голос. – Семенова Лиза, слышишь меня? Ответа, представьте, нет.
Тогда я кричу уже громко для глухих, спящих, мертвых:
– Семенова! Семенова! Лиза!
Никто и не думает отвечать. Она спит, Семенова Лиза, как сурок зимний, как ребенок, как бедная сумасшедшая после приступа.
Заплакав вдруг, как ребенок, я плачущий возвращаюсь к дверям общежития. Стучу. Раз-другой-третий, пока не слышу из-за двери сонный женский голос:
– Чего надо? Кто тут?
– Свои, тетя Маша, – всхлипываю я. – Откройте!
– Какая я тебе тетя Маша! Иди отсюда, шатун!
– Тетя Валя, имейте жалось, – плачу я, обливаясь слезами. – Мне надо девушку из 309-й комнаты. Позовите!
– Так прямо разбежалась!
– Я вам денег дам. Позовите!
– Иди отсюда добром! Сейчас милицию вызову! – слышу я ответ.
– Не позовете? – взрыдываю я и слышу, как вторая входная дверь захлопывается бесповоротно.
– Суки вы! – ору я взбешенный. – Сдохните, суки, не заплачу! Креста на вас нет!
И рыдая, как ребенок, бреду прочь, как ребенок рыдающий.
Затем вокзальная площадь и одинокое такси. Это точно. Затем – стою с бутылкой вина в руках перед кладбищенскими воротами. Такси доставило меня к Ване, и я стою с бутылкой в руках перед кладбищенскими воротами. Они открыты, и я вхожу на территорию кладбища, зажигая спички и высвечивая дорогу. Но кое-что различимо и без спичек. Мне кажется, я легко найду могилу Вани, если буду идти все время прямо, а затем в глубине сверну налево – и так вплоть до места, где похоронен Ваня. Я ведь своими руками нес последние метров сто гроб с Ваней по непроезжей части, как же я не найду Ванину могилу даже глубокой ночью? А если заплутаю, собьюсь с пути, Ваня меня окликнет: «Теодор! Левей и прямо» – что-нибудь подскажет наверняка. Поэтому иду прямо и прямо, сначала все время прямо мимо темных холмиков, оградок и темных памятников, понимая, что внизу лежат очень-очень многие, бывшие, как я, живыми до поры, до времени, а сейчас неживые. Спотыкаюсь изредка, оступаюсь, но ничего. Не падаю же. А упаду, так встану, ведь я еще живой и могу подняться, если упаду, а нижние уже не могут. Они там лежат сами по себе, как не дано живым, которые спят сейчас в домах, чтобы вскоре проснуться, встать и продолжать. Попадаю в тупик. Дальше пути, кажется, нет, но это только кажется. Я же еще живой и могу, если постараюсь, найти выход из тупика – например, сверну влево по проезжей дороге. Тут такая же местность – с маленькими холмиками, оградками, памятниками, крестами. Я различаю их все лучше и лучше, будто они дают свет, хотя они, конечно, темны, и они, конечно, безмолвны. Нет вообще никаких звуков, кроме скрипа песка и мелкой гальки под моими ногами. Не падаю пока что и не умираю, а иду к Ване, чтобы поздороваться с ним, поговорить, а может, пожаловаться ему.
Надо только найти могилу Вани, ту, где он лежит, поджидая меня, уже давно лежит, уже непохожий на себя, наверно, но тот же самый, каким я его знаю и помню. Вот конец проезжей дороги. От этого большого одинокого дерева, я вспоминаю, мы понесли Ваню на руках между других могил, а их много, в дальний угол кладбища почему-то. Я выбираю тропку и медленно иду, различая дорогу, тихо говоря: здравствуйте, здравствуйте. Конечно, найти нелегко, но я в себе уверен. Однажды все-таки спотыкаюсь о какой-то корень и падаю. Но встаю. Я же живой. Поэтому встаю, не разбив бутылку и не сильно ушибясь. Мне кажется, что я приблизился. На могиле Вани уложена гранитная плита – так мне сказала по телефону Нина, с которой я не сумел встретиться, хоть и обещал. Есть такие плиты. Вон там и вот тут. Я чиркаю спичками. Но я не учел, что из-за оградок не могу прочитать надписи. Может быть, эта. Или та. Их ведь много, и под каждой кто-то есть, кто-то лежит.
А вот неогороженная могила с плитой. Я могу прочитать и читаю при свете спички: ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА САМОХИНА 1956–1990 – кажется, так.
Елизавета. Молодая, незнакомая мне женщина. Она умерла в тридцать четыре года. А Ваня умер в сорок лет, и он где-то недалеко. Я знаю, что он где-то совсем рядом, и он, наверно, не обидится, что я его не нашел. Я все равно поблизости, и я здесь ради него.
– Не обижайся, Иван, – бормочу я, присаживаясь на край плиты Елизаветы Самохиной.
Зубами надкусываю и срываю пробку с бутылки. Слез во мне нет – откуда их взять? Ване мои слезы и не нужны, я знаю. Прошу и меня не оплакивать, когда придет время, – зачем? Вы тоже смертны, это точно.
Жила-была Елизавета Самохина. Жил-был Ваня Медведев. Жил-поживал Юрий Теодоров. Нет ничего проще. Так просто, что дальше некуда. Поэтому я не плачу. Я пью из горлышка длинно и взахлеб, проливая на себя таксишное вино – за Ваню и себя. Я курю затем, думая о Ване, о себе, о Елизавете Семеновой, о Клавдии, дочери Оле, о братьях и родителях, друзьях и приятелях, как всегда и везде, в любом месте – обо всех, кого знаю, и о незнакомых тоже, обо всех нижних и верхних, и это мне нетрудно. Я легко могу думать обо всех сразу и о каждом в отдельности, потому что, разобраться, люблю всех сразу и каждого в отдельности, как могу и хочу. Но меня бьет сильная дрожь, меня начинает колотить. Я же живой, надо понять. Я еще не присоединился к Ване и не знаю тамошних обычаев. Я выпью еще – и я выпиваю, а бутылку с небольшим остатком – правильно ли? – ставлю на плиту Елизаветы Самохиной. Иван, я пойду. Я побреду, Ваня, дальше, ладно? Я еще приду вскоре – может быть, насовсем. Меня колотит так и так качает, что могу потревожить мертвых. Пойду, побреду. Иван. До свиданья. Толстячок, до встречи. Не сердись.
А вроде бы слегка, тончайшим намеком, рассветает. Пока я добреду туда, куда бреду, домой, уже солнце встанет на непременном востоке, если захочет. Выбираюсь с кладбища. Бреду по дороге, по шоссейке, сначала мимо кладбища, затем мимо кооперативных гаражей, мимо частных домиков с темными окнами, входя не сразу, а постепенно, в черту города Тойохара. Мне надо миновать три микрорайона, больших и разбросанных, но вряд ли мне это удастся. Потому что в конце пустыря возникают и направляются ко мне наперерез три темных фигуры – не очень, впрочем, уже темных – и обретают, приблизившись, очертания трех рослых, как сейчас помню, устойчивых подростков с нехорошими лицами. Они меня останавливают, и я останавливаюсь. Они просят, ясное дело, закурить, и я лезу в карман за сигаретами, бормоча: «Сейчас, ребята, поищу… где-то должны быть…» – но тут свирепый удар в переносицу – тебе так слабо, Лиза! – сшибает меня с ног, конечно.
– Охренели?! – вскрикиваю я с земли, пытаясь встать на четвереньки, но две ноги или три, или одна – какая разница! – или сразу, или попеременно – неважно! – опять сваливают меня на землю. Что-то свистит, как бич, полосуя тело, что-то оглушает, кто-то пляшет на мне, прикрякивая. Рот заполняется горячей кровью, как и должно быть. «Ах, суки!» – хочу я выговорить, но, естественно, не могу. А дыхание их помню и смех. Что-то, может быть, еще помню, но не хочу вспоминать.
Утух Теодоров. Не стало меня надолго.
6. ЗАВЕРШАЮ
Но не навсегда. Они меня, как вы понимаете, не добили. Им чуть-чуть оставалось, но они, по-видимому, устали. Все-таки у них, наверно, ночь была, как и у меня, бессонная, и они были не в полной своей силе. Оставили недобитого. А может, думали, что добили, и ушли. Этого я не знаю. Говорят (народ говорит), что я пару дней ничего знать не хотел и не мог, и лишь на третий решил жить дальше и пробудился. И оказалось (это банально, но что поделаешь?), что лежу я в больничной палате перевязанный и загипсованный, но в здравом уме. Соображаю то есть, что лежу в больничной палате перевязанный и загипсованный, и в здравом уме, причем, правая моя рука (которая пишет) сохранилась как бы специально в неприкосновенности, чтобы мог вот это все со временем написать.
Очень удачно получилось, что мозги мои в небольшом количестве остались при мне такими же, как были прежде, а правая рука не перебита, не переломана – хорошая рука, послушная мне, как прежде.
Через некоторое время входят первые посетители. Я помню, как их зовут. Это моя дочь Оля и бывшая жена Клавдия. Они входят. Я лежу. Они садятся на стулья рядом с кроватью, а я все так же тупо лежу, их разглядывая. Но язык у меня не поврежден (эти ребята не успели вырезать мне язык или не захотели), и я говорю, стараясь, сами понимаете, улыбнуться:
– Олька, привет. Здравствуй, Клавдия.
А у моей милой дочери в глазах страх. Это понятно. Такого папу она еще не видела. Не доводилось ей видеть такого жалкого и страшного папаню. И глаза Клавдии мерцают от слез, хотя она-то чего? ей-то что за горе? Мы же бывшие, а не нынешние все-таки.
– Как ты? – спрашивает.
– Как вы-то? – спрашиваю ответно. – Как узнали, что я тут?
– Скворцов позвонил, – отвечает Клавдия. – Они там внизу, твои приятели. Придут после нас.
– Да? Придут? Хорошо, – отвечаю я не совсем своим голосом, тихим, кажется, и ослабленным.
– Оля, скажи папе что-нибудь, – просит Клавдия, отворачиваясь. Не может на меня смотреть.
Губы моей дочери дрожат, в глазах испуг и слезы.
– Ну, – говорю я, – чего ревешь? Живой же я. Шел ночью, а бандиты напали. Не ходите ночью.
– Папа, тебе больно? – выговаривает моя дочь.
– Есть немного. Так, вообще. Везде. Но это пройдет. Я живучий, Олька. Не плачь. А то сам зареву.
– Мы тебе вкусненького принесли, – всхлипывает она. Клавдия достает платок и вытирает ей глаза, а потом себе. Они обе, значит, все еще меня, неубитого, любят. Дочь точно любит, а Клавдия любить не имеет права, будем считать, что она просто переживает. Они сидят недолго, минут пять, как им, наверно, велено, да больше и не надо – видеть их мне тяжело и больно. Милая дочь, уходя, целует меня в шеку и шепчет, чтобы выздоравливал, а Клавдия не удерживается и говорит что-то сентенциозное: вот, мол, к чему привел мой образ жизни.
Затем приходят другие. Их четверо. Все в белых халатах, наброшенных на плечи. Они заполняют маленькую палату на двоих. Консилиум друзей-приятелей.
– Юраша, – жалобно говорит Илюша Скворцов, – здравствуй. Володя Рачительный, Андрей, Митя тоже узнают меня и здороваются: кто бодро, кто грустно. Я им всем жму руку своей правой, пишущей, и слабосильно спрашиваю, как они узнали, что я тут. Оказывается, при мне нашелся единственный документ – квиток от денежной ведомости Бюро пропаганды художественной литературы, давний, по которому в больнице меня вычислили – и позвонили. Ага, вот как. Понятно.
– Ты как, Юраша? – спрашивают они сочувственно.
– Трезвый вроде, – отвечаю я.
Это хорошо. Продолжай оставаться. Они врачей опросили, те говорят, что лежать придется долго и основательно, но худшее позади, а лучшее впереди. Врачи говорят, что я живучий и стойкий, хвалят меня.
– Ага, – соглашаюсь. – А как выгляжу? Фотогеничный?
Ну, о виде своем мне еще рано думать, говорят они. Меня, собственно, за бинтами не разглядишь. Но врачи говорят, что воскрешение мое – дело времени. Помаленьку-потихоньку, Юраша, восстановишься. Только надо сосредоточиться на восстановлении.
– А гостей рижских проводили? – спрашиваю я.
– Помнишь! – удивляется Илюша. – Проводили. Ну их!
– Мне бы журналов каких-нибудь.
– Принесем.
– Книг бы.
– Принесем. Пока вроде рано, а потом принесем. Ты пока отдыхай. Ты же давно не отдыхал.
– Порядочно.
– Ну вот.
– А еше, Илюша… Помнишь такую – Лизу? Фамилия Семенова.
– Помню.
– Она в газете «Свобода» работает.
– Понял. Дам знать.
– Спасибо, что зашли, – говорю я очень банально и невыразительно.
Кончай, Юраша. Они еще зайдут – и не раз. Главное, чтобы я отдыхал и восстанавливался. А они сейчас пойдут и слегка отметят мое воскрешение.
– Ну, правильно, – одобряю я.
Муть. Боль. Тоска. Я точно не знаю, зачем я пробудился. Врачи полагают, что сделали доброе дело, но я не уверен. Они меня часто посещают, врачи, в том числе и гинеколог Витя Мальков, знания которого на меня все-таки не распространяются. Он откровенно мне говорит, что вытаскивали меня трудно, и реанимироваться придется долго. То-то, то-то и то-то, разворачивает он передо мной медицинскую картину моего избиения. Проще перечислить, что осталось в целости.
– Но ты держись, – наставляет усатенький, по всегдашнему щеголеватый Мальков. А что еще он может сказать? Колите меня, накачивайте лекарствами, я не против. Я, пожалуй, хорошо выдерживаю боль и муть, но не уверен, что это надо. Мои сны ужасны. В них нет ни детства, ни смеха, никаких красок живых – ничего, кроме животного рева, мата и крови. Я начинаю верить, что жил лишь среди животного рева, мата и крови. Спать тяжело, а пробуждаясь, я опять закрываю глаза. Смотреть вроде бы не на что и незачем, потому что вокруг ничего не изменилось. Все то же, что было до больничной палаты. Нет ничего такого, чего бы я не знал раньше. Эта вторая моя жизнь, она не вторая, а последовательное продолжение первой, незаконченной. И я не говорю себе: «Ну, начнем по-новому, Теодор, по-иному». Восстанавливаюсь и все, заведомо зная, что обрету то же самое, что имел, но только более низкого качества. Однако, восстанавливаюсь. Это происходит помимо меня.
А прежде навещает Лизонька. Да, она приходит. Я удачно один в палате, сосед где-то курит. Лиза появляется и замирает на пороге, разглядывая Теодорова. Вероятно, она предполагала, что я не такой безнадежный. Я ее ободряю разбитой усмешкой: давай, мол, давай, приближайся! Лиза подходит к кровати. Я ее беру за руку. Светлое, узкое, зеленоглазое лицо ее по-прежнему светлое, узкое, зеленоглазое.
– Чего пришла? – спрашиваю я слабым голосом. Такой страдалец этот Теодоров!
– Ты же просил, – отвечает Лизонька.
– Не помню.
– Уйти?
– Погоди чуть-чуть. Дай погляжу. – И гляжу. И оцениваю: – Красивенькая.
– Да, получше тебя.
– По ночам не броди. А то будешь, как я.
– Я не брожу.
– Вот и не броди. Запрещаю. Как живешь?
– Не знаю, что сказать.
– Ну и не говори. Страшно испугалась?
– Что?
– Я говорю, ты страшно испугалась, что меня не убили? – Шучу то есть. Такой страдалец, а шучу! Это ценить надо.
Но Лизонька не улыбается. Без меня она разучилась улыбаться. Некому ее без меня рассмешить, развеселить. Она без меня может запросто умереть, так я думаю.
– Плохо тебе? – спрашивает она. А руку свою не убирает. Правильно. Понимает, что нельзя выдергивать свою руку из руки такого страдальца, как я. И по щекам хлестать меня сейчас несвоевременно, тоже соображает.
– Отдыхаю, – отвечаю я.
– Понятно. Отдыхай лучше. Я принесла сливовый компот. Любишь?
– Никогда не пил.
– А что ты любишь? Я ведь не знаю.
– Ну, тебя, – тотчас отвечаю я. Страдалец, мозги пробитые, а вишь, какой сообразительный.
Тут Лизочка убирает руку.
– Давай я пойду, – говорит она. – Мне на пять минут разрешили.
– Иди, что ж. А еще зайдешь?
– Дней через десять, не раньше.
– Почему?
– Опять командировка.
– И куда?
– К нефтяникам.
– Это плохо. Там опасно. Они пьют много. Взяла бы меня с собой.
– В другой раз. – Лизочка встает. Ни разу не улыбнулась. Ну и ни слезинки, само собой. – Выздоравливай.
– От души желаешь? – спрашиваю я.
– Конечно.
– А это самое… на прощальный поцелуй не потянешь? – слабо проговариваю я. Страдалец, страдалец! Кто же такого не пожалеет? Разве кобра какая…
Лизонька глубоко вздыхает, наклоняется и бегло касается губами моей щетинистой щеки. Я успеваю пишущей рукой погладить ее по волосам.
Только и всего. И нет ее, как не было.
А вопросы остались. Ничего все-таки не понимаю! Муть, боль не дают думать.
На месте Лизы появляется некто из милиции, мой запоздалый защитник.
Он с блокнотом, он берет у меня интервью. Но ничего толкового я ему сообщить не могу, лишь: трое, рослые, молодые. И говорю: пусть живут!
– Пусть живут? – переспрашивает.
– Пусть.
– Прощаете их, значит. Ну-ну, – кривится он. То есть мое всепрощение вызывает его отвращение. Удаляется.
Еще Суни. Еще Нина Медведева. Еще кое-кто.
Я никогда не болел, разве что в раннем детстве. Нет привычки и навыка лежать бессильно в кровати. Моя жизнь проходит предо мной. Ваша жизнь проходит перед вами? Моя жизнь проходит предо мной: ранняя и поздняя. Раннюю я люблю сильней, чем позднюю, но и о поздней не сожалею. Шел прямо, целенаправленно. Хоть бы раз свернул куда с магистральной линии – не было этого. Чего не было, того не было! Сознательно приближался к этой больничной кровати. Зачем? А спросите что-нибудь полегче! Зачем вы уподобляетесь самим себе? Зачем живете так, а не этак? Зачем кричите на ребенка, который не хочет вас повторять? Какую любовь выбрали и зачем? Не хотите ли поменяться со мной своей жизнью? Чего боитесь и зачем? Какая смерть предпочтительней – под каблуками, или в раковом корпусе, или в уютной семейной постели? Не знаю даже, что вам и ответить, как и самому себе. Может быть, вы знаете, а я нет. Но и ваши знания, видит Бог, не универсальны. По-моему, лишь к упорядоченности стремитесь. К неукоснительному выполнению школьных правил поведения всего лишь. Вчерашний ваш день благополучный – лишь старательно выполненный урок. Ну и что же? Ну, и ничего. Продолжайте.
Боль, муть. Пью, ем. Вскоре прислушиваюсь к Российскому радио. Вскоре начинаю читать газеты. Вскоре обкладываюсь книгами и журналами. Вскоре вновь появляется Лиза-путешественница. Наш диалог (в журнальном варианте):
Я. Здравствуй. Посвежела. Красивенькая. Как съездила?
ОНА. Хорошо. А ты как?
Я. Восстанавливаюсь. А ты как?
ОНА. Что?
Я. Ну, как ты?
ОНА. Что ты хочешь сказать?
Я. Я хочу спросить: как ты вообще-то?
ОНА. Считай, что хорошо. Яблоко хочешь?
Я. Не ем. Спасибо.
ОНА. Тебе трудно угодить.
Я. Да, привередливый. А ты не хочешь посетить мою квартиру?
ОНА. Зачем?
Я. Тараканов подкормить. Пожить там.
ОНА. Слушай, давай не будем об этом.
Я. Ни о чем не будем?
ОНА. Да, ни о чем. Так лучше.
Я. Ладно, давай. А все-таки съезди. Там в кухне пакет. В пакете журнал. В журнале несколько страниц рукописи. Начало одной новой штуки. Называется «Невозможно остановиться». Можешь привезти?
ОНА. А ключ?
Я. Толкнешь плечом.
ОНА. Хорошо. Привезу.
Я. И чистой бумаги. И ручку.
ОНА. Хорошо.
Я. А больше ни о чем не будем говорить существенном?
ОНА. Нет.
Я. А то давай поговорим.
ОНА. Нет. Не хочу.
Я. Ну, правильно. О чем? О моей светлой любви ты все знаешь.
ОНА. Перестань, а то уйду.
Я. Лиза, Лиза! Какая ты, однако, молодая и глупая!
ОНА. Ну, до свиданья. Яблоки я все-таки оставлю. Рукопись привезу.
Я. А знаешь, Лиза, прилегла бы ты ко мне на пять минут, я бы за пять минут выздоровел.
ОНА. Не будь сволочью. Не пользуйся своим положением.
Я. Да, верно. Извини.
ОНА. Выздоравливай. Рукопись привезу, если найду.
И уходит, светлоликая моя, без прощального поцелуя. И вскоре привозит дорожные мои листы, числом немного. А затем – через две недели? – после длинной-предлинной паузы появляется в последний раз.
Едва она входит, как я, пишущий в лежачем положении, в страхе застываю. Дыхание мое прерывается. Меня не добили во дворе микрорайона, а она сейчас, чувствую, прикончит. Без железного прута, без нунчака, без кастета. Лет на тридцать выглядит. Сильно, ненатурально накрашена, как никогда. Зеленые глаза не мигают.
Присаживается рядом на стул. (А мой сосед – понимающий – удаляется в коридор.)
– Ну, сообщай, – выдыхаю я.
– Юра, я уезжаю. – За все время первый раз по имени.
– Опять в командировку? – кривлюсь я под своими бинтами. (Ложь во спасение.)
– Нет, в Москву. Домой. Практика у меня закончилась.
– Вот как. Уже. И когда вернешься? – Я тянусь за сигаретами, я покуриваю тайком в палате.
– Слушай, ты же знаешь, что я не вернусь. Знаешь ведь. Зачем же спрашиваешь? – не мигая глядит Л. Семенова.
– Откуда мне знать? Я думал, у нас уговор, что перейдешь на заочный и вернешься. Я точно помню, что у нас был такой уговор. Мне память, к сожалению, не отшибло. Я точно помню, что мы договаривались: переведешься на заочный и приедешь. Был у нас такой московско-тойохарский пакт? – внятно выговариваю я.
– Был, Юра, да сплыл, – жестко выговаривает взрослая, умная, мной воспитанная Л. Семенова.
– Как же так? Это нехорошо – нарушать пакты. Ты, наверно, обалдела и плохо соображаешь. Я столько сил приложил, чтобы ты меня полюбила. Незаметно сам в тебя врезался. А ты вдруг все рвешь, как дура. Это как?
– Хорошо, считай, что я дура. Но я все равно сюда не вернусь.
– Это очень по-женски, Лиза. «Пусть я трижды неправа, но сделаю по-своему!» Страшно примитивно, Лиза. Ты ли это? – беру ее за руку.
– Спроси себя, почему я стала такая, – освобождает она свою руку. (Не жалеет страдальца!)
– Неужели не можешь простить? До сих пор? – вопрошаю я.
– Не в этом дело. Давно простила. Что тебя обвинять! До тебя все равно не доходит. Дело в том, Юра, что я не умею жить одним днем, как ты. А никакого будущего с тобой не вижу. Неужели не ясно?
– Ты баба, – твердо заявляю я.
– Согласна. Баба. Кто же еще?
– Бабенка. Не журналистка. О, нет!
– Пусть так. Оскорбляй дальше. Ты больной. Тебе можно.
– А почему говоришь чушь? – вскрикиваю я. – «Не вижу будущего!» Какое будущее тебе надо? Коммунизм, что ли? Этого я не обещаю. А любить люблю. Слышишь, что говорю? Я же тебя люблю. Вас миллионы, а люблю только тебя, поняла? Мало тебе?
– Перестань. Прошу.
– И ты меня любишь по-страшному. Скажешь, нет?
– Нет.
– Врешь! Себя обманываешь. Я знаю, чего ты боишься. Ты думаешь, что я каким был, таким и останусь. Дурочка! Это невозможно. Мне не зря башку пробили. Я тут лежу, думаю и принимаю ответственные решения. А ты заявляешь, что уезжаешь навсегда. Совесть есть?
– Безнадежен, – вздыхает Лиза. Грустно так. Печально.
– Не уезжай, – говорю я. – Пожалуйста. То есть уезжай. Пожалуйста. Переводись на заочный и возвращайся.
– Нет, Юра, – качает она головой.
«Ах, какая сучка!» – думаю я в совершеннейшем отчаянии. И говорю:
– Слушай, ты, может, боишься, что я стану калекой, инвалидом? Хреновина какая! Все срастется, зарубцуется. Никаких последствий не будет.
– Дай Бог, – опять по-старушечьи вздыхает Лизонька.
– Ну вот. Выздоровлю на все сто. И все пойдет по-иному. Мы, знаешь, как будем жить? Прекрасно! Я работать буду, как пес, и дома, и в редакции. Ты мне будешь помогать, а я тебе. Роман напишу, вот этот… он может бестселлером стать. Деньжищ получим кучу. Носить на руках тебя буду. Ребенка родим. Хочешь ребенка? Я хочу, я еще не старый пень. От меня, знаешь, какие дети рождаются – чудо! Мы весело будем жить, вдохновенно, слышишь? Нам завидовать будут. А с питьем я покончу. С бабами тоже. Обещаю. Клянусь.
– Мне уже пора идти.
«Ах, какая сучка!» – опять думаю в совершеннейшем отчаянии. И продолжаю:
– В постели я еще лет двадцать буду дееспособен, а то и больше. Это пусть тебя не волнует.
– Рада за тебя. Мне пора. Юра.
– А что тебя ждет в твоей задолбанной Москве? – стараюсь не слышать ее слов. – Ну, встретишь какого-нибудь Апполона, молодого, красивого. А он окажется на поверку гомиком и сволочью. Может такое быть?
– Я тебе желаю. Юра…
– Чего? Смерти? Ты добьешься – я сдохну. Без тебя покачусь вниз, это точно. А с тобой не покачусь. И ты со мной расцветешь, уверен!
– Ну, хватит! Хватит! – вскрикивает умная Лиза с искаженным лицом. Пытается встать, но я удерживаю ее за руку.
– Вернешься?
– Нет.
– А знаешь, как это называется? – ору я на всю палату. – Сучье предательство!
– Пусть. Прости. Пусти, пожалуйста.
Я вдруг слабею, палата плывет в глазах.
– Ну, что ж, – говорю. – Ладно! Уматывай. Не поминай лихом.
– Вот возьми. Я тебе кое-что написала, – протягивает она мне конверт. А в конверте, надо думать, письмо. Без этого они не могут, без таинственности, без своих женских штучек-дрючек. Записочки, интриги…
– Сейчас прочитать? – спрашиваю сквозь пелену.
– Нет, потом.
– Хорошо.
– Выздоравливай! – звенит ее голос. – Удачи тебе! («Вот сучка!») Захочешь – напиши. («Как же, жди!») Я тебя всегда буду помнить, Юра. («Это уж точно».) Жаль, что все так получилось. («Жаль, жаль».) Можно поцелую? («Целуй!»)
Целует. В губы мои закипелые. Рукой пишущей я прижимаю ее затылок и не отпускаю. Выдеру сейчас прядь волос на память с корнем. Прокушу ей губу, а еще лучше – откушу кончик языка. Ах, ты такая-сякая, сучка уезжающая, меня бросающая, ничего не понимающая, пропадающая вдали! Вот как возьму, да как орошу тебя слезами мужскими, редкоземельными, кровавыми, чтобы помнила и сама рыдала восемь часов в самолете и еще восемь лет потом. Дрянь драгоценная! Сука, сука! Обида, обида! Уничтожает на ходу, как собачница, сдирает шкуру с живого, повизгивающего. Сама слезами заливает мне лицо, сучара. Тяжело ей! Больно ей! Униженная и оскорбленная. Преступление и наказание. Не умеет и не желает рисковать. Счастье ей подавай самородное! А мук мученических Не переносим. В Москве, столице мира, найдем хахаля. Ах, пусти меня, Юра, пусти! Ах, подкатывает трап! Губы твои продажные век не забуду, сука. Сукой буду, ты меня доканаешь. Ну, еще разок. Ну, еще чуток. Ну, беги, ну, исчезай, пропадай, бедная Лиза! (Н. А. Карамзин, «Бедная Лиза», М., «Художественная литература», 1965 г.).






