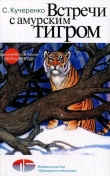Текст книги "Тигроловы"
Автор книги: Анатолий Буйлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
* * *
Первым проснулся Савелий. Он так раскочегарил печь смолистыми кедровыми дровами, что спящие сразу посбрасывали с себя все, чем были укрыты, и даже Ничипор сонно выбрался из своего спального мешка и, заголив спину и почесывая ее, уткнулся в угол нар, откуда тянуло прохладой. Павел, к тому времени уже совсем проснувшись, бросил взгляд на спину лежащего рядом Ничипора и увидел на ней с правой стороны большой, как подкова, шрам, а чуть повыше, в том месте, где пальцы чесали кожу, еще два беленьких пятнышка. Он неотрывно смотрел на шрамы, пока Ничипор не перевернулся на спину и не открыл глаза.
Во время завтрака Ничипор угнетенно молчал.
– Что-то, Ничипор, хмурый ты сёдни с утра, – заметил Евтей. – Сон плохой привиделся, али соскучился уже по Матрене своей?
– Да какая там Матрена, – отмахнулся Ничипор. – Спина что-то опять разнылась, а идти сёдни на дальний путик, километров двадцать туда и обратно. Надо бы на ближний путик пойти, да был я там позавчера, а на дальнем пять дней уже не был – колонок попадется, мыши его обскубают. Вот и думаю: куда идти?
– Здоровье-то, однако, дороже. Иди на ближний путик, и дело с концом, – решительно посоветовал Евтей.
– Да, пожалуй, так и сделаю, – оживился Ничипор. – Да вот, кстати, и приду пораньше, топорище соображу, а то все в бегах да в бегах, некогда и топорище сделать.
Взявшись рукой за поясницу, болезненно морщась, он поднялся из-за стола, начал одеваться. Тигроловы тоже засобирались. В оконце уже голубел рассвет.
...День был хотя и пасмурный, но жгуче морозный. Евтей, расспрашивая Ничипора, понял, что у того три путика – один по центральному ключу и два по самым большим ключам, впадающим в центральный только с одной, левой, стороны. В верховьях Антонова ключа лесоразработки; с левой стороны на водоразделе, Ничипор говорил, тоже леспромхоз поджимает, значит, остается тихое место только на правой стороне, откуда в центральный ключ четыре небольших ключа впадают, вот и надо их проверить. И первым делом надо всю эту местность как бы в клещи взять. Поэтому Евтей предложил Савелию зайти с самого нижнего ключа и проверить его, а сам пошел с Павлом в самый дальний ключ. Если тигрица окажется в этом треугольнике, то завтра охотники непременно пересекут ее следы. Если же следов не окажется, – значит, надо перейти через лесосеки и искать тигрицу на склонах реки Орочонки.
...Пойма ключа оказалась густо заросшей высокими кустами и кочками, меж которых, замаскированная снегом, стояла болотная вода. Павел свернул поближе к склону сопки, но вдоль него тянулся густой перестоявший пихтовый лес, заваленный буреломом, через который идти было еще труднее. Но зато здесь не было риска провалиться в воду и промочить олочи. Правда, был другой риск – поскользнуться на валежине и напороться на крепкий, как костяной штырь, сук. В тайге надо быть постоянно собранным, готовым ко всему. Видишь – валежина мокрая, клыкастая – обойди ее, если можешь, а не можешь – подстрахуй себя.
Павел шел по валежине медленно, напряженно. Помнил: осторожностью не только себя бережешь, но и близких тебе людей; поскользнись сейчас, напорись вон на тот острый сук – и все, и вышел из строя, всей бригаде сорвешь работу.
Павел оглянулся на Евтея. Старый таежник, вероятно, не раз смотревший смерти в глаза, пробирался по нависшей валежине с таким напряжением, как будто боялся наступить на мину.
Наконец-то выбрались из темного пихтового леса в светлый, чистый дубняк, перерытый кабанами, – идти стало легче.
– Евтей Макарович! Я вот вас о чем спросить хотел. Я видел у Артемова на спине большие шрамы. Вы не знаете, он был на войне?
– Как не знать. – Евтей снял шапку, пригладил мокрые от пота волосы. – Мы с ним одно время батчиками в экспедиции работали, шишковали несколько раз, плотничали в одной бригаде, и избушки доводилось строить для промхоза. На войне он был, действительно. До самого Берлина дошел, разведчиком. Да вить он с твоим батькой одно время вместе воевал, неужто Иван тебе не сказывал?
– Может быть, и сказывал, – пожал плечами Павел. – Только все имена и фамилии перепутались в голове. Да и трезвый-то отец войну никогда не вспоминал, ни одного слова, даже кинокартины о войне смотреть не мог, а пьяный только о войне и говорил. Но пьяного разве послушаешь так, как хочется, по-человечески? Тем более что пьяных я вообще терпеть не могу.
– Да-да, это верно, пьяный и тверезый – не кумпания, – с усмешкой кивнул Евтей. – Ну так вот, заметил ли ты вчера, как обрадовался тебе Ничипор?
– Вроде бы да...
– «Вроде»! Я-то знаю Ничипора. Он стесняется. А почему он тебе отличку такую сделал вчера? Слыхал я от твоего батьки, выпивали с ним тогда, как он Ничипора раненого на спине из разведки к своим волок. На засаду они напоролись, что ли, толком я не понял – оба мы тогда веселые были. Так что ты сёдни попроси Ничипора рассказать об этом деле. Только не говори, что я надоумил, скажи, что батька об этой истории упоминал. О себе-то он вряд ли что расскажет, для такого разговора надо особый ключик или случай иметь, а вот сыну об отце рассказать, пожалуй, должон в любом случае, только ты понастойчивей проси – не отступайся... Эй, Павелко! – вдруг воскликнул Евтей. – Ты пошто чушечьи тропы так бойко перешагиваешь?
Павел вздрогнул, оглянулся – сзади действительно осталась торная чушечья тропа.
– Я ведь говорил тебе, что по всякой торной тропе надо пройти до того места, пока тропа не разобьется. Вдруг тигра прошла здесь? А на разбое след ее и виден будет.
– Я не заметил ее, Евтей Макарович, – виновато признался Павел. – Замечтался.
– А я и вижу, что ты замечтался. Надеешься, что я сзади тебя подстрахую? А вдруг и я прогляжу, тоже размечтаюсь? Нет, дорогой ты мой тигролов, тако дело не пойдет! – Евтей говорил серьезно, с легким раздражением, и Павел вполне понимал, что заслужил более суровый выговор. – Ты одно запомни накрепко: успех всего нашего дела зависит сейчас от каждого из нас. Ни одного следа – даже мало-мальски сомнительного нельзя оставлять без внимания. А тут ведь дело к тому же еще ответственное. Тигров-то заказала в Москву заграница, а Москва – Приморскому краю, а Приморский край – нашему промхозу, а промхоз уже нам. Вот и получается, что мы у всех на виду. Не поймаем тигров – нас, конечно, ругать не станут. На нет и суда нет! Но стыдно будет перед промхозом, промхозу – перед краем, краю – перед Москвой, а Москве – перед заграницей. Чуешь, нет, к чему клоню? – уже миролюбиво спросил Евтей.
– Понимаю, Евтей Макарович, дело серьезное, и все зависит только от нас.
– Именно, именно, Павелко!
Торная кабанья тропа, по которой пошли охотники, метров через сто разбилась, тигриного следа здесь не оказалось.
– Ну вот, проверили, – удовлетворенно сказал Евтей. – Теперь душа спокойна, пойдем дальше своим маршрутом.
Но вскоре они наткнулись еще на одну тропу, затем вышли на склон, сплошь перекопанный кабанами, тут пришлось сделать круг километра в полтора. Потом еще две тропы проверили. Но ключ все-таки был короткий, и в полдень тигроловы уже поднялись на водораздел. Обратно к избушке шли по вершинам отрога.
На скале было холодно и ветрено. Разгоряченные подъемом тигроловы, недолго полюбовавшись уходящей вдаль панорамой, боясь остынуть, торопливо спустились к подошве скалы. От скалы к пойме спуск был отлогий и длинный; среди чистого дубняка там и сям виднелись кабаньи и изюбринные следы, кое-где встречались следки колонка и белки. Так и тянуло спуститься в ключ по чистому парковому дубняку, и Павел уж было бодро зашагал вниз, напрямик к зимовью, но Евтей указал на заросший леспедецей хребет.
– По хребту, по хребту, Павелко, пойдем – тут следов звериных поменьше, ежели тигриный встретится – легче отличить его будет. Вот по краешку кустов и держись.
Хребет увел тигроловов далеко в сторону от избушки, но солнце еще стояло над сопками высоко. Намеченный маршрут закончен, идти же по новому маршруту не было смысла, поэтому пришлось повернуть к зимовью. Возвращаясь так рано, Павел чувствовал себя словно бы виноватым. Так было с ним всегда и на охотничьем промысле. Осталось это, вероятно, от отца – он сам всегда на промысел уходил из зимовья в тайгу с рассветом, а возвращался в сумерках.
Впереди завиднелась избушка. Павел посмотрел на часы. Было три часа.
– Кажись, не одни мы лодыри сёдни, – сказал сзади идущий Евтей. – Дымком попахивает. Поди и Ничипор тоже пришел.
Ничипор встретил их с усмешкой:
– Э-э, ребятки, вы что-то поздно пришли, опоздали на обед. Теперь только к ужину кормить вас буду. А вообще-то, вы с такой работой, как сегодня, и на ужин себе не заработали. Почто рано-то пришли? Неужто след отыскали?
– Сам-то раньше нас приволокся, а и обед уже успел слопать. Тебе бы экономистом в конторе работать, – пошутил Евтей.
– Самая подходящая должность для меня, – согласился Ничипор, выставляя на стол котелок с рисовой кашей, щедро заправленной сливочным маслом. – Давайте-ка обедать, то бишь полдничать, да и я с вами побалуюсь заодно, а то кишки к животу прилипли: с утра не жрамши. – Тон его голоса был и ворчлив, и мягок; глаза, спрятанные под мохнатыми седыми бровями, излучали добрый свет. Ничипор, вероятно, пришел давно, потому что успел сварить кашу, наколоть дров и вытесать заготовку на топорище – она теперь висела под потолком над печкой. – Ну так почему все-таки рано возвернулись? – вновь спросил он, слегка заинтригованный тем, что Евтей увильнул от вопроса. – Нашли, что ли, тигру?
– Ничего не нашли, Ничипор Матвеич, – поспешил успокоить охотника Павел. – Просто ключ весь вывершили, спустились по отрогу, в избушку возвращаться вроде рано еще, а в другой ключ заглянуть, – тоже не успеем, вот и пришлось к полднику поспевать.
– Ну и слава богу, что не нашли, – искренне обрадовался Ничипор. – А я вот тоже пришел сегодня с пустыми руками. Попал один колонок, да лапу оставил в капкане и ушел на трех.
– Нашел жалеть об чем, – подсаживаясь к столу, сказал Евтей. – Хорек вонючий открутился! Сёдни он у тебя открутился, а завтра в другой капкан тремя лапами встрянет – все одно поймаешь. А вот когда соболь открутится да уйдет, вот тут жалко! Он же, паразит, если в капкане побывает, другой раз обходить его будет, только на тропке и можно его изловить.
– «Хорек вонючий»! – передразнил Ничипор. – Давно ли соболятником стал? Всю жизнь колонков ловил по сто и по двести штук, а теперь второй год как на соболиный участок перешел, двадцать соболей поймал – и загордился, колонками забрезговал.
При дневном свете Павел увидел, что волосы Ничипора не так сплошь черны, как ему показалось вчера. Сейчас, при дневном свете, голова его густо серебрилась сединой.
Хорошо пить с мороза горячий сладкий чай, сидя в уютном теплом зимовье, облокотившись на дощатый стол, грея кружкой ладони и поглядывая в запотевшее оконце, за которым расплывчато видна склонившаяся над обрывом речки мохнатая ель. Тихонько потрескивают в печке смолистые кедровые поленья, неторопливо течет беседа.
Напившись чаю, Ничипор, отдуваясь, откинулся спиной на край нар, достал кисет, скрутил «козью ножку» и блаженно закурил.
«Самый подходящий момент для вопроса, – подумал Павел, с беспокойством оглянувшись на дверь. – Пока Савелия и Николая нет, он может рассказать, а придут они – постесняется». Павел уже, было собрался с духом, но Ничипор опередил его:
– Слышь-ко, Павлик! А скажи-ка ты мне, как ты смог династию Лошкаревых пробить? Как тебя Савелий с сынком своим в эту тигроловскую колесницу допустили? Непохоже это на них, особенно на сынка.
Павел кратко поведал Ничипору о том, как все случилось, Евтей кое в чем дополнил его рассказ.
– Вот оно что. Ну, молодец, Павлик! Молодец! – с искренним восхищением похвалил Ничипор и, обернувшись к пересевшему на нары Евтею, спросил весело: – Евтей, а, Евтей! Не боязно тебе Павла-то было в бригаду втаскивать? Он ведь, Павел-то, выходит, весь в отца своего пошел, упрямый до ужасти! Ей-богу, он теперь вашу династию – как железный клин чурку – развалит! Не жалко?
– Пускай разваливает. Лишь бы дело не пострадало.
– Это верно, это верно, – удовлетворенно закивал Ничипор и, внимательно посмотев на Павла, заключил со вздохом: – Да, настырный ты хлопец, ничего не скажешь, весь в отца. Большой души человек он был и сына вырастил ладного. – Ничипор сделал несколько торопливых затяжек, пальцы его, державшие самокрутку, мелко подрагивали.
– Ничипор Матвеич! Отец как-то говорил однажды, что воевал вместе с вами в одной части, и даже будто бы в разведку вы вместе ходили, – осторожно сказал Павел. – Вы не могли бы мне рассказать, как это было?
– А он тебе подробностей разве на рассказывал?
– Нет, только упомянул об этом, и все.
– Было это, Павлик, было... Воевали мы с твоим отцом. Недолго, правда, месяца три всего, до моего ранения, а там судьба развела нас. Ну, на передовой три месяца – это ого-го! Это срок большой да тяжкий. Иной раз там и неделя – как целая жизнь. – Ничипор говорил неохотно, пересиливая себя. – Воевали мы, дорогой ты мой Павлик, с твоим отцом не в части одной, а в одном даже взводе, в одном отделении, и отец твой был тогда командиром отделения...
– Подождите, Ничипор Матвеевич, – остановил Павел рассказчика, – ради такого случая надо выпить. У меня в рюкзаке фляжка со спиртом, сейчас я, – Павел принес фляжку, торопливо, на глазах у изумленных Евтея и Ничипора налил им в кружки граммов по сто, себе плеснул символично.
– Может, дождемся Лошкаревых? – неуверенно предложил Ничипор, между тем охотно принимая кружку.
– Хватит и им, – успокоил Павел. – Спирта полная фляжка, захватил на всякий случай, вдруг простынет кто...
– Это по-хозяйски, – похвалил Ничипор, подмигивая Евтею, – сейчас мы твоим лекарством подлечимся от старых хворей.
Закусив размоченным сухарем, Ничипор, удовлетворенно улыбаясь, шутливо погрозил Павлу пальцем:
– Ишь, искуситель, мать-перемать! Нам с Евтеем по полкружки набухал, а себе глоток плеснул.
– Так я же не пью, Ничипор Матвеевич!
– Ну добро, Павел! – Ничипор вновь достал кисет, насыпал в клочок газеты щедрую порцию самосада. Минуты три он курил молча, сдвинув брови к переносью, сосредоточенно разглядывая свои прокуренные до желтизны пальцы.
Евтей вяло посасывал сухарь, одобрительно посматривая то на Павла, то на задумавшегося Ничипора.
– Говоришь, отец подробностей не сказывал?
– Он воину не любил вспоминать.
– Это истинно, – закивал Ничипор. – Разве об этой проклятой войне приятно вспоминать? Нет, браток, тяжелые это воспоминания. Отец твой нахлебался этой войны так, что никому не пожелаю. Снится она мне часто, проклятая... а вот рассказывать о ней тяжело. Ты вот даве попросил рассказать, а у меня будто ком сухой к горлу подступил. – Ничипор невесело усмехнулся, снял с себя меховую безрукавку и бросил ее на нары. Оставшись в одной рубашке, продолжал: – Хорошо догадался горло смочить, теперь и язык развязался.
Отец твой Иван скромный был, не бахвалился своим геройством, ничем себя не выделял, работал до самого последнего своего дня. – Ничипор взволнованно сцепил на коленях руки, чуть подавшись вперед. – Вы думаете, истинный герой только тот, у кого звезда на груди? Не-е-ет, не только. Если бы взяться награждать всех тех, кто в войну заслужил это высокое звание, то было бы героев в десять крат больше. Много таких героев живет себе тихо-мирно. Грудь вроде в орденах, но даже малейшую необходимую льготу себе попросить стесняются. А иной и войны почти не видал, в первый день в госпиталь попал и комиссовался, а теперь, смотришь, в грудь себя стучит и внимания особого требует.
– Отец твой жизнь мне спас на фронте. – Ничипор откачнулся, облокотившись на край нар, продолжал с тихим возбуждением: – Стояли мы в обороне. Посылают наше отделение языка взять. Дело привычное. У нас к немцам даже своя лазейка была – через топкое болотце. Надежное место было. Днем через это болото переползем, на той стороне, уже в тылу у фрицев, пересидим до темноты в дубовой релке, все что нужно высмотрим, а потом уже к окопам подбираться начинаем. Болото топкое, немцы на него только вполглаза смотрели. Ну вот, к болоту подползли, лежим в кустах, слушаем, вроде тихо, спокойно. Как раз за день до этого снег первый упал, пухло так лежит – четверти на три. Ну вроде все спокойно. Выползли из кустов на болото, ползем по нему гуськом, за торфяной бугорок прячемся. К бугорку подползли – дальше чистое, как белая скатерть, болото. Топкое оно и правда было: зыбуны, трясина, а по центру была в нем грива из плотного, как одеяло, моховища. Бывало, ползешь по нему, мох под тобой прогибается, а не рвется, вот тут и ползали мы. Конешно же, в грязи, в тине болотной вывозишься, как свинья, да лишь бы живу быть! Ну, дак вот, выглядываем – все как было вроде на той стороне. Ползти надо, а Иван, отец, стало быть, твой, руку поднял: «Стойте, ребя! Что-то нехорошо у меня на душе, что-то не нравится мне та сторона, вроде как тигра там затаилась и смотрит на меня». Ребята ему упрек: «Паникуешь, командир! Никого там нет. Давай быстрей поползем на ту сторону – мокро лежать тут...» Ну, Иван говорит: «Нишкните! Я переползу на ту сторону один сперва, сигнал подам, и вы ползите». Ну, хотел ползти, а мне очень хотелось тут геройство свое показать, – Ничипор покачал головой, усмехнулся. – Оно ведь хорошо геройство показывать, когда знаешь, что там, на той стороне, ничего нет и ничто твоей жизни не угрожает... Ну, я Ивану настойчиво так свою кандидатуру навязал, дескать, командир должен оставаться при своем отделении и тому подобное. Ну, пополз, короче говоря. Половину болота уже прополз. Довольный такой ползу! Назад оглядываюсь – хлопцы наблюдают за мной, а мне это лестно, а мне того и надо – знай наших! Ну вот, ползу, улыбаюсь себе, даже голову не прячу, неохота мордой снег пахать, болотную жижу нюхать, на дубовую релку пялюсь – близко она, вдруг – как сыпанет оттуда пулемёт! Снежные фонтаны от пуль перед самым носом поднялись. Засада – мать-перемать! Умакнул щеку в болотную жижу, лежу, не шевелюсь, глазом не моргну. Окаменел весь от страха, богу молюсь. И скажи-ка ты, и раньше в бога не верил, и сейчас не верю, а тогда твержу про себя: «Господи, спаси!» – Ничипор презрительно сплюнул, навалившись грудью на край стола, понизив голос, продолжал: – А вокруг, слышу, пули шлепают, смачно эдак, густо, будто ребятишки по воде прутьями стегают. Ужалила, ожгла меня пулька в правую ногу чуть повыше колена. Лежу не двигаюсь, боюсь показать, что живой. Еще одна в левое плечо ужалила. Ну, думаю, каюк мне, сейчас пулеметчик пристреляется и сделает из меня решето. Боженьку поминать перестал, один черт не помогает. Лежу смирненько, смертушку жду. Слышу, пулемет смолк. Лежу я у них на виду, как муравей на белой скатерти, решили, видно, что убит я.
Вот так и открыли мы новую огневую точку у немцев. А приказ был в бой с противником не вступать, себя не демаскировать. Наши тоже подумали, что мне конец. Пора им уходить, а то, чего доброго, начнут немцы все болото минометами обстреливать. Да и доложить нужно об огневой точке, этой дырой пользовались и другие разведчики. Иван хлопцев отправил, а сам остался – за немцами понаблюдать, меня в темноте попытаться вытащить и похоронить по-человечески, на сухом бугорке. – Ничипор вдруг закашлял. Откашлявшись, потер лицо, подошел к печке, натолкал в топку поленьев, поставил на плиту чайник. – Савелий с сынком подойти уже должны, пускай с морозу чайком горячим побалуются. – Вновь сел на прежнее место и продолжал устало: – Лежу я посередь болота под прицелом пулемета. Ногу огнем палит, плечо одеревенело, кровь течет, запах болотной тины с кровью раздражает. Забываться стал, одно держу в голове – что я не должен шевелиться. Так до ночи и пролежал в болотной жиже, вижу одним глазом – звездочки на небе зажглись. Тут слышу, кто-то меня за здоровую ногу тянет, да сильно так, жестко. Перехватил меня за раненую, мать-перемать! Застонал я. Иван и хрипит мне: «Живой, Ничипор?» А у меня, чувствую, по щекам слезы текут безудержно. Но до того вдруг мне хорошо и радостно стало. Хочу что-то хорошее Ивану сказать, а голоса нет. Но жить захотелось, ну прямо по-звериному. Доволок он меня до края болота, тут нас и засекли. Ракеты пустили. Иван к лесу ползет, а вокруг пулеметные очереди кусты срезают.
Очнулся я в землянке. Гляжу, ребята Ивану руку бинтуют, марля вся кровью пропиталась. Тащил он меня, оказывается, сам уже раненный, но не оставил... Вот таким был твой отец, Павел. Я к чему все это рассказал? Чтобы ты знал о своем отце побольше, чтобы гордился им.
За дверью раздался шорох и покашливание Савелия.
Ничипор осекся, сказал, будто бы обрадовавшись:
– Ну вот и Лошкаревы пришли!
Савелий с Николаем на своем маршруте тоже не обнаружили тигриных следов. На завтра оставался совсем малый круг. Посоветовавшись, охотники пришли к выводу, что на таком малом кругу тигрица сидеть не будет, рано или поздно она вышла бы за пределы круга на разведку, тем более, что в этом круге, по словам Ничипора, мало зверя и, кроме того, всю осень там стояла экспедиция.
– Надо искать ее на склонах Уссурки, – неуверенно доказывал Савелий. – Там ишшо тайга не шибко тронута, поспокойней, чем тут, и слышал я, будто у однорукого Вощанова двух собак нынче тигра утащила.
– У-у, брат ты мой, хватился, – усмехнулся Ничипор. – Это было еще в августе, да и неизвестно еще, кто утащил его собак: то ли тигрица, то ли тигр, а может, и медведь...
– Ну все одно – дыма без огня не быват, – с неприязнью возразил Савелий. – Придем – расспросим однорукого, он нам без утайки все и расскажет, человек он не скрытный, не бирюк. – Савелий с усмешкой глянул на Ничипора.
– В этом ты прав, Лошкарев. Иван Иванович, действительно, человек открытый и безвредный, потому и удобный для всех: его по одной щеке бьют, а он и другую подставляет.
– Ох и въедливый ты мужик, Ничипор! – искренне возмутился Савелий. – Я твоему Вощанову за всю жизнь и худого слова не сказывал, а ты мне приписываешь черт-те чо!
– Худого не говорил, и доброго тоже, – жестко продолжал Ничипор. – Хоть бы раз кто-нибудь из вас, стариков, на собрании выступил. Угодничаете, слово против сказать боитесь...
– А что, от твоих выступлений много проку-то? – с обидой спросил Савелий. – Много ли делов-то переделано? И твово Вощанова, неизвестно ишшо, надо, нет, оправдывать. Сам он свое достоинство уронил.
– Вот-вот, он уронил, а вы, вместо того чтобы помочь ему поднять его достоинство, зубоскалите над ним. Однорукий! Уж лучше иметь пустой рукав, чем пустую душу! – сердито заключил Ничипор и больше в этот вечер не проронил ни слова.
Утром, перед прощанием, Евтей осторожно попросил:
– Слышь-ка, Ничипор! Ты, это, ежели тигрица с тигрятами появится в твоих угодьях, сообщи нам через Мельничное, ладно?
– И не подумаю, Евтей! Не одобряю я ваш промысел, даже и не рассчитывайте на мое участие. Сами ищите!
Простился он за руку только с Евтеем да Павлом, а Савелию с Николаем лишь головой кивнул: «Бывайте здоровы!»
– Бирюк! Истинно, бирюк! Ишшо и людей критикует! – негодующе сказал Савелий, отойдя от зимовья.
Часа через три артемовский путик вывел тигроловов из девственной тайги на огромную вырубку, посреди которой между пней и вывороченных бульдозером коряжин голо и сиротливо стояло зимовье. Шедший впереди Савелий свернул с путика и, обойдя избушку, повел бригаду по старому волоку к синеющему впереди перевалу, тоже испещренному вдоль и поперек белыми полосами и квадратами вырубок.
– Да-а, обкосили Артемова! – приостановившись и удивленно озираясь, покачал головой Савелий. – В позапрошлом году здесь кедрач стоял отменный...
Ему никто не ответил, и он, подкинув на спине котомку, молча зашагал дальше.
Идти по чистому волоку, укрытому неглубоким снегом, гораздо легче, чем по девственному лесу. Но легкость эта обманчива. Хватает ее на полчаса или час. А если идешь ты по волоку долго, слышишь под ногами однообразный шорох снега, видишь и справа, и слева угнетающую для всякого истинного таежника панораму: обширные пустоши, утыканные тысячами и тысячами пней, вывороченные корневища, гривы и пучки уцелевшего, большей частью еще молодого или уже перестойного и потому негодного для заготовок леса, отвалы земли и дерна вперемешку с корягами и сучками, столканными бульдозерами на обочины лесовозной дороги, – все это непременно станет тебя угнетать, и покажется эта гладкая, засыпанная снегом дорога нескончаемо длинной и кощунственно широкой, неуместной здесь, словно гнойная рана на чистом, здоровом теле.
Только к вечеру поднялись тигроловы на перевал и наткнулись на рабочую лесовозную дорогу. Они вышли по ней еще через час ходьбы на тепляк, около которого безмолвно застыли два оранжевых трелевочных трактора и один челюстной погрузчик. Неподалеку от них стояла на полозьях продолговатая избушка и голубой автомобильный фургон, поставленный на четыре толстые чурки. За фургоном виднелась черная цистерна, за ней на фоне темной и плотной, как стена, тайги смутно угадывались штабеля леса. Терпко пахло хвоей и соляркой. Тепляк представлял собой огромную, вырытую в склоне сопки землянку, вход которой, точно занавес сцены, закрывал брезент. Тепляк был еще новый. Торцы засыпанных землей хлыстов, из которых были сложены стены и потолок, желтели в сумерках янтарными кружочками. В такой тепляк, заменяющий в зимнее время теплый гараж, свободно вмещается десяток трелевочных тракторов. Из печной трубы его клубился дым. Струился дымок и над железной трубой избушки, обещая уставшим людям, если не уют и комфорт, то, по крайней мере, ночлег в тепле.
Небольшая коротконогая дворняжка, лежавшая около дверей избушки, издали заметив приближающихся людей, залаяла, заметалась и вдруг панически, с испуганным визгом, точно ее стеганули плетью, метнулась под избушку. Никто не вышел на лай.
«Видно, сторож в тепляке, не слышит нас», – подумал Павел, но ошибся.
Хозяин избушки сидел за дощатым столом перед лампой и читал книгу. Когда же в зимовье вошли тигроловы и, поздоровавшись с ним, принялись бесцеремонно раздеваться, развешивая шинелки на гвозди поближе к пышущей жаром чугунной печке, он, безмолвно наблюдавший за всем этим, наконец отложил книгу и спросил без удивления:
– Вы откуда свалились? А я слышу, Бобик мой под вагончиком лает, думал, Евстигнеев подъехал, а это вы, оказывается.
– Ты бы хоть спросил, кто мы такие, – сказал Савелий, проходя к столу и усаживаясь на лавку. – Может, разбойники мы, грабить пришли – вишь при оружии все...
– А чо спрашивать? – Хозяин избушки оживился, сложил на столе руки, как школьник за партой, широко заулыбался щербатым ртом. На вид ему лет пятьдесят. Сухое, узкое лицо его хотя и чисто выбрито, но было нездорового серого цвета и казалось измятым и припухшим, под мутно-серыми глазами набрякли мешки. – Чо спрашивать? Если разбойники – значит, жалко мне вас, потому что грабить у меня нечего, ошиблись вы, разбойнички, – все мое при мне! – Он скосил глаза на грязный свой свитер, провел смуглой, похожей на птичью лапу, рукой по лысой, обрамленной седым пушком голове и, беспечно рассмеявшись, без рисовки, но с гордостью повторил: – Все мое при мне! Грабьте!
Он сказал это так, что никто и не усомнился в том, что все его при нем. Павел оглядел убранство избушки, если это можно было назвать убранством: слева от двери – чугунная печь, справа, в углу – умывальник, под ним – замызганный таз, поставленный на еловую с необструганной корой чурку. В глубине избушки – четыре железные койки, заправленные красными, испачканными мазутом и прожженными во многих местах одеялами. На одеялах серые подушки и лоснящиеся от мазута телогрейки. Между кроватями, у стены, поставлены в один ряд тумбочки, на них стопка истрепанных книг, газеты, журналы, радиоприемник, граненые стаканы, эмалированные кружки, засохшие куски хлеба.
– Ну так чего, братья-разбойнички! Будете грабить или чаи со мной погоняете? – терпеливо дождавшись, когда гости осмотрятся, спросил хозяин с прежней гордостью и довольством на лице.
– Да уж ладно, парень, не тронем твое имущество, помилуем тебя, – насмешливо оглядывая закопченное жилище, сказал Савелий. – Чайку попьем, переспим да и с богом уйдем. А ты тепляк сторожишь? Звать-то тебя как? Что-то мне твое обличье будто знакомо.
– Ох и память у тебя девичья, батя! – осуждающе покачал головой хозяин избушки. – В позапрошлом году ты у меня на Моховом в тепляке останавливался. На «уазике» с нашим начальником участка приезжал... Ты еще о следах тигриных расспрашивал. Деньги предлагал за след.
– Скудно живешь, парень, – оглядывая закопченные стены с торчащей в пазах паклей, удивленно сказал Савелий.
– Не-ет, батя, – улыбнулся хозяин, – добра у меня побольше, чем ты думаешь. – Он весело кивнул в сторону окна. – Все мое добро, батя, на улице. Глянь-ка, ежели на слово не веришь. Тепляк мой, трактора мои, а тайги не мерено и звезд не считано. Это чо – не добро?
– Ну, если так-то рассуждать, значит, верно, – усмехнулся Савелий.
– А это, батя, от самого тебя зависит, кем назначишь себя, тем и будешь.
Савелий покачал головой, насмешливо спросил:
– Чего же ты тогда в сапогах кирзовых гарцуешь по морозу? Валенки-то небось пропил, а?
– Сапоги у меня отменные. А на что мне валенки? Я тепляк топлю, а в нем трактора грязищу размесили, как же я туда в валенках сунусь? Понятно или нет?
– Ну, понятно... – неохотно согласился Савелий.
– И потом, чем меньше человек имеет, тем свободней он. А чем больше купил, собрал, накопил, тем ему еще больше иметь хочется. Болезнь такая появилась, вещизм называется. Слыхал? Неотвязная болезнь! Человек вещи покупает, денежки копит и наивно думает, что царствует над вещами. И не видит, что это вещи его уже поработили. Они им распоряжаются: пойди туда, сделай это. Купит такой человек машину и начинает маяться. Ходит вокруг нее, чтобы не украли; опасается, чтобы не помяли, не царапнули. Иной и шабашничает на ней после работы, рублевки да трешки сшибает, надо ведь семь тысяч рубликов, истраченных на машину, вернуть обратно. У меня приятель есть, долго копил на машину – недопивал, недоедал. Купил ее, а ездить на ней боится. Носовым платком кузов обтирает, только еще не крестится на нее, как на икону.
– Наговорил ты, паря, целый ворох, – уклонился от спора Савелий. – Сам, небось, запутался и других путаешь.
– Кое в чем он прав, Савелко, – подтаскивая к столу мешок и развязывая его, заметил Евтей и, повернувшись к насупившемуся вдруг хозяину, спросил: – Как звать-то тебя?