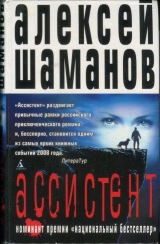
Текст книги "Ассистент"
Автор книги: Алексей Шаманов
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
– Откуда знаешь? – вмешался художник.
– Я у продюсера, у Жанки, спутниковый телефон утром брала, домой звонила, соскучилась… Я месье этому уже сказала… Одни натурные съемки остались, а где в Сибири снег взять? Он уже и в лесу растаял… А в Москве по пояс…
Говорила гримерша сбивчиво, перескакивая с одного на другое, торопливо, будто боялась, что кто-то из нас прервет ее или остановит грубым словом.
– Режиссер сказал, что сегодня все решит с парижским главным продюсером, что, может, и поедем доснимать натуру в Подмосковье…
Она говорила и говорила, а я думал, что сволочь я последняя. С каких пор я стал делить людей по сортам и ранжирам? По внешним данным, национальной принадлежности, умственному развитию или любому другому признаку? Ведь любой способ деления изначально порочен. Любой – свинство и подлость! Все – люди. Все – достойны любви и уважения, нет первых, как нет и последних! Мне же, уроду, дележка эта всегда была отвратительна, потому и выдумал «московскую нацию». А чем я-то лучше? Типичный «москвич». В самом худшем, карикатурном смысле.
Сами собой пришли в голову слова, произнесенные много лет назад, да и не мной даже:
Не буду смотреть на красоту лиц!
Не буду призывать смерть!
Не буду угонять чужой скот!
Не буду призывать убийство!
Не буду сидеть на чужом добре!
Не буду недоволен скудостью приношений!
Гадом буду, не буду! По доброй воле, по крайней мере!
А она, гримерша, плакала, некрасивая, с грубыми чертами лица, искаженными к тому же плачем – безутешным, бабьим…
– Домой хочу…
Я обнял ее за плечи, притянул голову к своей груди и гладил по волосам, по мокрым щекам, гладил… гладил…
– Успокойся, девочка моя, успокойся. Скоро-скоро домой поедешь… к мужу, к детям…
– К детям… – повторила она покорно и зарыдала вдруг в голос.
– Ну, Андрюха, умеешь ты успокаивать, – сказал Григорий, шаря в сумке. – Куда я бутылку-то твою дел?
А я, продолжая наглаживать гримершу, думал, что зря художник ее ищет. Там, наверно, вода, водку-то я выпил. Я же помню это прекрасно!
– Запомни, сынок, – сказал Григорий, отыскав бутылку, – как утверждал один мудрый древний эскулап… впрочем, древний и мудрый – синонимы… Так вот, в небольших дозах организму все лекарство, в излишних – все яд!
Но налил он в стакан дозу далеко не гомеопатическую, больше половины. Протянул женщине.
– Выпей, давай. Это тебя успокоит.
Хотелось добавить: навеки. Сам же сказал: в больших дозах все яд. Полстакана – это мало или много? Вопрос риторический. Полстакана, они и есть полстакана, вот только водки ли?
– Гриш, ты понюхай сперва.
– Чего ее нюхать-то?
– Понюхай! – Я повысил голос, и он подчинился, поднес к носу, поморщился.
– Хороший разлив, почти и не пахнет.
Все мне стало ясно. Водку я выпил, а в бутылку набуровил воду.
Гримерша нервно вырвала свою голову из моих рук, отодвинула меня от греха в сторону по лавке и, уложившись в пару глотков, уговорила всю предложенную дозу.
Вот она, старая гвардия советской кинематографии!
Гримерша, и не поморщившись даже, тут же и закурила. Слез на лице как не бывало… По всем характерным признакам – водка.
– Плесни-ка и мне, – попросил я Григория.
Неэтично проводить эксперименты на посторонних людях, пусть и добровольцах.
Выпил. Полез за сигаретами. Крутанул колесико зажигалки. Водка.
Что же я пил-то ночью? А может, бутылка волшебная? Выпил ее до дна – утром снова полная. Вот повезло-то…
Камеру установили у дверей слева от печки.
Оказалось, в кадр попадает непобеленный кусок торцовой стены. Десять сантиметров от пола до потолка я забелил за десять секунд.
Актера усадили за стол, бабок в ряд сбоку. Актер ел борщ, привезенный из столовой Никиты в термосе, а бабки пели русские народные, точнее, семейские песни. Смысла я почти не улавливал, слова были ближе, пожалуй, к древнерусскому языку, чем к современному. Однако догадался: женщины поют о любви, разлуке и тяжкой бабьей доле, конечно.
Как ни торопился режиссер закончить съемку, британцу пришлось слопать три тарелки наваристого борща. Первую ел с видимым удовольствием, последней – давился. Надолго, вероятно, отбили у мужика охоту к русской кухне…
Потом актера поили чаем из медного самовара, а бабки снова пели. Ну чай британцу пить не привыкать, тем паче он сразу попросил заварить из принесенной с собой металлической баночки…
Словом, в час с минутами съемки были закончены.
ГЛАВА 25
Скучное шоу
Если бы его, укрытого стягом, везли на пушечном лафете под барабанный бой, я бы, пожалуй, тоже не удивился. Но его несли на прямоугольном куске черного войлока четверо дюжих мужиков из местных. Виновник торжества соответствовал. Одетый в тот же нарядный шаманский прикид, в котором я увидел его впервые у костра, Николай Хамаганов важно возлежал на войлоке с закрытыми глазами, притворяясь трупом. Процессия была немногочисленной – десяток-полтора людей за псевдопокойником и пара голых по пояс клоунов впереди бряцала медными подвесками на кожаных штанах да несинхронно гремела потертыми бубнами. Женщин не было вовсе, одни мужики, причем все изрядно навеселе. Вели себя разнузданно: выли, стенали и пили из горла портвейн. На шаманских похоронах, вероятно, так принято…
Вокруг процессии мельтешил оператор с портативной видеокамерой, следом за ним режиссер и художник. Что там делал Григорий Сергеев, я не понял, но он упорно не отставал от француза.
Из киногруппы мало кто пришел, народ не интересовался архаическими ритуалами, народ устал. Я и сам жалел, что приперся следом за Григорием, который, бросив меня тут, ушел к начальству. Лучше бы я остался в доме № 11 и завалился спать. Тело мое болело, будто из него накануне выпустили всю кровь. Может, так оно и было?
В хвосте процессии я увидел рыжебородого Филиппа и пошел рядом. Знакомец мой был чем-то недоволен, похоже – всем. Шевелил губами, вероятно беззвучно матерясь.
– Ты чего, не с той ноги встал? – поинтересовался я.
Филиппа прорвало. Чуть приотстав, он заговорил негромко, но эмоционально:
– Подобной профанации я и представить не мог! Все, какие возможно, ритуалы нарушены. Черных шаманов так не хоронят! Да и шаман ли Колька Хамаганов, одноклассник мой? На Ольхоне он не обучался и посвящения не принимал. Тогда где? В Горном Алтае? В Усть-Орде? У тунгусов или якутов? В Монголии? Но костюм-то на нем бурятский, да еще древний, ему лет сто, не меньше. Я подобные только в запасниках Иркутского краеведческого музея видел. Откуда он у него? Да и не выставляют на аранга черных шаманов, это же ежу понятно! Их останки огню предают!
– Ты с ума сошел! Разве можно живого человека жечь? – вставил я наконец свое веское слово.
Филипп словно в стенку уперся.
– Как – живого?
– А ты подойди, – предложил я, – и, коли не трус, уколи его в зад шилом. Гарантирую – оживет мгновенно!
– Ты что-то знаешь?
– Знаю.
– Расскажешь?
– Расскажу.
Филипп подхватил меня под руку и потащил в сторону.
– Погоди, – заупрямился я, – давай сперва шоу досмотрим.
Впрочем, смотреть особо было не на что. Скучное мероприятие. Сожжение выглядело бы куда эффектней…
Примерно через четверть часа мы добрались до скалы на берегу Байкала. По крутой тропе поднялись вверх. Благополучно – труп не уронили. Он, вероятно, цеплялся за края войлока. Впрочем, я был далеко, мне могло и показаться.
На пологой вершине нас ожидали два пьяных бурята с топорами и двуручной пилой. Устроили все как положено – дощатый полог на большом камне.
Труп возложили на полог дважды. По просьбе оператора. Правильно, пусть будет выбор при монтаже…
К веткам цветущего багульника каждый желающий привязал предложенную на выбор ленточку: белую, синюю или красную. Цвета подбирались, вероятно, из патриотических соображений.
Потом, как принято, принялись пить и брызгать, то есть, окунув безымянный палец в стакан с водкой, капать на землю. Остальное – в глотку. Туда попадало значительно больше.
И все это немец с энтузиазмом снимал на видео. Ему нравилось.
Скучное шоу. Хоть бы барану догадались перерезать глотку в ногах у псевдопокойника, раз уж жечь его негуманно…
Ни брызгать, ни пить за упокой живого человека с Филиппом мы не стали, вернулись в Хужир. Свой рассказ я начал сразу, как только нам перестали попадаться на пути пьяные ольхонские аборигены. Не поскупился на выпивку Николай Алексеев, иркутский бизнесмен от внутренних наших органов. Кажется, в дым пьяна была вся деревня, включая женщин, детей и домашних животных…
Я не мог больше молчать. Я рассказал малознакомому человеку о роковой магии чисел, преследующих нашу семью, о смерти в Москве последнего своего родственника, двоюродного брата Ефима Татаринова, о спаме, снах, ожившем Буратине и раненом Боре Кикине…
Короче, я рассказал Филиппу все. Ольхонскую половину уже в его доме в Хужире. Жил он, кстати, в тереме с тремя куполами-луковками. Сам построил, и это много открыло мне в его характере. Зачем, спрашивается, горбатиться над сооружением нефункциональных архитектурных излишеств? Однако ему хотелось жить в красивом доме, и он, в отсутствии лишних денег и присутствии четырех малолетних отпрысков, жены и тещи, все выстроил один. Молодец.
Мы покурили в его полуподвальной мастерской, пока жена устроила стол с солеными груздями, маринованными маслятами, конечно же, омулем, малосоленым и, по моей просьбе, копченым, жареной картошкой и бутылкой самогона, настоянного на скорлупе кедровых орешков, что придавало ему цивильно-коньячный вид. Он и на вкус оказался не хуже выдержанного коньяка.
Когда я закончил свой рассказ, Филипп не предложил мне обратиться в психбольницу или наркодиспансер. Филипп надолго задумался. Наконец он заговорил:
– Я могу ошибаться, Андрей, но все тобой рассказанное указывает на то, что ты становишься шаманом.
– Я? Почему ты так решил?
– Твои сны, болезни, путешествия в Преисподнюю и на Небеса, духи-предки, духи-покровители, духи-помощники – все говорит об этом.
– Слушай, а моя ненормальная сексуальность?
– И она тоже.
– Слава богу, а я-то решил, что сошел с ума…
– А ты с него и сошел, – «утешил» меня Филипп. – Нормальный человек шаманом стать никогда не сможет, сколько его ни обучай.
– Но меня-то никто не обучал!
– Тебя обучали, обучают и будут обучать.
– Но я не хочу! – психанул я. – Я хочу остаться обычным человеком!
– Это невозможно. Все будет так, как предначертано.
Филипп достал с полки книгу в пестрой суперобложке. Я успел прочесть имя автора: Мирча Элиаде. Оно мне ни о чем не сказало.
– Слушай. – Филипп раскрыл книгу не наугад, она была сплошь в закладках:
«Именно в подобный мифический горизонт следует поместить связи шаманов с их „небесными супругами“: это не они собственно посвящают шамана, они лишь помогают ему в обучении или экстатическом опыте. Естественно, вмешательство „небесной супруги“ в мистические переживания шамана чаще всего сопровождается сексуальными эмоциями: всякое экстатическое переживание подвержено подобным отклонениям, и тесная связь между мистической и телесной любовью достаточно известна, чтобы не ошибаться относительно такой смены уровня».
То, что моя «мистическая жена» равнозначна «небесной жене» автора – румына, судя по имени, я догадался. И то, что трахаться с ними положено, сомнений не вызывало. Вот только смысл цитаты не дошел до меня вполне. Самогон ли забористый, кедровый, подействовал, или отупел я, переполнившись сверх всякой меры впечатлениями, не знаю… Филипп это понял.
– Слушай еще, – раскрыл на другой, недалекой закладке. – Автор приводит исповедь тунгусского шамана:
«…Однажды я спал на моем ложе страданий, когда ко мне приблизился дух. Это была очень красивая женщина, совсем маленькая, ростом не выше пол-аршина (аршин равен семидесяти одному сантиметру). Ее лицо и наряд напомнили мне в точности одну из наших тунгусских женщин. Волосы падали на ее плечи маленькими черными косичками. Некоторые шаманы рассказывают, что им в видениях являлась женщина, у которой лицо было наполовину черное, наполовину красное.
Она сказала мне: „Я дух-покровитель твоих предков шаманов. Я обучила их шаманскому искусству, теперь обучу тебя. Старшие шаманы умерли один за другим, и уже не осталось никого. Ты станешь шаманом“.
Затем она добавила: „Люблю тебя. Ты будешь моим мужем, так как у меня сейчас нет мужа, а я буду твоей женой“.
Испугавшись, я захотел воспротивиться.
„Если ты не хочешь быть послушным, – сказала она, – тем хуже для тебя. Я тебя убью“.
С тех пор она не переставала приходить ко мне: я сплю с ней, как с собственной женой, но детей у нас нет. Она живет одна, без родственников, в доме на горе. Но она часто меняет жилье.
Иногда она появляется в облике старухи или волчицы, поэтому на нее невозможно смотреть без страха. В другой раз, принимая форму крылатого тигра, она уносит меня смотреть разные страны. Я видел горы, в которых живут только старики и старухи, а также деревни, где живут только молодые мужчины и женщины они похожи на тунгусов и разговаривают на нашем языке, иногда они превращаются в тигров.
В последнее время моя жена приходит ко мне реже, чем до этого. В те времена, когда она меня учила, она приходила каждую ночь.
Она дала мне трех духов-помощников – пантеру, медведя и тигра.
Когда я камлаю, жена и духи-помощники овладевают мною, проникают в меня, как дым или влага. Когда жена во мне, то именно она говорит моими устами и всем руководит. Подобным же образом, когда я ем мясо жертвы или пью свиную кровь (только шаман имеет право ее пить, остальные не должны ее касаться), то не я ее пью, а моя жена…»
Филипп захлопнул книгу, и я вздрогнул. А когда чья-то рука легла на мое плечо, чуть не завизжал, как недорезанный поросенок.
– Свиную кровь пьете?
Я узнал басовитый голос художника-постановщика, но ужас не покидал меня, отступил только чуть в глубину сознания. Мне было страшно, и ничего с этим я поделать не мог.
Григорий Сергеев сел к столу на свободный стул.
– Зря, Филипп, ты Андрею страшилки читаешь. Он и без того в последнее время дерганый.
Хозяин разлил по граненым стаканам свой божественный самогон.
– Ему, Гриша, знать это сейчас просто необходимо…
Улыбаясь приветливо, я с силой наступил под столом Филиппу на ногу, и он понял меня мгновенно, прикрыв тему, поднял стакан.
– Ваше здоровье, дорогие гости!
– Ну, я-то незваный, – тонко скаламбурил художник, – я хуже Татаринова!
Сказал и самому стыдно сделалось от произнесенной банальщины. Остряки, блин… Один вот тоже все шутил на эту тему. Дошутился, в больнице теперь с рассеченным по диагонали лицом…
– Я вот чего зашел-то, Филипп, – продолжил Григорий. – Все работы на острове Хоронцы отменяются, передай своей бригаде. Я только что с собрания руководства. Из-за отсутствия снега съемки на Ольхоне прекращаются, и киногруппа переезжает в Подмосковье, где снег неожиданно выпал и прогнозируют еще дней десять отрицательной температуры. Но это еще не все. Актер-бурят из Иркутского ТЮЗа предложил режиссеру снять шаманскую казнь и за тысячу долларов согласился играть роль жертвы. Режиссер с оператором за идею ухватились. Так что вся группа поедет до Москвы на поезде, а руководство остается еще на два-три дня для псевдодокументальных съемок и догонит остальных самолетом.
Выслушав все это, Филипп покачал головой:
– Ох и доиграются иностранцы… Добром эта затея у них не кончится. Ты бы, Гриша, хоть сам в эти игры не лез.
– А что такого? – удивился Сергеев. – Обычные постановочные кадры. Во всем мире сплошь и рядом такое снимают!
– Может, и снимают, да не совсем такое, – не согласился Филипп. – Не стоит гневить ольхонских духов. Тем более вода на байкальский лед вот-вот выступит.
– И что это значит? – поинтересовался я.
– Это значит, что лед сделался рыхлым и ездить по нему опасно. Знаешь, сколько весной на Байкале машин под лед уходит?
Он не уточнил, но я и без того знал – много…
Из трехглавого терема Филиппа выходили мы с Григорием уже в темноте.
Я подумал: интересно, Николай Хамаганов восстал из войлока сразу же, как только ушли иностранцы, или валялся на аранга до полной тьмы?
ГЛАВА 26
«Important» значит «важный»…
До усадьбы Никиты мы добрались за пять минут. Григорий Сергеев, увидев людей у костра, направился к ним. Позвал и меня, но не хотелось мне больше общения, тем паче у огня могли оказаться разом обе женщины, встречаться с которыми я предпочитал порознь. Разве что собрать их в одной постели. Это было бы весьма забавно, но я понимал – нереально, не фиг и мечтать…
Я решил покурить перед сном на лавке, но у входа в свой дом № 11 увидел тех, встречи с которыми как раз и старался избежать. Друг напротив друга стояли Жоан Каро и Анна Ананьева.
Я покрутил головой, обнаружив возле забора укрытие, юркнул за поленницу, высотой в половину моего роста, и присел на корточки.
Видеть женщины меня не могли – стояли в свете висящего над дверью фонаря, а я шел из темноты. И хотя разговор, вероятно, вплотную касался меня, были они настолько увлечены, что, пройди я в двух шагах, головы бы не повернули.
Впрочем, это деликатно сказано: «разговор», «увлечены». Их картавый французский становился с каждым словом все более и более громким и агрессивным. Смысла я уловить не успел, но понимал – добром это не кончится. И был прав.
Анна что-то выкрикнула, и обе замерли, онемели, русская, вероятно, от сказанного, француженка – от услышанного.
Не знаю, как это возможно, но сначала я услышал хлесткий звук пощечины, а уже потом увидел, как Жоан резко, без замаха ударила соперницу по щеке, произнеся шепотом:
– Мердэ!
Как Анна сумела сдержаться, не понимаю. Я же видел, она готова была броситься в бой, и полетели бы во все стороны клочки волос, обломки алых ногтей и ошметки плоти. Но всего этого, столь ожидаемого, к счастью, не случилось. Анна провела сжатым кулачком по обиженной своей щеке и произнесла раздельно, как на уроке французского в средней школе:
– Бонжюр, мадам!
– Мадемуазель! – зло поправила Жоан.
– Бонжюр, мадемуазель! – повторила, как домашнее задание, Анна и добавила с усмешкой по-русски: – Стыдно, должно быть, оставаться мадемуазелью в твои-то годы…
Потом развернулась на месте почти по-строевому четко, решительно направилась во тьму, но, не пройдя и пяти шагов, оглянулась и выкрикнула, как змея прошипела:
– Старая выдра!
И ушла. Жоан осталась. Победила? Нет, не могло быть победителей, проиграли обе. Дуры… дуры… Ну а я – урод, и это как дважды два. Как пять.
И обе нуждались в утешении. Обе. Но я-то всего один! Один урод на двух дур. Патовая ситуация. Ничья. Ничьих не бывает. Проиграли все.
Я развернулся и сел лицом к забору, а спиной к поленнице, Жоан, Анне и всему остальному цивилизованному миру. Закурил. Меня ниоткуда не видно, а значит, меня и нет…
Нет, если бы они сцепились, как кошки, я бы, конечно, вмешался, растащил. Но кошки повели себя не по-кошачьи. Глаза, прически и кожа на лице остались целы. И слава богу…
Вдруг я услышал какие-то нечленораздельные звуки и привстал над поленницей. Анны видно не было, а Жоан, спрятав лицо в ладонях, сидела на скамейке в свете тусклого фонаря над входом, и тело ее содрогалось ритмично и безостановочно. Странно она плакала. Будто заводная игрушка – курочка. Была у меня такая в детстве. Заведешь ключиком, и клюет, клюет с пола зернышки… Дура. Не было на полу никаких зернышек. Никогда не было. Да и ключик потерялся. И сама курочка…
Подойдя к лавке, посмотрел по сторонам. Вот же, какая я сука… и сейчас не желаю, чтобы Анна увидела. Оставляю себе шанс: уедет француженка, русская останется… Неужели я не понимаю – уедут обе, останусь – один! Но разве сейчас это имело значение?
Когда, присев перед Жоан на корточки, я коснулся ее плеч, она вздрогнула, смолкла и осторожно стала отводить руки от лица. Она что, надеялась увидеть кошмар с улицы Вязов? Наивная. Здесь, в Сибири покруче будет. Вдобавок бессмысленней и беспощадней…
Рук от лица не отвела, смотрела в щелку меж пальцев, будто подглядывала, и, мне казалось, меня не узнавала.
– Жоан, солнышко зеленоглазое, это я, твой Андрэ!
– Твой Андрэ… – повторила она покорно.
– Да, моя хорошая, твой Андрэ!
Я осторожно провел кончиками пальцев по ее ладоням, скрывающим лицо, и они были мокрыми. Провел по волосам, влажным от слез… Бедная, бедная… Я, урод, не стою ни единой твоей слезинки. И ты давно не ребенок, и Достоевский здесь ни при чем… Хотя почему ни при чем? Если что-то и спасет наш обреченный мир, так только красота. Больше попросту нечему. Пробовали.
Жоан заговорила на родном, и я понимал ее без переводчиков.
– Не смотри на меня! Я вся в слезах! Я распухшая и некрасивая! Кошмар! Ты разлюбишь меня!.. Если, конечно, вообще любил…
– Любил, – ответил я, отводя ее руки в стороны. – Их либе дир, Жоан!
Чуть привстав, я поцеловал мокрую солоноватую щеку.
– Помнишь свою записку на листке из тетрадки в клеточку? И картинка, Жоан, мне тоже очень понравилась. Замечательная картинка! Сердце, пронзенное стрелой, и лужица вытекшей крови. Пикассо отдыхает…
– Вас ист дас Пикассо? – спросила чуть даже испуганно.
– Да бог с ним, пусть себе лежит, не ворочается…
Я подсел к ней на лавку, а она, уткнув лицо в мою грудь, вцепилась в мою шею обеими руками и заговорила скороговоркой. Она говорила не мне, она говорила себе самой, и сама себе готова была быть в едином лице исповедником, жертвой и палачом.
– Я самая глупая в мире женщина. Я полюбила молодого и красивого мужчину. Ну что может быть глупей? Но и это не все. Мы изъясняемся с ним на ненавистном со школы, отвратительном немецком языке! И он, то есть ты, Андрэ, знаешь этот язык не лучше, чем я. Ведь это так?
– Я, Жоан.
Она смолкла, подняла голову и с легким недоумением посмотрела мне в глаза. Потом, вероятно посчитав мой осмысленно-германский ответ случайным совпадением, рассмеялась и вернула голову в исходное положение на моей груди, будто нырнула внутрь меня.
– Мы не понимаем друг друга. И никогда не поймем. И это счастье. Ведь если бы ты, Андрэ, заговорил вдруг по-человечески, уже после двух твоих фраз всем стало бы ясно, что ты глупый и нудный, как любой красивый мужчина в твоем возрасте… Впрочем, твоя мужская привлекательность… твоя какая-то нечеловеческая сексуальность окупают все!
Она резко притянула мою голову к своей и жадно поцеловала в губы Так же резко прервала поцелуй, будто вдруг насытилась.
Она мне чуть голову не оторвала, честное слово!
– Но, мой милый, милый друг, нельзя же всю оставшуюся жизнь провести с тобой в постели! Да и сколько лет я еще смогу сохранять достойную форму? Бог знает… Да и Он, знает ли?..
Она говорила и говорила, а мне стало вдруг нестерпимо скучно. И странно. Припомнив свою недавнюю сексагрессивность, скука мне показалась неуместной.
По логике вещей я должен был сейчас неистово целовать ее губы. Потом, расстегнув нужные пуговки, обнажить грудь. И левый сосок твердел бы и рос меж моими губами и кончиком языка. Потом – правый…
Чуть погодя – джинсы. Я знал, как их легко расстегнуть, да она и сама бы это сделала. Ну а прозрачные трусики растаяли бы под ладонью, как изморозь на стекле, от одного только прикосновения, легкого, как выдох…
Ноги бы раздвинулись сами собой, чтобы всем было удобно и хорошо – ей и мне…
И я бы пыхтел, а она постанывала…
А потом бы я поднял ее на руки, легкую, обнимающую… нет, обвивающую мое тело, как тропическая лиана…
Я унес бы ее в степь далеко-далеко, метров за двести, и мы возлегли бы на мою куртку, и…
Мне было скучно. Я не хотел всего этого, но понимал, что именно этого Жоан ждала от молодого и красивого, от глупого и нудного самца.
И я встал с лавки.
И я взял ее на руки.
И она обвивала меня, как лиана.
И я унес ее много дальше, чем это было необходимо.
И выбрал сухое место на пригорке.
И бросил наземь куртку.
И мы возлегли…
Дальше пошло не по сценарию. Наперекосяк пошло, короче. Не было со мной такого ни разу… Нет, было, но тогда я был пьян как свинья… при чем здесь домашние животные?.. а до этого бухал беспробудно неделю или две. Но тогда я не мог, однако хотел. Теперь не хотел даже. Не мог – тем более…
Жоан пыталась спасти положение, но все вываливалось у нее из рук, падало…
Она считала себя опытной женщиной. Она и была опытной женщиной. Но и этого было недостаточно. Невозможно поднять неподъемное…
Я ощущал одновременно жгучий стыд и нестерпимое отвращение, тошноту. Словно перекормленного сладким пичкали и пичкали растаявшим липким шоколадом против его воли… Я вспомнил, как один молодой придурок, с коим довелось как-то работать, ел на спор без воды и на время пятнадцать «сникерсов». И как длинно и тягуче его рвало после предпоследнего… Значит, может тошнить не только от сладкого… Что со мной-то происходит?
– Ничего, – говорила Жоан, – ничего страшного. Такое случается. Такое случается с каждым. Не комплексуй. Завтра все будет хорошо. Завтра все будет замечательно!
Мы возвращались к усадьбе молча. Я знал, что и завтра будет то же самое. И послезавтра. И всегда. Не знаю, откуда взялась такая уверенность…
В доме № 11 я сперва почуял, а уже только после этого увидел, что все четыре кровати заняты. На двух из них привычно похрапывали художник Гриша и пиротехник Петя. На кровати водителя, ночующего у хужирских родственников, неестественно тихо, как неживой, спал реквизитор Вася, на моей – осветитель Ваня. Последний был молод и свеж, храп его сотрясал стены…
Экспозиция меня не удивила. Нормально. Русские пацаны с московской пропиской отметили окончание съемок на сакральном острове Ольхон. Святое дело.
Но амбре их похмельного выхлопа с существенной примесью несвежих носков было настолько густым и плотным, что я ожидал увидеть свою сумку с плотницким инструментом, в том числе и топором, зависшей в воздухе на манер воздушного шара. Этого не случилось, вероятно, потому, что табачный дым успел развеяться, а вышеназванный аромат, как общеизвестно, имеет меньшую выталкивающую силу…
Еще раз осмотрев распростертые тела, я пришел к выводу, что спать на одной узкой кровати вместе с любым из них выше моих сил. Но и ходить по комнатам в поисках свободной койки тоже не улыбалось.
Хотелось свежего воздуха. Хотелось необъятного степного простора и звездного неба над головой. Космоса, а не замкнутого пространства. Всей планетарной атмосферы разом, а не запаха потных тел…
Я прихватил с вешалки драный рабочий пуховик художника, потом отобрал у осветителя Вани свою подушку – он все равно лежал на ней ногами, после чего покинул негостеприимное помещение.
Идти тоже хотелось не очень, хотелось лететь! И чтобы волосы лохматил ветер по имени Сарма. И очертания острова Ольхон чтобы можно было увидеть разом…
Уходить далеко не стал. Нашел тот самый сухой пригорок, где только что потерпел фиаско. Почему бы не здесь? Одно место на поверхности планеты Земля ничуть не хуже любого другого…
Заснул я, кажется, раньше, чем голова коснулась подушки, и сразу же увидел красивое сияющее лицо своей мистической жены… или небесной? Не знаю, как правильно.
– Ну что, изменщик? – смеялась она. – А ты мне не верил!
– Чему я не верил?
– Я предупреждала тебя, что не потерплю измен, не потерплю соперниц! Ты спросил, каким образом. Я ответила – со временем узнаешь! Теперь узнал?
Я молчал. Она срывала с меня остатки одежды, красивая, блин, мистическая…
Значит, это ее штучки? Значит, так вот со мной можно?
– Ты мой, Андрей! – говорила она. – Запомни: теперь ты только мой!
– Я импотент? – спросил я, целуя ненавистно-желанное тело.
– Да, но правильно ставь ударение. На английском языке «important» значит «важный»!
Сука. Я ее ненавидел. Но с ней мне не было скучно. Я хотел ее больше жизни…
У нас все получилось, как надо, даже лучше. Если лучше бывает. Вот только детей мне она никогда не родит. Это я знал из цитаты, зачитанной рыжебородым Филиппом.
Впрочем, зачем мне дети? Род Татариновых угаснет после моей смерти, это неизбежно.








