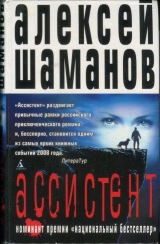
Текст книги "Ассистент"
Автор книги: Алексей Шаманов
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА 33
Могила Ольхона
Я лежал на полу, а надо мной склонились Григорий с Борисом. Последний держал в руке бубен, вырванный, как я понял, из моих сведенных судорогой пальцев. Тело мое было чужим и меня не слушалось. Поза, в которой лежал, – замысловатой и неестественной. Словно первобытный дикарь в истерическом ритуальном танце замер вдруг, превратившись в одеревеневшую скульптуру, на полутакте тамтама…
Нечто похожее со мной, вероятно, и случилось. Я лежал навзничь, не касаясь спиной пола. Невероятным образом тело держалось на трех точках – на запрокинутом затылке и пятках. Руки и ноги, будто сделанные из мягкой проволоки, были разведены в стороны и перекручены. Эк меня скрутило…
А Григорий с Борисом уже поднимали, ставили на нога мое непослушное чужое тело. Но контроль над ним стал ко мне возвращаться. Постепенно, не сразу. Я попытался сделать шаг и покачнулся. Меня тут же усадили на диван.
– Как ты? – спросил Григорий.
Я захотел ответить, но не смог. Захотел улыбнуться, но вместо ободряющей, успокаивающей улыбки мышцы лица сложились в такую гримасу, что друзья перепугались до предела.
– Говорил я ему, нельзя даже касаться шаманского бубна непосвященным! – причитал Борис. – Это же смерти подобно! Все равно что младенца посадить на необъезженную лошадь!
– Ты-то сам тоже не посвящен, а бубен в руках держишь, – проворчал Григорий.
– Я другое дело, – заспорил Борис, – мне этот бубен от отца достался, а тому шаман с Ольхона подарил. Подарки не убивают!
– Слушай, Боря, хватит херню пороть! У Андрея эпилептический припадок, а ты заладил, как дурак: бубен, бубен… В задницу себе его затолкай!
Этого Борис делать не стал, не последовал доброму совету товарища. Он вернул бубен на гвоздь в стене, где тот раньше висел.
– Чего встал? – продолжал Григорий командовать. – «Скорую помощь» вызывай!
– Не поможет ему «скорая», – отозвался хмурый Борис. – Я знаю, что ему поможет.
Он вышел и через минуту вернулся с полным стаканом воды. Поднес к моим губам.
– Пей давай!
Я попытался, но больше текло по губам и щекам на рубашку. Немного попало все ж таки в желудок, и я понял, что это не вода, а водка. С ума он, что ли, сошел, целый стакан!
Я отобрал не расплескавшуюся еще половину и допил уже по-взрослому, одним махом. Поить меня вздумал… Что я ему, младенец на лошади?
Грубо отбросил протянутую Григорием руку помощи.
– Сам!
Встал с дивана. Взглянул победно на товарищей. Усмехнулся.
– Во, что водка с людьми делает! – прокомментировал Григорий. Посмотрите на него, ожил! А только что будто в припадке падучей бился!
Болезненная эйфория за гранью сознания не забылась. Она и не забудется теперь никогда. Она – часть меня… Я с опаской покосился на бубен. Ишь, как он, зараза, на меня подействовал…
Впрочем, рассуждать не хотелось. Тело обрело невесомость и силу одновременно. Я согнул правую руку в локтевом суставе, и раздувшиеся мышцы едва не порвали тонкую ткань.
Пусть смотрят, слабосильные дебилы, на мою мощь, на мою потенцию!
В штанах зашевелилось, напрягая богатырские мускулы…
Но к мужикам я равнодушен. С мужиками можно водки выпить для затравки, а уже потом…
Что будет потом, представлялось смутно, но точно что-то буйное, необузданное, первобытное… Как кровавая охота на мамонта. Как шаманское камлание над телом человеческой жертвы. Как убийство врага с последующим поеданием живьем… Об очевидной логической несообразности последнего предполагаемого действия не думалось. Возможным казалось все, любая нелепица.
Хотелось действовать. Почему я стою столбом, как робкий профессор ботаники?
Водки!
Женщин!
Зрелищ!
Немедленно!!!
Я прошел на кухню, не обращая больше внимания на двух людишек. Одному из них жить оставалось всего ничего – с четверть века, второй – почти покойник. Нетерпеливо дрожащие душонки его висели на последних нитках, вот-вот готовые оторваться и разлететься кто куда.
«Скорее! – вопили они. – Мы устали! Мы жаждем свободы! Помоги нам, Великий!»
Я не удостоил их ответом, не вмешался. Пусть все случится, как предначертано!
Я выпил всю водку со стола, полторы бутылки, прямо из горлышка и не напился. Потом съел всю еду и не наелся. Людишки что-то возражали – кричали, махали ручонками… Их действия не вызывали во мне ничего, кроме смеха. Громкого, демонического смеха:
– Ха-ха-ха-ха!!!
Я пошел к выходу. Оставаться здесь не имело смысла. Ничего интересного не предвиделось. Мне хотелось еды, питья, женщин и буйства.
Мне что-то кричали вслед, я не слушал. Но все ж таки где-то глубоко-глубоко в сознании, в той его части, где оставался еще слабый и смертный мой предшественник, шевельнулась неприятная мысль: «А не сошел ли ты с ума, Андрей Татаринов?»
Чушь! Я здоров! Здоровее не бывает!!!
По дороге домой я звонил Жоан Каро и Анне Ананьевой. Каждой – дважды. Недоступны. Недоступны? Для меня?! Они?! Недоступны?! Мне доступен весь этот мир! Легко! С потрохами!!!
В приступе ярости я едва не расхлестал сотик об асфальт. Остановила пришедшая в голову идея: проститутка! Как там ее звали?
Посмотрел в адресной книге мобильника. Ее звали Путана. Так я ее обозначил. По хрен, путана так путана…
Если это и было безумием, оно мне нравилось. Очень. Я купался в нем, как под водными струями нестерпимо ледяного душа. Или нестерпимо горячего?
Уже дома, пожирая из холодильника яйца вместе со скорлупой, сосиски вместе с целлофановой оберткой и откусывая от целого батона, я набрал номер.
– Андрей?! Это вы?
Она узнала мой номер, но не удивилась звонку, обрадовалась.
– Я не Андрей. Называй меня Кохинор, – неожиданно для себя самого произнес я хрипло. – Запомнила? Ко-хи-нор!
– Запомнила, запомнила. – Она явно не знала, о чем говорить со мной. – Как вы поживаете, Ко-хи-нор?
Дура. Будто не знает, что мне от нее надо.
– Приезжай.
– Конечно. Через два часа я освобожусь и…
– Немедленно.
Она смолкла на мгновение, вероятно приходя в себя от радости, потом произнесла, еле слышно:
– Хорошо, я еду, но… – и снова будто споткнулась.
– Говори, женщина!
– Я боюсь. В прошлый раз было здорово, правда, но еще раз… Можно, я возьму с собой подругу?
– Хоть двух! – разрешил я милостиво. – Как тебя зовут?
– Так же, как всегда. Мне говорят: приходи, и я прихожу…
Она пришла единая в трех лицах. Но как раз лиц-то я не запомнил. Впрочем, и не старался…
Имя первой было Вероника. Блондинка с печальными коровьими глазами, с обширной грудью, широким тазом и виноватой улыбкой… Я вставил ей стоя у входной двери. Она стонала, как ненормальная, и, виновато улыбаясь, все повторяла:
– Андрей… Андрей… Анд…
– Я – Кохинор! – поправил я ее. – Мой грифель остро заточен и тверд, как королевский алмаз, приносящий несчастья. Царственные несчастья!
Имя второй было Надежда. Рыжеволосая восторженная особа предпенсионного для путан возраста, хорошо за тридцать. Я овладел ею в дверном проеме между комнатой и прихожей. Сзади. Она кричала. Ей было больно, и это было хорошо.
Она выкрикивала сквозь слезы:
– Ты – Кохинор! Ты приносишь царственные несчастья! Урод!!!
Она кончила и рухнула на колени. И осталась лежать, ловя открытым ртом воздух. Как омуль, выброшенный на скалистый берег Байкала.
Имя третьей было Любовь. Она на это имя отзывалась, но я ее так не звал. Разве можно о любви в постели?
Она была худой и костлявой, жгучей брюнеткой, отзывчивой еще до прикосновения. Нервной и агрессивной.
Я взял ее на диване в традиционной позе. О да, она действительно была крайне традиционных манер! Она вертелась, как уж под вилами. Она кусала меня везде, где могла достать, а когда не могла – материла, как мегера. Длинными загнутыми когтями царапала мою спину и грудь, превращая их в кровавое месиво. И это было хорошо. Я разорвал на ней одежду в клочья. Я бил ее по щекам с размаху, а она все повторяла иступленно:
– Еще! Еще!! Еще!!!
А потом мы провалились с ней в Ад. И этот Ад оказался Раем. Языческим Раем…
Я лежал на диване, раскинув конечности, и женщины прижимались к моему телу со всех сторон. Они были всюду. Они гладили, целовали и плакали. Они причитали по мне, как по покойнику… Если уместно покойнику делать минет…
– Я – Кохинор, – говорил я слабым голосом, и женщины вторили мне:
– О да, ты – Кохинор! Твой грифель остро заточен и тверд, как алмаз, приносящий несчастья…
И они плакали, и я плакал. И от наших слез стало сыро, как в глубокой гулкой пещере или материнской утробе. И я вспоминал, как умирал уже неоднократно, унося с собой миллионы жертв. И впервые это случилось давным-давно, в те времена, когда люди не изобрели еще календаря. В те времена, когда земля была плоской и покоилась на хребте огромной рыбы, судорожно вцепившись в ее спинной плавник…
Я умер около острова Ольхон на байкальском льду в это же самое время года.
И тогда я встал, стряхнув с себя женщин и усталость.
Распихал по карманам всю свою наличность, как в рублях, так и в долларах.
– Поднимайтесь! – сказал я. – Мы едем на Ольхон. На мою могилу. Немедленно!
Женщины не возражали, но просили несколько минут, чтобы привести себя в порядок. Я не дал им этого времени.
Я не стал надевать свитер, куртку и шапку. Я вышел на дорогу в джинсах и обнаженный по пояс. Со спиной и грудью, превращенными Любовью в кровавый полусырой бифштекс. Женщины тоже выглядели неплохо.
Завидев нашу компанию, водители прибавляли скорость. Наконец один ненормальный остановился.
– Я – Кохинор! – сказал я, и водитель почему-то нажал на газ.
Впрочем, у него все равно ничего не вышло. Я успел поднять легковушку за задний бампер и держал на весу, покуда девочки лезли в салон.
Я сел на переднее сиденье и дружелюбно улыбнулся водителю:
– Ольхон! Могила! Сотня баксов за каждого сбитого пешехода!
Он часто закивал. Он все понял и повез нас на Ольхон. На могилу…
Дорогой мы пили дорогой коньяк. Или недорогой? Или в придорожной кафешке за грязным столиком? Не помню. Все смешалось в Доме-музее князя Трубецкого… Или Волконского?
Шофер оказался записным мазилой. Или сто долларов ему лишние? Он что, миллионер за рулем подержанной японской иномарки? Как бы то ни было, ни одного пешехода мы не сбили. Все в последний момент уворачивались. Или пешеход пошел увертливый, ловкий с рождения? Черт знает. Да и он знает ли?
Но напоить мы таксиста все ж таки напоили. Да и куда бы он делся, когда такие веселые раскованные девчонки на ходу ему в глотку коньяк заливали?.. А вот насчет остального с девицами ему не обломилось. Хотя я не жадный, мог бы и угостить…
Как приехали, не упомню. Но вышли – аллея заснеженная, а вдоль нее могилки с крестами да со звездами да обелиски благородного камня. Благодать.
– Что это? – спросил я. – Куда ты нас, курва, привез?
– Куда просили, – ответил пьяный таксист, – на могилу Ольхона. Вон же памятник напротив. Читайте!
Я прочел. Точно Ольхон. Только не остров, поэт. Угораздило же псевдоним в честь острова присвоить. Плохой, наверно, поэт. А может, и хороший. Не читал и не тянет.
Пока я обелиск белого мрамора разглядывал, водитель смылся. А мы остались. Девчонки повисли на мне, грелись. Я, как печка раскаленная, и откуда только тепло взялось?
Зашли за памятник, там лавка. И бетоном залито, чисто. Обидно мне стало за поэта Ольхона – никто к нему не ходит, не следит…
– Привет, поэт! – прокричал я в ухо памятнику. – Принимай гостей из Преисподней!
А девочки: ха-ха-ха да хи-хи-хи…
А потом: стоя, лежа, раком и козерогом… Тропиком, словом.
А потом: автор «Кама сутры» отдыхал. Далеко отсюда отдыхал во времени и пространстве.
А потом, помню, я орал на все кладбище что-то про остро заточенный Кохинор, приносящий царственные несчастья. Орал так, что разбудил бы и покойника. Но не разбудил ни одного. К счастью.
ГЛАВА 34
Следы любви на спине
Телефон звонил долго-долго. Я услышал, но подумал сперва, что это в голове у меня так настырно звенит. Через минуту догадался про телефон, но не повел ухом. Остальными членами тела – тоже. Они все до одного ныли в унисон: мол, больно, Андрей! Ах, как нам больно и грустно, и некому морду набить в минуту душевной невзгоды…
Я им сочувствовал. Себе совокупному – тем паче. Не хотелось открывать глаза, двигаться… ничего вообще не хотелось. Апатия. Или… Я вдруг испугался, потому что вспомнил, что я – Кохинор, приносящий несчастья, и, следовательно, в лучшем случае лежу сейчас на могиле поэта Ольхона, в худшем – в собственной. Потому что, где умер, там и могила…
Надо бы мне открыть глаза да развеять сомнения, посмотреть, в конце концов, где я нахожусь. Так нет, с мазохистским каким-то удовольствием я начал вспоминать, что древние жители Ближнего Востока бросали своих мертвецов в пустыню на съедение диким зверям, монголы и буряты – в степь, эскимосы – в тундру… Про тундру, если честно, я выдумал, каюсь. А про пустыню и степь слышал или читал. Теперь уже и не помню, от кого и где… У русских мертвецы сами о себе заботятся. Предварительно нажравшись в говно, они добираются своим ходом до кладбища и там умирают вторично. Очень удобно, вдобавок родственникам не надо тратиться на похоронный обряд…
Я совершенно явственно представил себя лежащим в сугробе меж могил. На левой – безвкусный монумент с пятиконечной звездой, на правой – православный восьмиконечный крест. На мне – американские джинсы китайского производства. На обнаженных груди и спине – следы когтей, оставленные любовью…
Чушь в голову лезла. Надо выяснить наконец, где я и какой я? Покойный или живой? Если живой, срочно подниматься и бежать на съемки конюшни и гостиницы. Если мертвый, проникнуться и, отрешившись от суеты, думать о вечном…
Телефон зазвонил снова. Теперь уже другой, мобильный.
Если я живой, то это точно Гриша Сергеев меня потерял. А если мертвец, то понятия не имею, что в загробном мире сей звон означает. Может, заупокойный колокольный звон таким образом метаморфируется?.. Ладно.
Я дал самому себе страшную клятву, что, если окажусь живым, брошу пить, а если мертвым жить, после чего открыл глаза. И вздохнул с облегчением. Я дома. На диване. Слава богу! Перекрестился неумело. Сел. Голова кружилась, и подташнивало в меру выпитого накануне, то есть довольно интенсивно. Осмотрелся. Особого беспорядка не наблюдалось, наблюдался обычный для моей квартиры беспорядок.
Спал я в куртке, шапке и ботинках. Одеяла, подушки и постельного белья на диване не обнаружилось. Это нормально. Прошлой ночью, как всегда, мы с диваном адекватно друг другу соответствовали. Он одет, я раздет, и наоборот…
Существует одно золотое русское правило: утром, встав с постели, первым делом, не откладывая, сними ботинки, потом испей ледяной водицы из-под крана, и уже только после этих обязательных действий идут необязательные – чистка зубов, умывание и т. д.
Не в моих правилах нарушать без веской причины заповеди мудрых предков. Разувшись, прошел на кухню, пустил воду. Пока она протекала, думал, что Иркутск – единственный на земле относительно крупный город, в котором пить водопроводную воду не только возможно без вреда для организма, но даже вкусно. Исток реки Ангары меньше чем в сотне километров, так что из крана льется чистейшая в мире дистиллированная вода Байкала. И будет течь до тех пор, пока мы не засрем священное море окончательно. Ждать не слишком долго. Это мы умеем. Подумаешь, одна пятая часть всей пресной воды планеты… Насрать!
Выйдя из ванной комнаты, посмотрел свой сотовый. За время моего отсутствия в реальном мире, то есть со вчерашнего вечера, мне успели позвонить три человека: Жоан Каро, Анна Ананьева и Григорий Сергеев. Женщины вчера, последняя – дважды. А сегодня утром… Я посмотрел на свое запястье – на циферблате светилась восьмерка с нулями. В девять начало съемок. Успею…
Итак, к восьми утра я имею четыре не принятых звонка от художника-постановщика, своего теперешнего шефа. Это не считая звонков на домашний, который у меня простенький – без определителя номера и автоответчика.
Отчего, интересно, со стороны начальства ко мне такое внимание? Хотя ясно отчего, работать некому. Стас умер, Борис Бурхана рубит, один я остался… Надо бы, конечно, позвонить, сказать, что жив, здоров, на работу собираюсь, но общаться с Гришей хотелось не очень. Стыдно после вчерашнего. Как же я так нажрался, как последний придурок? Давно со мной такого не случалось…
Вдруг меня как током ударило неожиданной вспышкой воспоминания: бабы, проститутки здесь были! Аж три! О Господи, прости мою душу грешную…
И чем же я с ними занимался? Глупый вопрос. Чем я мог с ними заниматься? В шахматы, конечно, играл! А что потом? Потом мы куда-то поехали…
Деньги! Я вспомнил, как выгреб из закромов все наличные деньги, а безналичных у меня сроду не бывало… Вот и слетал, урод, в Москву на могилу к брату Ефиму…
Проверил карманы – пусто, не считая мелочи, что-то около двух сотен рублей. А доллары где? Просрал?
Распахнул дверцу секретера – доллары лежали аккуратной тоненькой стопочкой, ничего не пропало. Рядом стопка потолще – рубли. Чем же я, интересно знать, вчера с девочками расплачивался? На что коньяк брал?
Ах да, девочки мне на халяву достались, и коньяк, наверно, тоже они принесли…
А таксист? Я ему сказал: «Сотня баксов за каждого сбитого пешехода!» Ну я дебил… А если бы он десяток переехал? Это ж штука баксов! У меня и денег таких нет!
И куда мы с ним ездили, с таксистом этим? Вспомнил! На могилу поэта Ольхона и там… Надо же, не замечал за собой раньше склонности к некрофилии… Трахаться на кладбище, среди могил… урод…
Но довольно мазохистских самокопаний! Сейчас необходимо принять душ, он освежит, позвонить Григорию, похмелиться и бежать на работу. Именно в такой последовательности! Хотя можно было бы начать с пункта «похмелиться», но для этого придется выйти из дома… Нет! Никаких поблажек! Как говаривала очаровательная Жоан Каро: форверц!
Я сбросил несвежее тряпье и взглянул на себя в зеркало. Выглядел я так, как и должен выглядеть молодой мужчина в хорошей физической форме. Здоровая кожа, рельефная мускулатура, ни грамма лишнего веса. За ночь беспамятства ничего нового на теле не выросло, ничего старого не отвалилось. Но именно эта обычность меня и насторожила. Что-то должно было быть не так. Что?
Где следы когтей, оставленные Любовью? На груди они отсутствовали. Я повернулся к зеркалу спиной и заглянул через плечо. Нормальная ровная кожа без видимых следов насилия. Что за черт?
Одно из двух. Первое: шрамы заросли, как на собаке, точнее – на Боре Кикине. Отпадает. Даже ему потребовалось больше суток, а тут пять-шесть часов прошло. Если память мне не изменяет. Вероятно, изменяет все-таки.
Второе, наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что вся эта ночная хренотень мне привиделась – и девочки, и таксист, и мраморный обелиск поэта Ольхона на кладбище. Тогда, может, и шаманский бубен – сон? А Боря Кикин с Гришей Сергеевым – сновидческие образы, и только? Может быть, вся моя жизнь – сон?
Черт… Похмелиться надо немедленно, котелок совсем не варит. Как в яму, разом впадаю в дешевую метафизику и пошлый солипсизм… Что может быть опасней больного воображения непохмеленного русского человека? Разве что пьяный кураж того же русского. Бессмысленный и беспощадный. К себе, любимому, в первую очередь. Но под запарку и остальным мало не покажется, как пить дать…
Пить больше не хотелось, хотелось выпить. Но сначала – холодный душ. Потерплю пятнадцать минут. Раз голова и деньги целы, с остальным как-нибудь разберусь.
Аминь.
Выйдя из ванной, посвежевший и в настроении значительно выше относительно абсолютного нуля, я решился даже сварить кофе, хотя с похмелья его не потребляю, и без того тошнит. Я зашел на кухню и увидел на пустом столе лист бумаги. Как я его не заметил, когда пить заходил, ума не приложу. Или он только что материализовался из пустого пространственного эфира, как глиняная голова мертвого бурятского шамана? Чушь.
Я взял лист и прочел:
«Андрей, тебе стало плохо в квартире Бориса Кикина. Мы с ним проводили тебя домой. Как ты себя чувствуешь? Сможешь ли теперь работать? Позвони. Григорий Сергеев».
Я задумался. Что из записки следует? Во-первых, ясно, почему Гриша мне все утро названивал, а во-вторых… Выходит, прошлая ночь мне попросту привиделась. Не было ни проституток, ни таксиста, ни поэта Ольхона…
Ой, вру! Могилы поэта Ольхона точно не было, а поэт Ольхон, как явление мировой литературы, был, есть и будет.
Плохая поэзия бессмертна и неистребима!
ГЛАВА 35
Сибирское кинотворение
Не доходя пару кварталов до музея, я опустил в урну пустую алюминиевую банку из-под пива и засунул в рот пластинку жевательной резинки – первого из трех бесспорных достижений заокеанской цивилизации. Два других: голливудский массовый кинематограф и ковбойское хамство на государственном уровне. Вероятно, человечество достойно подобных данайских даров, раз жует, смотрит и получает от всего этого удовольствие…
Настроение было ни к черту. Дорогой вспоминались все новые и новые стыдные подробности прошедшей ночи. Во сне они происходили или наяву, не имело значения. Я был хам, и, что особенно отвратительно, это мне нравилось. Кохинор хренов, остро заточенный не с того конца…
У входа в Дом-музей декабристов припарковался грузовой автомобиль с крытой будкой. Откуда-то к нему мгновенно набежали несколько молодых мужчин в одинаковых форменных комбинезонах темно-синего цвета. Водитель, отомкнув ключом, распахнул дверь будки и вместе с остальными принялся выволакивать на подсохший асфальт обочины всевозможные железо, пластик и стекло: какие-то треноги, стойки, экраны, рулон черного плотного целлофана, прожектора, лампы и т. д. и т. п.
Я догадался, что это и есть технические работники с «Мосфильма», нанятые продюсером киногруппы в столице. Шустрые ребята. Они не ходили, бегали. Пока я шествовал, покуривая, до конюшни, один паренек с выбритым до блеска яйцевидным черепом успел обернуться туда, обратно и снова меня обогнал с громоздким каким-то ящиком в руках. Пацаны в синих комбинезонах честно отрабатывали вошедшие в поговорку «московские зарплаты». Так у нас некоторые фирмы в объявлениях о найме рабочей силы пишут: «…социальный пакет, ежегодный месячный отпуск в летнее время, перспективы быстрого карьерного роста, московская зарплата…» Хотелось добавить: «…и работать не обязательно…»
У раскрытых настежь ворот конюшни толпились незнакомые мужчины, женщины и одна оседланная лошадь. Чем занимались люди, я не понял. Они суетились, бегали туда-сюда, перекрикивались чуть ли не на дюжине языков, словно заблудившиеся в темном лесу, аукались в поисках тропинки…
Я понял, что они работали. Не понял, что делали конкретно? Впрочем, кино – целый мир, и я в нем чужак, не понимающий языка аборигенов. Ведь видел же я, они, общаясь на гремучей смеси франко-англо-русского, умудрялись и без переводчика понимать друг друга. Потому что – профессионалы, одного замеса люди. А будни съемочной площадки одинаковы, наверно, во всем мире.
И еще я понял, что киношники очень близки нам, русским. Нас роднит понимание бардака как образа жизни. Поэтому, вероятно, я мгновенно вошел в эту суматошную вселенную, и она мне понравилась. Я полюбил ее, а она, с операторским прищуром оценив мое рвение, соблаговолила принять, впустить и пережевать мою личность, оставив из всего меня, многогранного, единственное нужное ей качество – ассистент художника-постановщика. Баста.
Я более не человек с именем, фамилией и отчеством. Я более не имею возраста, пола, национальной принадлежности и гражданства. Я – ассистент, и этим все сказано.
Единственными разумными существами на площадке, которые не бегали угорело, не орали на тарабарском и не матерились на русском, были лошадь серой в яблоках масти, Поль Диарен, режиссер, Ганс Бауэр, оператор, и Григорий Сергеев, художник. Лошадь в нарядной сбруе степенно стояла у входа, привязанная за узду к ручке ворот, остальные неторопливо беседовали внутри конюшни. Конечно, через переводчика Бориса Турецкого.
Я подошел вплотную. Пусть Гриша меня увидит, я ведь так и не набрался смелости ему позвонить. И он увидел и вздохнул с облегчением:
– Слава богу, пришел. Я уже думал, опять одному крутиться… – Спохватился, спросил с деланым участием: – Как здоровье?
– Нормально.
– Где инструмент?
– В музее.
– Неси.
После нашего диалога художник снова повернулся к режиссеру. Тот объяснял ему дислокацию, указывая жестами то в один угол помещения, то в другой.
А московские парни уже строили у входа пятиметровую железную дорогу из готовых звеньев на пластиковых шпалах. К ним подошел оператор, что-то сказал по-немецки, и они его поняли, закивали. Стали разбирать часть пути и передвигать вправо от центра.
В просторном холле дома-музея мне встретился озабоченный директор в традиционном строгом костюме. Он, вероятно, и спит в нем.
– Представляете, Андрей, – пожав руку, поделился со мной Михаил Орестович Овсянников, – милейший Ганс Бауэр, оператор из Германии, сделал мне вчера замечательный подарок – фотоальбом своей соотечественницы. А я, вот горе-то, на немецком не читаю… да и голые африканцы, знаете ли, неприлично как-то…
Улыбаясь дружески, я предпринял слабую попытку поторопиться, но, вероятно предугадав эту попытку, Михаил Орестович пресек ее на корню, вцепившись в рукав моей куртки. Потом торопливо продолжил:
– А прелестнейший Уинстон Лермонт, актер-англичанин, подарил шотландскую юбку. Совершенно очаровательную, в крупную клетку… Но куда же мне ее прикажете надевать? Засмеют же…
Я чуть повел плененной рукой, и тогда Овсянников вцепился еще и во второй мой рукав. Затараторил:
– А образованнейший, талантливейший Поль Диарен, знаменитый французский режиссер, сделал мне совершенно удивительный, непередаваемо восхитительный подарок! Я совершенно без ума от него! Я…
Он, похоже, долго собирался сыпать эпитетами, до второго пришествия. Заткнул я фонтан довольно грубо:
– Извините, Миша, но меня ждут. Говорите, что же он вам подарил?
– Одну минуту, Андрей! Поль Диарен подарил мне глоток парижского воздуха! – провозгласил Овсянников торжественно.
– В каком смысле?
– В прямом! В банке! – пояснил Михаил Орестович, как будто слова его что-то проясняли. Впрочем, он сам об этом догадался по недоуменному выражению моей физиономии. – Правда-правда! Баночка, как из-под пива или колы, а на ней написано: «Глоток парижского воздуха». Я же говорю по-французски и читаю. Не бегло, правда.
Что мне было сказать хоть по-французски, хоть по-русски, хоть на эсперанто мертворожденном? Красиво. Молодцы. Но для того чтобы туристы покупали воздух в банках, он должен быть из легендарного Парижа. Впрочем, продаем же мы в Японию питьевую байкальскую воду. Почему бы не заполнить свободную еще нишу байкальским же воздухом? Звучит неплохо, да и почище, чай, будет, чем парижский или любой другой городской.
– Это здорово, Михаил, но чем вы в таком случае озабочены?
– Я озабочен?
– Конечно. Это заметно.
После недолгой паузы директор музея освободил мои руки, переложив их себе на голову, на макушку.
– О да! – возопил он, воздев те же конечности к небесам. – Что я, недостойный, могу подарить им в ответ? Чем отдариться?!
– Надо что-нибудь чисто сибирское, колоритное, – сказал я в задумчивости и сразу же предложил приемлемый вариант: – Можно чучело белки подарить со стеклянными глазками и кедровой шишкой в лапках. Дохлую белку у нас традиционно всем иностранцам дарят.
– Я думал об этом, – тяжело вздохнул Овсянников, – но, знаете ли, мир стремительно «зеленеет». Как отнесется к насильственно умерщвленному в Сибири невинному зверьку европейское сообщество?
– Омуля соленого подарите в пятилитровом сувенирном бочонке. Я видел такие на рынке. Есть еще десяти– и двадцатипятилитровые, но это, по-моему, перебор. Или дохлую рыбу европейцу тоже нельзя?
– Рыбу можно. Но, знаете, я уже дарил подобный бочонок одному канадскому другу из Этнографического музея провинции Онтарио. Он был несказанно рад, но дома открыл и омуль оказался сильно пересоленным.
– Хорошо хоть, что не с душком.
– Андрей, вы не любите омуля традиционного байкальского засола? – удивился Овсянников. – Не любите с душком?
Я даже отвечать не стал. Мерзость какая… Я хоть и коренной сибиряк, не понимаю, почему должен жрать тухлую рыбу? Из уважения к традициям? У китайцев, древнейшей и культурнейшей нации, между прочим, в деликатес тухлые яйца зачислены. Что же теперь, из любви к Конфуцию и Лао-Цзы пропастину жрать? Увольте.
И тут я вспомнил про Бориса Кикина с его народным промыслом.
– У меня приятель есть, шаманские бубны и онгоны на продажу мастерит. Подумайте, Михаил, чем не подарок? Чисто сибирская экзотика. Нигде такого больше нет, разве что в Улан-Удэ или Монголии… Хотя нет, там теперь буддисты, а шаманистов почти не осталось. Так что, считайте, изделия эксклюзивные.
– Онгоны и бубны? – повторил Михаил Орестович. – Я подумаю, и если ничего другого в голову не придет… Спасибо, Андрей.
Он отошел в задумчивости, а я спохватился, что простоял с ним значительно дольше, нежели позволительно. Я бежал с позвякивающей сумкой и размышлял, что можно еще подарить декалитр чистейшей в мире байкальской воды вместе с цинковым ведром. Вот только впустят ли их в самолет с подобным багажом? И если впустят, примут ли ведра в багаж или зачислят в ручную кладь? В первом варианте может расплескаться весь ценный груз, во втором – им придется шесть часов до Москвы, а потом два до Парижа держать ведра, как грудных детей, на коленях… Черт-те что в голову лезло…
– Где тебя черти носят? – поинтересовался Григорий. – Давай, начинай быстро! Эту хреновину разобрать – оператору мешает.
Он показал на деревянную конструкцию от пола до потолка, перегородку одного из двух загонов. Потом сделал еще пару указующих жестов:
– В стену забей штук шесть гвоздей, сбрую перевесим, стог в другом углу будет, а весь пол надо сеном жиденько прикрыть, чтобы земли не видно было… – Добавил задумчиво: – Не нравится немцу наша земля…
А я подумал, что, покуда им нравится наш природный газ, немцы будут мириться с любыми выгибонами нашего правительства, и даже с настольно-транзитным клоуном из Белоруссии…
Начал я с гвоздей – минутное дело.
А железную дорогу ребята в синей спецодежде уже проложили и взгромоздили на колеса платформу с операторским креслом, следом дорогостоящую германскую камеру куда надо поставили.
Оператор смотрел в глазок визира с разных позиций.
Режиссер отчитывал кого-то за что-то на старобургундском. Этот кто-то что-то отвечал на вульгарной латыни. Они понимали друг друга без переводчика.
Борис Турецкий был без надобности французским, немецким, английским, московским и русским киношникам. Они говорили на своем языке жестов и образов.








