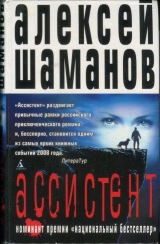
Текст книги "Ассистент"
Автор книги: Алексей Шаманов
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА 22
Забор зеленый, немаркий
Когда Жоан Каро припарковалась у моего подъезда, я, совершенно обессиленный, отрешенно смотрел прямо перед собой. Тупо. Без мыслей и желаний. Выжатый лимон, лимон, попавший под асфальтовый каток. Плоский.
Жоан была, напротив, посвежевшая, словно провела месячный отпуск на Лазурном Берегу…
Она что-то сказала. Я повернул голову.
– Вас ист дас? – спросил я.
Мне показалось, что кожа ее потемнела от загара под южным солнцем. Чушь, конечно.
Она ответила что-то на французском. Я не понял и порадовался этому, пусть и вяло. Я не знаю иностранных языков, и никогда не знал. И то, что мне показалось, будто я понимаю Жоан, – полный бред… Когда кажется, креститься надо… Не перекрестился. Ни к чему. Все, что мне померещилось, – плод больного, помешанного на сексе воображения. Сон разума рождает чудовищ. Не помню, кто сказал, но правильно сформулировал… И не бросала Жоан руля, и не мчалась неуправляемая машина по звездному небу, как по автобану… Это в голове у меня все мчалось, и особенно – ниже пояса. Это да. Неплохо прокатились…
– Фарен, Андрэ! Фарен инд капут! – сказала и улыбается, довольная кошка. Хорошенькая, помолодевшая… да нет, просто молодая. И грудь, и животик, и остальное – все ощутил, ощупал, оценил по высшему разряду.
Молодец, Жоанка!
Я улыбнулся, потому что вспомнил, как целый монолог за нее придумал, злой и циничный. Это нормально, это мои комплексы поработали, будь они неладны, а женщина здесь ни при чем. Совершенно. А у меня прямо-таки «Одиссея проститутки» получилась, Ги де Мопассан, честное слово…
– Капут так капут, – согласился я, открывая дверцу. – Ауфвидерзеен, Жоан!
– Наин! – Она заволновалась. – Нихт ауфвидерзеен, Андрэ! Дас ист дайне Хаус?
– Я.
– Дайне нумер! Шпрехен, Андрэ!
Я все понял. Жоан набивается в гости. Я не против, пусть. Сказал ей номер квартиры. А номер моего сотового она перенесла на свой, еще когда я с елками в лесу возился. Показывала потом, проверяла – мой или нет? Не ошиблась.
Отъехала Жоан лихо – с места рванула, полдома, наверно, перебудила… я взглянул на часы – в половине второго ночи…
Дома я первым делом открыл банку тушенки, на мой вкус, лучшей в России, производства Улан-Удэ. Буряты все ж таки исконные скотоводы. Даже десятилетия советской власти не сумели испортить качество фирменного продукта – тушеной говядины.
Жрать хотелось очень, до дрожи в пальцах. От мясного аромата закружилась голова. Первый сочный кусок я подцепил тем же ножом, что открывал банку, а уже потом взял ложку…
Отпустило. Я, сытый во всех возможных смыслах, опустился в кресло перед телевизором, но включать его не стал. У меня свое кино, более захватывающее, чем все, что может предложить Голливуд в ночном эфире. Я любой его сюжет по одному только заглавию предсказать могу. Любой сможет…
Спать не хотелось. Хотелось сворачивать горы. На худой конец – сколотить забор или разбросать пять «КамАЗов» снега. Впрочем, это удовольствие меня ожидало впереди.
Следовало пойти проверить, сколотил ли хитрый, рачительный хозяин пятиметровый забор? Или мне его делать придется?
Через двадцать минут я стоял на улице Грязнова и нарадоваться не мог на замечательный, новый забор, покрашенный к тому же темно-зеленой краской, как хотел оператор-постановщик. Но что-то с ним все-таки было не так, с забором. Я подошел вплотную, присмотрелся и расхохотался. Доски оказались бывшими в употреблении, все в дырках от старых гвоздей! Так вот, значит, почему хозяин вызвался мне помочь и почему не стал работать при мне! Он его из старой доски сколотил, а новую – присвоил. Для обшивки бани, наверно. Но мне-то все равно из чего, лишь бы забор стоял. А он на месте, потрогать можно – славный такой, двухметровой высоты, темно-зеленый, немаркий. Моего любимого цвета и размера…
Я посмотрел на наручные часы. До четырех утра, когда привезут снег, оставалось больше полутора часов, а делать мне на улице Грязнова было совершенно нечего. Морозец легкий – градусов пять-семь, но щеки все равно покалывало. Чтобы не мерзнуть, решил вернуться домой и прошвырнуться по Интернету. Да в ящик электронной почты не мешает заглянуть. Может, неизвестный доброжелатель прислал мне новое послание? О чем, интересно? После информации о шаманском дереве с яйцами и третьем глазу во лбу, чем еще может он меня удивить?
Проходя мимо дома Бориса Кикина, я увидел в его окнах свет. Это означало, во-первых, что Стас вызвал электриков, которые исправили электропроводку. А во-вторых, что Борис не спал. Надо проведать раненого товарища, тем паче делать мне больше нечего…
Дверь мне открыл Борис, причем довольно скоро. И повел меня на кухню. Я шел сзади и не верил собственным глазам. Он даже не прихрамывал. Как такое могло быть? Рану я видел, рана была ужасной, да и кость, Стас говорил, треснула. Прошло чуть больше суток. Не могла же она затянуться за это время. Не могла!
Боря сперва поставил на стол бутылку, а потом уже спросил:
– Выпить хочешь?
Еще бы… Вокруг такая хрень и сумятица, что без бутылки не разобраться.
– Наливай!
Он налил в один стакан.
– А себе?
– Не хочу, – ответил Борис виновато. – Точнее, не могу. Веришь, Андрюха, мозгами хочу, а как ее, родимую, увижу, как представлю… С души воротит. Заболел я, наверно.
– Борь, но это же классно! Тебе давно пора было завязывать. Спивался ведь на глазах!
– Да я понимаю, но все равно как-то… неуютно, что ли? Если бы я сам бросил, это одно, а тут будто закодировал кто-то… Это насилие над человеческой личностью!
Я поднял стакан. То, что Боря не может пить, меня тоже не радовало, ощущал я некое вмешательство в его сознание. Впрочем, говорить об этом я ему не стану.
– За твое здоровье, Борис!
Я выпил, а он усмехнулся скептически, но промолчал.
– Как у тебя, кстати, нога? Я гляжу, ты не хромаешь совсем.
– Точно! – Он стал заворачивать штанину. – Смотри, что делается!
Борис обнажил голень, и я едва не вскрикнул. Мне сделалось жутко.
Повязка под штаниной отсутствовала, рана тоже. О страшной травме напоминал лишь красный рубец сантиметров в шесть-семь. Уже заживший. За сутки с небольшим. Этого не могло быть, однако – было.
– Как рана могла так быстро затянуться?
– Не знаю, – пожал плечами Борис и опустил штанину.
– Слушай, а может, в Стасе дело? – осенило меня. – Может, с его подачи гэбэшный врач гэбэшное лекарство применил? Секретное!
– Не знаю, – повторил Борис, – врач мазал чем-то рану, я не смотрел, отвернулся. Мутило меня. А как вернулись домой со Стасом, все время спал, не помню ничего. Стас меня, правда, будил, картофельным супом кормил… Это все. Проснулся я пару часов назад – спать не хочу, не болит ничего. Размотал повязку, а там – рубец. И жрать хочется. Я тут все подмел, что Гриша со Стасом приносили, крошки не оставил… Так что, извини, Андрей, закусить нечем.
– Ладно, обойдусь! – отмахнулся я и наполнил стакан. Полный двухсотграммовый стакан. Те сто граммов, что налил мне Борис, не произвели на меня никакого действия. Абсолютно.
– И главное – ни усталости, ни слабости, ни боли! – продолжал Кикин. – И работать хочу, вот что странно!
– Нам хлеба не надо, работу давай! – прокомментировал я и выпил двумя глотками весь стакан. Как воду, честное слово. Может, и правда Стас или Гриша подменили водку водопроводной водой в целях выведения Бори Кикина из запоя? Так он и без того не пьет. Работать ему, уроду, приспичило…
Нет, все ж таки в стакане была водка. Мысли поплыли, как льдины в ледоход – одна на другую громоздятся… как бычки в колхозном стаде друг на друга… гомосечут от избытка энергии… и спать хочется… очень… и глаза сами собой закрываются…
– Ты, Андрей, не обижайся, один посиди, а я рубить Бурхана пойду.
– Иди, – сказал я, с трудом ворочая языком. – Ты меня только разбуди без пятнадцати четыре, ладно? Мне на Грязнова надо… снег привезут…
– Разбужу, спи, – ответил Борис. – Еще больше часа можешь спать.
Он, наверно, ушел, я его больше не слышал. А у меня закрылись глаза… или не закрылись?.. Не знаю. Но я вдруг заметил, что у Буратины, который сидел напротив меня, появилась голова, прикрытая грязной тряпицей. Как, интересно, он теперь выглядит, этот псевдоитальянский юноша с монголоидным лицом мертвого бурятского шамана?
А потом был сон. Или не сон? Не знаю, но мне показалось, что сон – это жизнь Андрея Татаринова в сибирском городе Иркутске в самом начале двадцать первого века, а явь – байкальский остров Ольхон из второй половины века восемнадцатого. И фамилия у меня правильная, а имя нет. Почему, сам не знаю. Или знал когда-то, да забыл?
ГЛАВА 23
Шаманское посвящение
Вместе с моим толмачом и проводником Доржи мы уже неделю как вернулись в большой улус братских татар. Деревня именовалась Хужир, что в переводе с варварского означало «солончак».
Доржи всем местным жителям успел рассказать, как на берегу Байкала возле истукана их верховного ложного бога Бурхана в меня ударила молния. С тех пор дикари относились мне с величайшим почтением, почти как к богу. Впрочем, это меня не удивляет. Цивилизованный русский дворянин, морской офицер, отстоит в своем духовном развитии от необразованных, темных аборигенов настолько, что сравнение показалось бы мне правомерным, не будь я истинно верующим православным христианином, никогда не забывающим заповедь: «не сотвори себе кумира». Даже из себя самого…
Гордыня – один из семи смертных грехов, но с помощью Божией я надеюсь ее избегнуть. Но сейчас мне угрожает худшая из бед – грех вероотступничества. Впрочем, по порядку.
Я выяснил, что мой крещеный проводник Доржи оказался на деле закоренелым язычником, да не рядовым, а волхвом! По-татарски – «боо», что у тунгусов зовется «шаман». Последнее слово европейцам уже известно и через русский вошло в употребление во многие цивилизованные языки. Им я и стану в дальнейшем пользоваться.
Так вот, мой Доржи оказался даже не просто «боо», а «шанар» – посвященный шаман. Да еще и «дуурэн», полный шаман, прошедший восемь степеней посвящения из девяти возможных. Дуурэн имел кнут («мина») – символ власти, «жодоо» – пихтовую кору, которой окуривают жертвенных животных для очищения, трости для перенесения в потусторонний мир для общения с богами и духами, «майхабши» – железную корону с оленьими рогами и ушами для камлания, и семь различных бубнов, «хэсэ», символизирующих у братских татар шаманских коней для верховой езды.
Словом, мой толмач стоял на восьмой, предпоследней ступени в шаманском табеле о рангах, а последнюю, девятую – «заарин», величайший шаман, не имел ни один человек со времен великого завоевателя Тамерлана.
Как объяснил мне «полный шаман» Доржи, почтение и почитание аборигенов никак не связано ни с моим высоким происхождением из русского потомственного дворянства, ни с чином штурмана в ранге капитана императорского флота, а связано лишь с попаданием в мое тело шальной молнии на байкальском берегу. По их представлениям, я отмечен Богом и могу теперь, если захочу, стать шаманом, пройдя обучение и обряд посвящения «шанар», который «просветляет разум шамана, открывает ему тайны загробной жизни и жизни духов, позволяет приобрести знание богов, узнать их местопребывание, через кого и как к ним должно обращаться».
Вот что сказал мне мудрый дуурэн, посвятивший уже девяносто восемь шаманов и мечтающий о девяносто девятом – моем посвящении. Еще он сказал, что это великая честь и уже тысячу лет ни один инородец не проходил этот обряд.
Разговор наш с Доржи состоялся два дня назад, и сегодня я обещал дать ему ответ.
Как православный христианин, я должен был сразу отказаться от поклонения языческим богам дьявольского обличья. Но с другой стороны, я почитал себя за просвещенного исследователя быта и верований братских татар. И с этой позиции я должен был, конечно же, согласиться. Виданное ли дело, быть не просто свидетелем тайного обряда, но соучастником, главным действующим лицом, самим посвящаемым!
Не помню точно, но читал в каком-то манускрипте, как один из великих врачевателей древности сознательно заразил себя чумой или холерой и до самого последнего вздоха и смертных судорог диктовал любопытным ученикам симптомы и признаки неизлечимой болезни. Хвала ему! На алтарь медицинской науки и просвещения он бросил собственную жизнь! А чем я хуже знаменитого эскулапа, имени которого не помню? Все, что имею, чем дорожу больше жизни – на алтарь великих наук истории и этнографии!
Когда утром в мои покои, а точнее, отгороженную часть войлочной юрты вошел Доржи, я только кивнул.
Юрту, в которой я проживал, торжественно объявили моей собственностью. Временно, конечно.
Своим родом я объявил, немного поразмыслив, всю христианскую Европу. Думаю, дикие татары вряд ли поймут очевидные отличия православных христиан от католиков и протестантов, если все мы, представители белой расы, для них на одно лицо.
Своим родовым богом я назвал Иисуса из Назарета. Хоть в этом не слукавил… Верую, Господи, верую! Помоги мне в моем отступничестве!
Доржи провозгласил себя моим «найжи», крестным отцом… Прости мою душу грешную, Господи!
Он также выбрал «девять сыновей шамана», которых тут же послал за девятью камнями с девяти гор и за девятью водами из девяти источников. Первый ритуал «водного очищения» был назначен на утро следующего дня. А пока суд да дело, в мою юрту принесли пол ведра тарасуна – татарской молочной водки – и велели пить.
Тарасун я уже имел честь пробовать, после чего со мной случилось острейшее расстройство желудка и трехчасовой непрекращающийся понос. По этой причине втихую я слил зловонное зелье под юрту и достал из багажа припасенную бутыль чистой, как слеза Ангела Господнего, русской водки. Пить так пить.
Утром, до того как за мной пришли «девять сыновей шамана», я успел похмелиться. Мне был не страшен сам Сатана из Преисподней, не то что какой-то монголоидный клыкастый Бурхан. И я смело пошел за «сынками».
На краю улуса горел большой костер, в котором лежали камни. Вероятно, девять, я их не пересчитывал. Рядом стоял чан с водой. Полагаю, из девяти источников, на глаз было не определить. Неподалеку щипал чахлую травку солончака одинокий козел белой масти. У чана лежал березовый веник неопрятного вида – с корнями, не очищенными от остатков почвы. Парить они меня, что ли, собрались? Где тогда баня?
Мой найжи по имени Доржи железными щипцами извлек поочередно все девять камней из костра и осторожно опустил их в чан. Вода от этого чище не стала, но через несколько минут бурно закипела.
Крещенный по православному обряду шаман бросил в чан какой-то травы и коры, по виду – хвойной породы.
«Сынки» привели упирающегося козла. Он, вероятно предчувствуя свою незавидную участь, истошно блеял. Подручные крепко держали несчастное животное, а Доржи острым ножом с широким стальным лезвием, русского, вероятно, производства, срезал несколько клочков шерсти с ушей, по кусочку с каждого копыта и рогов. Все это он бросил в кипящую воду. Замечательная получится похлебка, вот только хлебать ее мне почему-то не очень хочется.
Пока я размышлял, чуть не пропустил самое интересное. Доржи собрался с силами, занес нож над головой, подручные, одновременно отпустив козла, отскочили в стороны, и не успело животное дать деру, как шаман молниеносным выверенным ударом поразил его в сердце. Козел умер моментально, лишь пару раз конвульсивно дернул ногами.
Как завороженный, смотрел я на этот варварский обычай. Я не мог отвести взгляд от несчастного существа. Нет, я понимаю, мы, европейцы, тоже не вегетарианцы, но было, было в этой козлиной смерти нечто запретное, неправильное… Впрочем, о чем я? Разве не в современной мне Европе восемнадцатого века любимое зрелище толпы – публичные казни на рыночных площадях?
А шаман поднял тело козла над чаном, и темная кровь из раны окрасила кипящую воду… Убейте еще и меня, но это ведьмацкое зелье я жрать не стану! Меня замутило и чуть не вывернуло наизнанку прямо во время церемонии, что татары едва ли одобрили бы. Одновременно очень захотелось выпить, пусть даже их мерзкого тарасуна. Я хотел спросить у Доржи, но отвлекать его не стал, он был занят – уверенными, ловкими движениями разделывал тушку козла. Извлек козлиную лопатку, долго ее рассматривал, а затем, обнаружив что-то чрезвычайно приятное, затряс ею над головой, радостно вопя нечеловеческим голосом по-татарски.
Потом неизвестно откуда появились пять местных мадам и уволокли освежеванного козла неизвестно куда. Лопатку Доржи им тоже вручил, причем важно, как скипетр. После этого шаман поднял с земли березовый веник и сунул его в чан с кроваво-грязной кипящей водой, а «сынки» скоро обнажили меня по пояс. Я не сопротивлялся, иначе бы они не управились с раздеванием в две минуты. Поняли бы, плосколицые, что значит иметь дело с русским морским офицером! Впрочем, я был не вооружен, даже кортик, с которым не расставался и во сне, снял по настоянию своего «крестного отца», будь он неладен. Я расслабился, размышляя, что с девятью вряд ли, а с четырьмя-пятью низкорослыми татарами врукопашную справился бы, как пить дать… И в это время шаман нанес мне предательский удар обжигающим веником по спине, выкрикнув по-русски:
– Повторяй за мной, Михал-нойон: не буду смотреть на красоту лиц!
Я повторил, не понимая смысла. Шаман продолжил экзекуцию: удар, выкрик на тарабарском, потом на русском. Я принял правила игры – повторял и принимал удары, не так, чтобы очень болезненные. Пол-улуса собравшихся здесь татар после нашего тройного выкрика визжали нечеловечески…
– Не буду призывать смерть!..
– Не буду угонять чужой скот!..
– Не буду призывать убийство!..
– Не буду сидеть на чужом добре!..
– Не буду недоволен скудостью приношений!..
– Данная мною присяга пусть будет услышана Владыкой Преисподней Эрлен-ханом!..
– Пусть слышат высокое Небо – отец и широкая Земля – мать!..
– Пусть присутствующие здесь люди свидетельствуют, что я, стоя живой, дал эту клятву…
Дальше еще много чего было. «Сынки» меня омывали, таскали кругами на большом куске белого войлока, заставляли несколько раз лазать на березы…
Все это я помню довольно смутно.
Еще шаман брызгал во все стороны тарасуном на манер православного священнослужителя со святой водой… Прости, Господи, меня грешного, за подобное сравнение!
Брызгал Доржи хоть и обильно, но зелья, вероятно, было более чем достаточно. Ритуал закончился всетатарской беспросветной гульбой. Пили все – мужчины, женщины, дети и даже, кажется, кони с мохнатыми собаками, больше похожими на волков, но с хвостами, крючком задранными вверх. Я тоже пил тарасун и отбегал каждые пять минут дристать в ближний лесок из чахлых пихт, берез и осин.
А потом пил и уже не отбегал…
А потом не снимал даже штанов…
И все равно: пил, пил, пил…
Следующий день я вообще не помню. Следующий за ним – тоже. И за ним. И так далее. Сколько все это продолжалось – несколько дней, недель или лет, не знаю. Долго.
Пили мужчины, женщины и дети.
Пили кони, овцы и собаки.
Пили небожители-тэнгрии.
Пили духи из Царства Мертвых.
Пили, пили, пили…
ГЛАВА 24
Трубе – нет!
Проснулся я оттого, что… Или не проснулся, перенесся? Возникло у меня ощущение, будто я не сплю последние ночи… Нет, сплю, конечно, но в то же время некая невесомая субстанция, именуемая в разных источниках душой, эфирным телом или истинным «Я», совершает сновидческие путешествия во времени и пространстве. А тело мое, как пустая оболочка, в период скитаний остается недвижимым, брошенным и беззащитным. Как вот теперь. Потому что Боря Кикин давным-давно потрясал мое тело, а оно было, как деревянное. Я каким-то образом, не знаю каким, увидел его как бы со стороны – чуть слева и сверху. Душераздирающее зрелище: глаза закатились, радужная оболочка не просматривалась вовсе – сплошная пустота белка, взгляд бессмысленный, как у мертвеца… Чистой воды – зомби…
Напуганный Боря начал между тем усиленно охаживать меня по щекам, приговаривая:
– Ты чего, Андрей? Проснись! Без десяти четыре!
Опасаясь членовредительства, я поспешил то ли проснуться, то ли вернуться в брошенное тело. И перво-наперво вернул, словно вдул, в глаза осмысленность. Руки поднял, защищаясь от ударов Бориса.
– Все, хватит!
Он медленно опустил занесенную ладонь.
– Ну, блин, ты и спишь, Андрюха. Я тебя уже двадцать минут не могу добудиться.
Я встал со стула. Я опаздывал. Если режиссер будет недоволен моей работой по подготовке улицы к съемкам, накроются и другие заказы, Ольхон – в первую очередь.
– Боря, закрой за мной.
Несмотря на похмелье, которое я, как ни странно, ощущал, проснувшись, добрался я до улицы Грязнова быстро, опоздал минут на пять-семь, не больше.
Снег еще не подвезли, но возле моего нового свежевыкрашенного забора собралась толпа иностранцев, в основном французов и москвичей. Я преисполнился гордости. Любуются, наверно, темно-зеленой, немаркой красотой типичного российского строения…
Что-то вещал на родном, великом и могучем, Григорий Сергеев. Ему вторили, перемешиваясь и заслоняя друг друга, синхронные переводы на французский и англосаксонский языки в исполнении Турецкого и Ананьевой.
Итальянского я не услышал и не увидел, соответственно, Катерины-красавицы и второго режиссера-итальянца. Спят, наверно, и хорошо, если не в одной широкой постели, сволочи… Вспомнился сон, и я снова увидел на миг их глаза, полные муки и предсмертного ужаса, когда они прижимались, плюща лица, к стеклам полыхающей машины… Чушь. Не было этого. Это был сон. Сон и только!
Я подошел, остановился в задних рядах. Гриша как раз смолк, и Поль Диарен, режиссер-постановщик, задал вопрос. Анна Ананьева перевела:
Григорий Иванович, месье Диарен спрашивает, почему наши «зеленые» протестуют против нефтепровода? Ведь он необходим. Он несет в дома простых людей свет и тепло!
– Никто не против трубопровода, как такового, – ответил Сергеев. – Все понимают его необходимость. Но зачем прокладывать его в четырехстах метрах от байкальского берега? А постановление об этом уже подписано.
Снова двойной перевод. Иностранцы залопотали разом, но Анна, соблюдая субординацию, передала лишь возмущенные слова режиссера:
– Это неслыханно! А если произойдет авария с утечкой?! Или террористы заложат мину?! Нефть попадет в уникальное озеро, окончательно испортив его экологию!
Сквозь толпу человек в тридцать я наконец протиснулся во второй ряд и увидел то, что навело иностранцев на экологическую тему. На темно-зеленом фоне моего замечательного забора «зеленые» написали баллончиком черной нитрокраски крупно, на все пять метров:
«Байкалу – да! Трубе – нет!»
Вот, уроды… точно меня теперь уволят без выходного пособия…
Кто-то вдруг прижался ко мне сзади всем телом, и одновременно я ощутил чью-то жадную ладонь у себя между ног… Этого только не хватало. Москвич, наверно, какой-нибудь домогается. В столице, говорят, каждый второй мужчина – гомик. Вырождающаяся нация…
Я развернулся резко, готовый дать отпор несанкционированному вмешательству, и… увидел сияющие темно-зеленые, как мой забор, глаза Жоан Каро. Улыбнулся в ответ, отвернулся. Совсем на старости лет с ума сошла… пусть даже под ее ладошкой все у меня оживало… Мужчине, я слышал, чтобы возбудиться, надо двенадцать минут. Гнусная ложь! Полминуты хватит… Жоан что-то шепнула мне на ухо, вероятно привстав на цыпочки, иначе бы не достала… Но я не поддержал забавной игры в толпе, убрал аккуратно ее руку. И шагнул вперед в свободное пространство у испорченного забора.
– Здрасте… – сказал я. – Я в три отсюда ушел, ничего такого не было… а в четыре написали вот…
– Все в порядке, – улыбнулась Анна Ананьева, – месье Диарен не сердится. Он полностью на стороне русских «зеленых»… А забор вы покрасите, пока остальные будут разбрасывать снег.
Сияющий режиссер что-то сказал и пожал мне руку, будто именно я был инициатором российской ветви всемирного экологического движения. Анна перевела:
– Он говорит, что доволен вашей работой, но эту замечательную надпись придется все-таки закрасить. В первой четверти девятнадцатого века в Сибири нефтепроводов не было.
Я невольно усмехнулся. Можно подумать; Франция того времени сплошь была покрыта газо– и нефтепроводами…
Тут подошел первый «КамАЗ», груженный грязноватым снегом, и толпа иностранцев принялась разбирать сваленные на тротуаре лопаты.
Среди них я увидел и Стаса. Надо же, соизволил явиться в такую рань… Впрочем, после того, что он сделал для раненого Бориса Кикина, отношение мое к нему переменилось. По-человечески Стас себя повел, молодец.
Жоан Каро на меня не обиделась, жизнерадостно махала мне широким пихлом. Посмотрю я на тебя, мать, через полчаса работы лопатой. Энтузиазма, чай, поубавится…
Войдя во двор, я увидел на пороге дома разбуженного шумом хозяина.
– Как забор? – спросил он. – Подходяще?
– Испортили забор «зеленые» козлы!
– Это кто такие будут? – недоумевал хозяин. – Мутанты, чё ли?
– Не важно, – отмахнулся я. – Краску и валик тащи. По новой красить буду.
А иностранцы накинулись на снег, будто впервые его увидели. Хотя, может, и впервые. Где бы они, почти сплошь южане, могли видеть его в таком количестве? Разве что в Альпах на горнолыжных курортах.
Поль Диарен через минуту-другую сбросил куртчонку, подавая пример, махал лопатой, как вертолет лопастями. Ганс Бауэр, оператор-постановщик, напоминал ветряную мельницу при порывистом норд-осте. Рядовые члены киногруппы пытались соответствовать или хотя бы демонстрировать энтузиазм. Интересно, надолго ли их хватит?
Чуть в стороне, опираясь о лопату, стоял недовольный какой-то типчик смазливой наружности. Он ни фига не делал, только смотрел на честных трудящихся с брезгливым выражением на породистой физиономии. А те развлекались по полной, как на коммунистическом субботнике. Кто-то смеялся, кто-то пел, кто-то молча сопел, надрываясь от непривычной работы. Один тунеядец-типчик, зараза, стоял и делать ничего не собирался. Кто это, интересно?
Первую машину разбросали влет. Вторая еще не подоспела. Киношники остановились, опираясь на лопаты, как на костыли, тяжело дыша. Это вам, ребята, не кино снимать! Тут пахать надо, как слепая лошадь!
Подошел повеселевший Гриша Сергеев, изрек глубокомысленно:
– Иностранцы все засранцы, а японцы – молодцы!
Я хохотнул:
– Это почему же они молодцы?
– Не знаю, – ответил художник-постановщик, – так в моем детстве говорили.
Я подумал, что он, пожалуй, застал пленных японских солдат, которые после поражения во Второй мировой строили в Иркутске дороги и дома. И умирали, умирали, умирали… Много японских захоронений вокруг города. Только недавно правительство Страны восходящего солнца начало перевозить и перезахоранивать на родине останки своих солдат…
Я вычел из текущего года Гришины неполные шестьдесят, и получилось, что да, мог он видеть их скорбные колонны, будучи мальчишкой-дошкольником.
– Гриш, – спросил я, – а что это за типчик-красавчик?
– Какой?
– Да вон стоит, не работает. – Я кивнул в сторону одинокой мужской фигуры.
Гриша мельком взглянул и отвернулся, чтобы не пялиться.
– Это английский актер, главную роль играет в фильме.
– А чего пришел тогда с лопатой, если не работает?
– Откуда мне знать? У режиссера спрашивай.
Спрашивать я, конечно, не стал, тем паче на улицу Грязнова въехал, обдавая народ смрадной едкой копотью, второй груженный снегом «КамАЗ». На самом деле он же – первый. Я понял, самосвал был всего один, и грузили его неподалеку, судя по грязно-серому цвету снега, в черте города. Оборачивался он в полчаса. За это время тридцать человек как раз успевали разбросать предыдущую кучу и немного отдохнуть.
Припорошить улицу хватило четырех машин, но Жоан Каро расплатилась, вероятно, за все пять договорных, потому что водитель кавказской внешности не возмущался и не орал. Напротив, улыбался, гад, ощупывая нагло мою француженку липким взглядом.
А английский актер так и простоял два часа в главной роли, не сдвинувшись с места, пока за ним не подкатил лимузин.
Остальные тоже разъезжались в легковых машинах и микроавтобусах.
Я решил остаться на улице и караулить забор от ретивых писателей-экологов. А чтобы не скучно было, взять бутылочку и распить с хозяином во дворе. Тот вышел на улицу, и по глазам его жалобным я понимал, что именно этого он от меня и ждет. Но не тут-то было…
Я махал ручкой Жоан Каро, в «шевроле» которой уже разместились режиссер, оператор и художник… так вот, я делал ручкой своей скверной девочке, когда ко мне подошла Анна Ананьева, переводчица, и тронула за плечо:
– Андрей, вам надо подписать договор.
– Зачем? – спросил я.
– Как зачем? А на каком основании вам платят деньги?
Я пожал плечами. Откуда мне знать их основания?
– Надо так надо. Где подписывать?
– Его надо еще написать, но не здесь же…
Она посмотрела по сторонам, будто искала место, то есть, как я понял чуть позже, смотрела, отъехал ли автомобиль мадемуазель Каро?
«Шевроле» показал нам задний бампер и потерялся среди других авто.
– Ко мне в гостиницу? – размышляла вслух переводчица. – Там люди, мешать будут… – Она вцепилась в мне локоть. – А вы далеко живете?
– Рядом.
– Тогда, может, к вам?
Это становилось интересным. Еще до знакомства, после одного только милого телефонного разговора мне, помнится, хотелось с ней – в особо извращенной форме с элементами классического садизма. Почему бы и нет? Если классического…
Съемки были назначены на семь, оставалось меньше часа. Интересно, успею или нет? В смысле – на съемки…
Когда мы с Анечкой уходили под ручку, на грязно-серый привозной снег повалили с небес чистые крупные хлопья. Снег шел настолько густой, что стало ясно, он в пятнадцать минут закроет двадцатисантиметровым слоем улицу Грязнова и весь остальной город.
Солнце еще не взошло, но восток окрасился красным. Снег ложился на деревья, дороги, крыши домов и редких в столь ранний час прохожих. Снег скрывал от глаз всю нашу российскую черноту и серость, всю нашу бедность и простоту, которая хуже воровства…
Снег шел крупный, пушистый, мгновенно тающий на ладони. И не осталось в мире больше ничего, ни земли, ни небес, только снег – снизу, сверху, везде. Только снег и Россия, потому что они – одно.
Шел снег. И красивая женщина, пусть и москвичка, шла рядом, прижимаясь к плечу. И краешек красного диска показался над лесистой черно-белой сопкой. И город проступал из сумрака, старый, с деревянным узорочьем по стенам домов, как оберег. Русский, как люди его населявшие. Как снег, падавший на него.
Вот тут бы и снимать. Не город – сказка.








