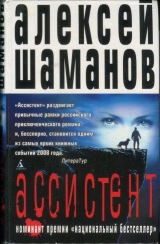
Текст книги "Ассистент"
Автор книги: Алексей Шаманов
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
– Лавки и стол хорошие, – перевела Анна, – но новые. Не пойдет.
– Переведи этому шансонье, что столешницу художник закроет белой домотканой скатертью, а ножки стола и лавки…
Я взял банку уже разведенной морилки, обмакнул в нее кусок поролона и мазнул им край сиденья.
– Вот, смотрите, как будет.
Мокрое пятно впиталось мгновенно, и на его месте дерево потемнело, сделалось коричневым, старым.
– Зер гут! – сказал Ганс Бауэр. Он тоже оказался у меня за спиной.
Инициативу я решил из рук более не выпускать, подошел к окну, зажестикулировал.
– Здесь будут висеть ситцевые занавески в цветочек, здесь я подкрашу белой краской, здесь побелю…
– Ти-ше е-дешь, дал-ше бу-диш! – сказал по складам немец и добавил скороговоркой что-то на своем, лающем… Надо же, помнит еще что-то по-русски, кроме матерщины.
– Ганс спрашивает, – перевела Анна, – ты успеешь?
– Успею. Времени полно до заката.
Когда режиссер с оператором сели уже в «УАЗ», Анна снова задержалась, сказала с милой улыбкой:
– Андрей, вечером приезжает Жоан. Ты не забывай, о чем я тебя вчера предупредила. – Потрепала по щеке, как боевого коня. – Огорчишь меня еще раз, убью. Понял?
Водитель посигналил нервно, вдобавок дверь приоткрылась, и француз крикнул, смещая по привычке ударение на последний слог:
– Аннá!
Имя от галльского прононса сделалось подобно местоимению.
– Иди, солнце мое, тебя зовут.
Я развернул девушку и легонько шлепнул по аппетитной попке. Она оглянулась, возмущенная. Я по глазам видел, у нее руки прямо чесались отвесить мне добрую оплеуху, но в присутствии иностранцев не решилась она афишировать наши сугубо интимные отношения…
Я вышел к берегу и смотрел, покуривая, вслед выруливающему на байкальский лед «УАЗу», когда услышал за спиной собачий лай. Что за черт? Откуда здесь собаки? Впрочем, они, одичавшие, везде есть. А лает на кого?
Я торопливо вернулся к крыльцу и увидел такую картину. Мой давешний двуротый дедушка улепетывал к холмам с бутылкой моей водки в одной руке и кружком «краковской» колбасы в другой. За ним по пятам, яростно лая, бежал Нойон-полуволк. Для мертвой собаки довольно быстро. Он почти настиг вороватого деда, когда тот свернул за сарай.
Недолго думая, я побежал к ним. За сараем никого не было, зато на земле лежали водка и колбаса. Я их поднял, бутылка, к счастью, не разбилась. Из-за угла вышел Нойон, сжимая в зубах облезлого, как шапка-ушанка на буряте, зверька размером с соболя. Пес гордо положил его у моих ног.
– Хороший Нойон! – Я потрепал собаку по загривку. – Охотник! Что это ты принес?
Я подвигал тушку придушенного зверька носком ботинка. Что за хрень? Шерсть, словно ношенная, хвост голый, как прут, мордочка узкая, крысиная, а посередине над вытянутым носом – единственный глаз. Еще один ольхонский мутант?
ГЛАВА 20
Вы говорили, нам пора расстаться…
Нойон от еды отказался. В дом вошел, но остался у порога, лег и насторожил уши. Я понял, он меня охраняет. Почему? Пес меня даже не знал при жизни. Из-за того только, что я похоронил его, оказал уважение? Не знаю, однако вот он, сторожит и, признав меня хозяином, будет драться за меня, если придется, до новой смерти…
Парадокс. Я сам не заметил, как шаманские понятия сделались для меня привычными. Лежит у дверей пес, застреленный на моих глазах два дня назад, а я спокоен, будто с детства привык к присутствию оживших трупов. Не пора ли мне в психбольницу наведаться?
Так ничего и не решив, отобедал тем, чем снабдил меня Никита, выпил кружку чаю, заварив пакет, и закурил.
Пребывание на острове Ольхон не ответило на мои вопросы, а запутало все окончательно. Мать-Хищная Птица с Мировой Ели, Дьяволица-Шаманка из черной юрты, Дух-предок, путешествие на Небеса, где периодически сражаются насмерть бессмертные тэнгрии, мертвая собака, если я правильно понял, мой Дух-помощник. Так я еще в живых женщинах запутался, как в паутине! Люблю одну, сплю с другой. Урод. Сплошные несуразицы беспросветные. И полное непонимание неподконтрольной мне ситуации. Объяснение, оно же оправдание, одно – я сошел с ума, причем еще в Иркутске, когда дрался с Буратиной. Или еще раньше…
Тяжело и обреченно вздохнув, я забросил окурок в раскаленную топку и встал с лавки. Работать надо – единственное, что я знал наверняка. За работу платят вполне реальными долларами. Остальное – бред.
Подошел к собаке. Остро захотелось, чтобы Нойон оказался галлюцинацией. Протяну сейчас руку, и она пройдет сквозь эфемерное тело… Протянул и ощутил под пальцами густую шерсть, даже тепло ощутил, которого и быть не могло. А Нойон поднял на меня глаза и вильнул хвостом. Интересно, если рубануть топором по его хвосту, он отвалится? И кровь потечет?
Усмехнувшись, пошел прибивать фанерные ставни на второе окно. Подобных садистских экспериментов проводить всерьез не собирался.
Завершив наружные работы, перешел в дом. Стал заделывать по контуру вставленные накануне оконные блоки. Использовал остатки привезенной из города доски, но ее не хватило. Разобрал метров пять забора на загоне. К сараю с вонючим пузырем на всякий случай не приближался, обходил стороной. Слышал где-то, что галлюцинации, если в них веришь, имеют свойство материализовываться, и тогда воздействие их может оказаться вполне реальным. Как рана на лице Бори Кикина после удара топором неживой деревянной куклы. Ее, слава богу, больше нет, сгорела в банной печке. Одним наваждением меньше…
Впрочем, если домашняя кошка подцепила блох, бессмысленно давить их по одной. Нужны радикальные меры. Выкупать, например, в специальном шампуне для животных. Где бы для моего сознания найти такой шампунь? С одной стороны, все, что происходит со мной в последнее время, – невозможно, и я это понимаю. С другой – происходит, и плевать невозможным событиям на мое понимание или непонимание. Что равнозначно, если следовать логике почти триста лет назад умершего предка, Михаила Татаринова, отставного штурмана в ранге капитана…
Услыхав мерный гул автомобильного двигателя, вздрогнул. Что, нежить собралась в механизированные колонны и прет теперь на заброшенную ферму, как Гитлер в сорок первом на Москву?
Вышел из дома и увидел внешне вполне реальный внедорожник японского производства. За рулем чех – Карел, помощник и переводчик, на переднем сиденье рядом – Жоан Каро, продюсер. Надо же, заехала, моя лапочка, меня проведать! Вот радость-то!
«И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милой…» Не знаю, откуда в моих сумеречных мозгах возникли эти слова? Из американского блокбастера или русского телесериала, вероятно… В присутствии Жоан думать мне не хотелось. Ни о чем.
Тактичный Карел, выйдя из салона и поздоровавшись, спросил:
– Я вам нужен, Андрэ?
– Нет, Карел, – ответил я, – мы обходимся без переводчика.
И он пошел в степь, насвистывая. Увидел лошадиный череп и, заинтересовавшись, присел возле него на корточки…
Жоан стояла у машины и, почему-то виновато улыбаясь, смотрела вслед чеху.
– Жоан!
Она перевела на меня взгляд. Изумрудные очи, будто влажные. Поправила несбившийся локон светлых волос.
– Наин, Андрэ!
– Что «найн»? Что, девочка моя?
Я подошел. Я осторожно провел пальцами по мокрой щеке. Жоан беззвучно плакала.
– Вас ист дас?
– Я, Андрэ! Вас ист дас? Их… найн, ду… Их либе дир, абер дас ист… кошмар!
Она путалась, не могла подобрать слова чужого, забытого, вероятно, еще со школы языка. Она перешла на божественный французский. На нем, вероятно, говорят ангелы на Небесах. Жаль, не уточнил это у мудрого предка…
И я понимал ее речь, как когда-то в парящем на бреющем над Байкальским трактом «шевроле». Она говорила:
– Кошмар! Я не хотела любви, я хотела всего лишь секса. Экзотического секса с русским дикарем в ирреальной Сибири. И теперь – любовь… Зачем, Господи, что я дурного сделала? Чем прогневила Тебя?
Любовь – это боль! Любовь – это смерть! Я не переживу ее, я умру. Не надо! Уйди, Андрэ, ты – мой Ангел Смерти! Я тебя боюсь! Боюсь и желаю всем тем, что у меня осталось, – дряхлеющим телом, болезненным сердцем, истерзанной душой… Если она у меня есть. Нет, вероятно. Потому что… потому…
«Бог есть любовь», – говорят священники. Но я-то знаю, я видела: Бога нет в помине! Есть Дьявол, вершащий суд. Есть муки, есть страдания. Любви – нет! Ее придумали скверные поэты и переполненные, как презервативы, спермой, прыщавые юнцы…
Жоан вцепилась мне в плечо, как спасатель в волосы утопающего, закричала:
– Глупости! Я говорю глупости, не слушай меня, Андрэ! Впрочем, ты, молодой и красивый дикарь, все равно не понимаешь человеческого языка…
Я понимал. Я понимал много больше, чем она говорила в надежде на мое непонимание. А в голове у меня звучали слова, из того же телесериала, наверно:
«Вы говорили, нам пора расстаться, что вас замучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел – катиться дальше, вниз… Любимая, меня вы не любили…»
Она любила меня, и это нежданное чувство рвало ей душу, как конфетный фантик. Душа у нее была. И тело было не дряхлеющим, нет. Про сердце не знаю, я же не кардиограф какой-нибудь… Хотя знаю. Жоан проживет долго-долго… если не умрет на Ольхоне. А на Ольхоне она не умрет! Я сделаю все, чтобы этого не допустить! Живи, Жоан! Живи и люби меня, скверная девочка, милая…
– Что мне с тобой делать, Андрэ? Подскажи! Не везти же в Париж! Ты выглядел бы там нелепо, как пингвин в курятнике. Все смеялись бы над тобой. И надо мной тоже… Нет, только не это! Мы расстанемся здесь. Но не сейчас, Сейчас я хочу… Я просто хочу!
И она набросилась на меня с каким-то утробным стоном и принялась целовать лицо, лихорадочно и торопливо, будто вот-вот меня отберут, как игрушку у капризного ребенка. Ей и мне было плевать, смотрит на нас чех или не смотрит…
Я взял ее на руки. Она охнула. Охнула и засмеялась звонко. И обняла меня за шею крепко-крепко. И я понес ее в дом. И не было на пороге никаких мертвых собак, это плод моего больного воображения…
Я захлопнул ногой дверь и лег вместе с Жоан на стол, крепкий, устойчивый. Может, подсознательно знал, для чего сколотил?
– Я увезу тебя во Францию, Андрэ… – бормотала Жоан, срывая с меня одежду. – И пусть смеются, пусть… мой пингвин…
ГЛАВА 21
От заката до рассвета
Бордовый диск солнца медленно опускался за гряду скал противоположного материкового берега Малого моря. По белоснежным кочевым облакам-барашкам гуляли всполохи всех оттенков красного. Будто догорающий костер милосердные западные тэнгрии разбросали по краю небес, дабы не спалил он Срединный мир с прилегающими окрестностями…
Я вынес скамью на торец дома, что выходил на байкальский ледяной берег. У ног поставил пакет с нетронутой бутылкой водки и остатками обеда. Не бросать же. Вечером после бани с пиротехником Петей и художником Гришей выпьем и съедим. За упокой души безвинно убиенного Нойона-полуволка. Не зря же он мне полдня мерещился…
Сумку с инструментом я от греха засунул под фундамент в окошко для вентиляции, а материал – краску, морилку, побелку оставил в доме. Мало ли, может, завтра что-то придется доводить до ума по прихоти режиссера или оператора. Кстати, никаких претензий я к ним не имел, это их фильм, их работа. А свою я успел закончить, и более мне ничего не оставалось, как пассивно сидеть под прибитыми мной разрисованными бутафорскими ставнями, наблюдать за красочным закатом в чуть мутноватом небе и ждать транспорт до Хужира.
Сам же и предложил водителю, чтобы тот выезжал за мной из деревни, как начнет смеркаться. Думал, уже при нем буду добеливать и докрашивать, но управился на удивление быстро. И это несмотря на то, что отвлекался то на Анну Ананьеву, то на Жоан Каро.
И что мне с ними делать? Как выкручиваться, когда они соберутся вечером по мою душу и тело? Ума не приложу. Может, сами найдут общий язык без меня и до моего возвращения?
Приглашения в Париж не будет, я не обольщался, это бред, выданный женщиной в порыве страсти. Общеизвестно, что самки в этот момент неадекватны. Как и самцы… Да и не хочу я уезжать из России даже с любимым человеком. Не фиг мне там делать. Я от тоски умру в ихней холеной Европе. На месяц-другой отдохнуть – с удовольствием, а навсегда – нет, увольте…
Россия, какая уж есть, такой ее и люблю. За что, не знаю. У любви нет причин. Она есть или ее нет. Все просто.
С другой стороны, Москва, как бы я ни прикалывался, несомненно, русский город. Дерьмеца в ней много, так где его нет? Там, где не ступала нога человека. Русского по крайней мере. Но боже меня упаси от столичных спеси, спешки и сутолоки. В молодости – нравилось, а теперь не хотел бы я там жить, даже и за пресловутую «московскую зарплату»…
Я сидел и смотрел. Время от времени по ледяной трассе, пролегающей в километре или полутора от меня, проезжали машины. Если справа, с севера, я дергался, всматривался, но они, не сворачивая, проходили мимо, на юг к переправе.
Мог бы водитель и пораньше приехать, не ждать сумерек…
Через некоторое время эту мысленную фразу я произносил чуть по-другому: «Мог бы водитель-сука…» и так далее. А потом солнце село и сумерки наступили. И я понял, что надо готовиться к ночлегу, потому что никто за мной не приедет. Что там у них произошло, машина поломалась? Так не одна же она у киногруппы и Никиты!
Я попробовал, конечно, воспользоваться сотовым телефоном, но, кроме того, что связь отсутствовала, он еще и разрядился, сволочь…
Все ополчилось против меня Даже холмы за домом, теряющие в густеющих сумерках краски, выглядели враждебно…
В первую очередь – заготовка дров, чтобы не шастать потом в полной тьме по малознакомой местности. На одну хорошую растопку на утро я заготовил заранее, но на всю ночь этого, конечно, не хватит.
Занес сумку с инструментом в дом. Топор и ножовка мне понадобятся.
Собрал обрезки у крыльца. Потом в два приема принес штук десять досок, оторванных днем от забора, но забракованных из-за сучков или гнили. Свалил у печки. Должно хватить. По мере необходимости буду их пилить и рубить на дрова.
Теперь – оконные проемы, всего четыре. Ночью температура опустится до нуля и ниже. Если не забить сквозные дыры, замерзну на хрен.
Многослойную фанеру художник-постановщик закупил с запасом, полтора листа у меня осталось. Я вынес на двор тумбочку и в пять минут целым листом забил первое окно. Половинка закрыла верхнюю часть второго.
У подсобных построек рядом с тем пустым сараем, за которым ирреальный Нойон-полуволк придушил одноглазого зверька с крысиной мордой, я еще днем приметил большой кусок ДВП, покоробленный от непогоды. Его должно было хватить еще на один проем…
Темнело стремительно, как в тропиках. Уже и звезды стало видно на густо-синем небосводе, но луна не взошла. Мрак порождал звуки и шорохи, несуществующих при солнечном свете монстров и непрошеную треногу, которая вот-вот должна перерасти в неподконтрольный страх. Я боялся собственного страха. Он умножится сам на себя, он снова заставит меня видеть то, чего нет… он убьет меня на хрен, проникнув в низ живота, выступив предательскими мурашками на загривке, парализовав и позволив моему собственному сознанию до костей обглодать мое собственное тело… Больное воображение опасно для жизни.
Видел я все лучше и в том же, что накануне, инфракрасном диапазоне. Предметы приобрели красноватый оттенок. Даже черепа и кости животных под ногами в прошлогодней траве.
И ужас крался по пятам, когда я отправился за листом ДВП к сараю. И кричала какая-то ночная птица голосом серийного убийцы… Откуда мне знать, какой у него голос?.. Вот такой же…
И за каждым темным углом поджидал меня сожженный Буратино с окровавленным топором. И мир снова состоял из одних только темных углов…
Я подхватил кусок ДВП и бегом вернулся к дому. Прибил. Оставшиеся полтора проема закрыть было нечем. Я вспомнил, что Григорий Сергеев в первый еще день привез большую сумку. Сказал, что с тряпьем.
Я зашел в дом, по привычке светя газовой зажигалкой, отыскал сумку и вывалил ее содержимое на пол. Гриша мне подарок сделал, честное слово. Среди мятых покрывал, скатертей и ситцевых занавесок в цветочек я обнаружил целую стеариновую свечу. Сразу зажег и поставил на стол в баночку из-под кильки в томате, что давно сделалась пепельницей. Предварительно, конечно, опорожнив ее в топку печи.
Стало светло и уютно. Я повеселел даже.
Осмотрел покрывала, выбрал пару поплотнее и забил тканью полтора оставшихся проема. Вернулся в дом и закрыл за собой дверь. Запереться изнутри не получалось. Стальные скобы под широкую деревянную задвижку остались, но самой ее не было. Вырубить ее из доски не проблема, но сначала – растопка печи. Остыло все давным-давно, я ее с обеда не топил.
Через пять минут дым снова заполнил комнату, и я устроился с сигаретой на ступенях крыльца у распахнутой двери. Достал бесполезный мобильник. Он выдал информацию, что заряд батареи полностью исчерпан, и экран окончательно погас. Старая модель. Лет пять, как приобрел. Давно пора сменить, у новых и аккумуляторы объемней. Но на день всегда хватало, а на ночь ставил на подзарядку. Вчера и не вспомнил об этом, да и вернулся много позже одиннадцати, когда электричества в помине не было. Впрочем, какая разница? Мобильник в этой глуши бесполезен. У Поля Диарена и Жоан Каро – спутниковые телефоны для связи с цивилизованным миром…
И вдруг мой отключившийся, безнадежно разряженный мобильник зазвонил у меня в руках. Я чуть его не выронил, смотрел с ужасом, как на призрак отца Гамлета, возникший из выгребной ямы деревенского сортира в Восточной Сибири. Что за черт? Все законы физики – на хрен. Логики – туда же.
Экран мобильника был черен как ночь. Я не знал, кто мне звонит, знал одно – дозвониться до меня невозможно по двум причинам: отсутствие связи и разрядка аккумулятора.
Нажал кнопку с нарисованной зеленой трубкой и поднес мобильник к уху осторожно, словно тот мог взорваться от резкого движения. Может, и мог…
– Слушаю! – почти прокричал я.
В трубке затрещало в ответ, а потом я услышал женский голос, отдаленный и приглушенный, будто с края света. Или с Того Света? Очень может быть, потому что я узнал голос Катерины, переводчицы, разбившейся вместе со вторым режиссером на Байкальском тракте около недели назад.
– Андрей, здравствуй! Это Катя, переводчица. Помнишь меня?
Да уж, как забыть обезображенное нечеловеческим воплем лицо за стеклом полыхающего автомобиля?
Я промолчал. Сотовый призрак продолжил:
– Андрей, ты, наверно, решил, что тебя оставили ночевать в заброшенном доме? Это не так! Мы уже едем, мы скоро тебя заберем!
– Кто это «мы»? – спросив, я оглянулся на входную дверь.
Печка разогрелась, дым больше не валил из щелей. Сейчас войду, быстро вырублю задвижку… Нет, заколочу дверь изнутри гвоздями на сто двадцать! И хрен кто войдет, живой или мертвый!.. Не прокатит, я вспомнил, что два оконных проема занавешены тряпкой, сорвать которую – раз плюнуть. Значит, всю ночь буду стоять с топором у окон, и пусть только попробуют сунуться!
В мобильнике трещало, будто на раскаленную сковороду с маслом плеснули воду…
В мобильнике выла стая голодных волков, заглушая вопли терзаемых грешников…
В мобильнике духовой оркестр расстроенно играл похоронный марш композитора Мендельсона. Нет, не его, мой, вероятно…
– Кто это «мы»?! – повторил, точнее, проорал я, перекрывая раздолбанную медь, вой и треск.
– Мы – это я и Марко Ленцо, второй режиссер, итальянец. Ты что, его забыл?
– Но вы давно покойники! Вы сгорели заживо в перевернувшейся «тойоте» на Байкальском тракте!
– Ты с ума сошел! А кто же тогда с тобой говорит?
– Не знаю, – ответил я честно.
– Все ясно. Ты работаешь на заброшенной ферме, отдельно от остальных, и поэтому не в курсе. Мы приехали вчера ночью. Произошло недоразумение. Марко Ленцо взял у Поля Диарена неделю, чтобы поснимать туннели Кругобайкальской железной дороги, построенные сто лет назад итальянскими инженерами. Об этом у них была договоренность еще в Париже. А на тракте погибли совсем другие люди. Почему их приняли за нас с Марко, не знаю. В курсе нашей отлучки были и режиссер, и продюсер… На обратной дороге в Хужир я тебе подробно все объясню, на все вопросы отвечу… Давай заканчивать, дорого по роумингу, и денег на счету почти не осталось!
– Когда вас ждать?
– Минут через десять!
Катерина отключилась, а я пялился на свой дохлый телефон и ничего не понимал. Как всегда. То, что она мне рассказала, было похоже на правду. Очень похоже. Как изощренная ложь.
Весь мой жизненный опыт подсказывал, что правда сама на себя похожа не часто. Сознательная, продуманная ложь похожа на правду всегда. Тем паче я сам видел их смерть и, возможно, был ее виновником. Был убийцей? Не знаю. Неделю или чуть больше назад я сам себя сумел убедить, что мой сон и авария на тракте – случайное совпадение. Иначе жить мне нельзя, и пусть будет, что будет…
Решив так и целиком положившись на фатум, я вернулся в дом и деревянную задвижку все-таки вырубил из подготовленного заранее обрезка доски. Вставил ее в стальные скобы, задвинул. Толкнул дверь рукой, потом приложился к ней всем телом – надежно получилось.
Подбросил дров в топку и, положив топор на стол, сел рядом на лавку. Меня затрясло. Я вытянул руку прямо перед собой – она ходуном ходила. Вспомнил, что пакет с едой и бутылкой так и остался у торца дома, со стороны Байкала. Посмотрел в окно – трасса была пустой, ни огонька.
Отбросив задвижку, бегом сгонял за пакетом.
Вернулся. Запер дверь.
Распечатал бутылку и наполовину наполнил трехсотграммовую металлическую кружку.
Выпил не закусывая, как воду, но через минуту руки дрожать перестали. Я вроде и не с похмелья, а действует точно так же.
Закурил. Сидел и ждал гостей с Того Света, без отрыва глядя в окно, выходящее на байкальский берег. Что мне еще оставалось?
Увидев пару огоньков от фар машины, свернувшей с трассы в мою сторону, я одновременно вздрогнул и вздохнул с облегчением. Пусть наконец произойдет то, что должно произойти. Я устал ждать, устал бояться!
В дверь заскреблись, заскулили. Я догадался, что вернулся Нойон-полуволк. Отбросив задвижку, приоткрыл дверь, а он просунул в щель мохнатую голову со сквозным отверстием во лбу.
– Милости просим, Нойон! Где тебя носило, когда тебя не было?
Он вошел, виляя хвостом, и улегся у порога, а я запер дверь и вернулся к окну. Автомобиль приближался. Уже видно было, что это именно фары светят. Уже привычные очертания можно было угадать.
Сколько прошло времени после телефонного разговора, я не знал. Единственные мои часы сдохли вместе с мобильником, но мне показалось, что много больше, чем десять минут.
Плеснул еще полкружки водки. Для храбрости…
Темного цвета внедорожник, заокеанского, кажется, производства, припарковался с южной стороны дома. Туда выходило четыре окна – два забитых фанерой и столько же застекленных. Я приник к угловому.
Водителя сквозь боковые тонированные стекла не разглядел, а передняя дверца распахнулась, и вышла из нее Катерина, переводчица. Без следов ожогов, и совсем на мертвеца непохожая. Может, не врала она мне? Может, правда, недоразумение? Я не знал. Еще не знал, что делать и как себя вести.
А она стояла в свете фар, казалось, для того, чтобы я рассмотрел ее как можно лучше. А посмотреть было на что. Особенно уроду вроде меня, эротоману хренову…
Катерина была без шапки, и темно-русые пряди свободно стекали на черно-бурый воротник кожаной куртки. Она улыбалась. Я оценил ее светлую улыбку, правильные черты лица: чуть припухлые ярко-алые губы, светлые глаза… Все в ней было соразмерно, все как надо, лучше и не представить даже. Вот только нос будто бы стал длинней и массивней, чем раньше. Как клюв какой-то экзотической птицы. Попугая? Впрочем, показалось, наверно. Тени и полутени при свете автомобильных фар исказили ее идеальные черты.
Пес тоже заинтересовался. Подошел к окну и поставил передние лапы на подоконник. В отличие от меня, зрелище произвело на Нойона обратное впечатление. Он утробно заворчал, даже шерсть приподнялась на загривке.
– Ты чего, Нойон? Что тебя пугает?
Он взглянул на меня, вильнул хвостом, снова повернул голову к окну и негромко зарычал.
А Катерина, вероятно, видела наши настороженные физиономии в освещенном свечой проеме. Она взмахнула рукой.
– Андрей, почему не встречаешь? Или боишься? Посмотри, разве я похожа на обгоревший труп? – И повела плечами, и прошла пару шагов грациозно, как на подиуме…
Ну что я, право, совсем с ума сошел? Вот же она стоит, живая женщина, молодая и красивая. Я теперь верю в любую чушь, а собственным глазам – нет. Лечиться надо!
Я подошел к дверям, сопровождаемый собачьим рычанием. Плевать! Нойон, он мертвый, Катя – живая!
Я отбросил в сторону задвижку, распахнул дверь, и она вошла.
– У тебя тепло. И окна забил. Ночевать здесь собрался?
– Никто же за мной не приехал.
– Обижаешь. А я?
– Ты… Тебя я не ждал.
Она сбросила кожаную куртку и осталась, как в первую нашу встречу в Музее декабристов, в чем-то облегающем, и я снова не видел, в чем конкретно. Все всегда повторяется, повторилось и на этот раз.
Я снова не видел трикотажа.
Я мысленно сорвал его к черту.
Я видел миниатюрную рельефную фигурку с умопомрачительно высокой грудью.
Я охренел окончательно.
Я пялился на девушку и ничего не мог поделать с глазами, которые, стоило их отвести в сторону, возвращались, как привязанные, к вожделенному объекту…
Нойон вдруг залаял, прыгая вокруг Катерины, но укусить не решался.
– А это кто у нас такой злой? – засюсюкала она. Так женщины часто говорят с детьми и животными. С такой же интонацией девочки общаются с куклами, укладывая их в кукольную кроватку… И вдруг другим голосом, резким, повелительным, грубоватым даже: – А ну-ка, на место, Нойон!
И он подчинился – поджав хвост, заскулил и забился в угол. Но Катя была безжалостна и неумолима:
– Место собаки на улице! – Распахнула дверь. – Иди, гуляй!
Нойон выскочил как ошпаренный, залаял у запертых дверей. Что это с ним?
– Вот дурачок… – Катерина снова сменила интонацию, засюсюкала.
– Откуда ты знаешь его имя?
– Мне уже рассказали, как Поль Диарен стрелял в собаку. Я рада, что Нойон остался жив и ты его подобрал, Андрей.
Как же, жив… А может, и правда так и было? Мне хотелось ей верить. Мне просто ее хотелось… Урод. Там, за рулем внедорожника, итальянец, ее возлюбленный. Куда я-то лезу?
За окнами истошно лаял Нойон. Бегал как ненормальный вокруг дома и лаял…
Я сошел с ума, и девушка, конечно же, это заметила, не могла не заметить. Она улыбалась, довольная… И плевать мне было на то, что за рулем внедорожника – Марко Ленцо!
Я забыл также и всех других женщин. Их попросту не существовало!
Мне хотелось прикоснуться к телу Катерины, прижаться, впиться в ярко-красные, словно кровавые, губы. Мне хотелось… Ладно, размечтался, урод. Хотя бы коснуться, будто случайно, тонкокостной руки с нервными пальцами, удлиненными того же оттенка ярко-красным маникюром острых коготков. Мне хотелось быть подле нее – всегда, везде, и ныне, и присно. И пусть делает со мной, что хочет, я согласен быть слугой и рабом! Пусть издевается, унижает, пусть бьет, кусает, царапает когтями, оставляя на теле кровавые параллельные борозды… пусть, в конце концов, сожрет меня вместе с потрохами – все, что угодно, лишь бы прикасалась, лишь бы…
А нос и правда больше, чем обычно. Впрочем, от колеблющегося пламени свечи шастали по комнате удлиненные, уродливые тени. Но только мои. Катя тень не отбрасывала. Я обратил на это внимание, но значения не придал.
А она, она… Пуговки расстегивались одна за другой…
– Я сама вожу машину, Андрей. Я приехала одна. Разве нам еще кто-то нужен? А Марко… Он холодный, как труп. Я никогда его не любила. Я всегда любила тебя. С первой нашей встречи в музее. Ты так смотрел… Ты и теперь так смотришь…
Да, я смотрел и видел, как трикотажное нечто, которое я и заметить не пожелал, полетело в угол, а лифчика под ним не оказалось. И правильно. На кой он, если ничего поддерживать было вовсе не нужно? Тяжелая грудь с крупными темно-коричневыми сосками не нуждалась в подпорках…
Светлые джинсы, казалось, расстегнулись самостоятельно и упали на пол. Катерина, перешагнув, вышла из них, как из морской пены. Прозрачные трусики, не скрывающие черноты лона, – вот все, что на ней осталось…
– Что ты стоишь как истукан? Иди же ко мне. Иди скорей!
Она призывно протянула руки, и я, как на ходулях, пошел… пошел… Она была на другом конце света. Я шел долго-долго…
И Нойон уже не лаял, хрипел. Хрипел и бился всем телом в запертую дверь.
И кричала какая-то ночная птица голосом убийцы-маньяка.
И волки выли.
И печь потрескивала.
И пламя свечи дрожало, и все вокруг отбрасывало деформированные тени. Все, кроме Катерины. Но разве это имело значение? Она была хороша. Божественно хороша…
– Ты – мой! Ты же об этом мечтал, правда? Твоя душа, твое тело, твоя горячая кровь – все станет частью меня, Андрей! Любимый!
И ее ярко-красные губы сделались подобием клюва, и ее нос удлинился, а глаза запали, будто провалились внутрь. И это было красиво. Это было божественно…
И она, желанная до умопомешательства, обняла меня, и длинные рубиновые ногти вошли мне под лопатки, и струйки крови побежали по спине, и я застонал от нестерпимого наслаждения…
И она вонзила свои губы, свой острый клюв мне под подбородок в шею, и блаженная судорога прошла по телу, и кровь залила мою грудь, и она жадно пила ее и пила…
– Делай со мной, что хочешь… я – твой…
– Да, ты – мой, – согласилась она, и окровавленный клюв ударил в висок.
Я не мог сопротивляться. Не хотел. Это было наслаждение, описать которое никому не по силам…
И она провела ногтями по спине сверху вниз, оставляя глубокие борозды…
– О, любовь моя… боль – наслаждение… я люблю тебя больше жизни… бери ее…
Я не знаю, говорил ли я это вслух. Сознание отсутствовало. А когда клюв Катерины ударил меня в темя, я потерял его уже буквально…
Последнее, что я помнил, – птичья голова с перьями вместо волос и острым орлиным клювом над собой, лежащим навзничь на полу. Потом голова пропала, и я мельком увидел лицо черноволосой молодой женщины. Оно показалось мне знакомым…
И еще – Нойон-полуволк, скуля, вылизывающий мне лицо, зализывающий раны…
А потом я потерял сознание или заснул, не знаю.








