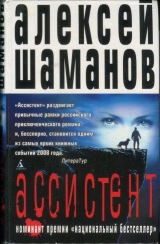
Текст книги "Ассистент"
Автор книги: Алексей Шаманов
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА 6
И. о. ассистента
В половине третьего, когда я уже домой уходить собирался, пришел наконец Григорий Сергеев. Среднего роста, приземистый, лысоватый, с грубоватым, но симпатичным лицом, едва меня замечая, пожал руку и прошел по инерции за мной на кухню. Увидел глиняную голову.
– Как?! – вскрикнул, будто обжегся. – Зачем он слепил раньше времени? Вот же, я фотографию принес!
Григорий положил на чистую теперь столешницу глянцевое фото. Сел рядом, стал сличать: то туда посмотрит, то сюда. Так раз пять, не меньше. И лицом просветлел вдруг, заулыбался.
– Как?.. – спросил непонятно кого. – Как он умудрился без фотографии?
Потом Сергеев обратил-таки на меня внимание.
– Посмотри, Андрей, – протянул фотку. – Похоже?
Я взглянул. Похоже – не то слово, потому что лицо на фотографии было идентично лицу глиняной скульптуры. Абсолютно идентично.
– Кикин, наверно, этого бурята видел, – предположил я.
– Вряд ли, – не согласился Сергеев. – Он, правда, местный актер, но на роль его всего два дня назад утвердили, поздно вечером, а сам он только вчера узнал.
Я ничего не понимал, Сергеев тоже. Вероятность того, что Кикин лепил усредненного человека, а попал в конкретного, близка к нулю. Да какое там, близка! Она и есть полный нуль! Это то же, что, вскапывая землю на дачном участке, найти чугунок с золотыми римскими монетами времен императора Тиберия. Впрочем, так клады и находят. Но чтобы именно времен императора Тиберия…
– Ничего не понимаю.
– Аналогично.
– А где, кстати, Борька? – Сергеев повеселел вдруг. – Что гадать? Сейчас его и спросим, пусть расскажет, как он умудрился сделать портрет, не видя натуры.
– Он в комнате спит.
Я понимал, что сейчас прольется чья-то кровь, как бы под запарку и мне не досталось… сейчас… сейчас…
Григорий насторожился. Были бы у него уши, как у овчарки, точно бы поднял. Таких собачьих ушей у Григория не было, клыков, к счастью, тоже, зато были полупудовые кулаки, что молоты. В своем без малого шестидесятилетием возрасте Григорий оставался крепким мужиком. Крепким и по пьянке вспыльчивым. Сейчас он не просто трезв, как стекло, сейчас он – ярый поборник трезвости, а пьяниц, всех без разбора, ненавидит, считает их отбросами, недостойными жить. Когда Григорий запивает сам, все наоборот… Вот две какие разные личности поселились в одном-единственном теле. Интересно, может, у него и души две? Или даже – три?
– Чего это Боря днем завалился? – Григорий взглянул на часы. – Половина третьего. – Но тут же сам себя и успокоил: – Ночью, наверно, лепил, не спал…
Я промолчал. Пусть сам смотрит. Хотя, может, за три часа Борис оклемался? В это верилось с трудом, уж больно он был тяжелый…
Григорий пошел в комнату, я поплелся следом, размышляя, что на работу теперь он вряд ли меня возьмет… хотя я еще и разговора об этом не заводил.
Надо было что-то предпринять, обезопасить себя заранее. Григорий увидит сейчас невменяемого Кикина, а кроме меня, в квартире никого нет. На вопрос, кто его напоил, ответ однозначный.
– Гриша. – Я коснулся его плеча.
Он остановился, развернулся.
– Что, Андрей?
– Я здесь ни при чем. Я когда пришел, он уже был готовый.
Сергеев усмехнулся.
– Я понимаю, что ты ни при чем. Ты бы не смог. Ты, Андрей, не обижайся, – он хлопнул меня по плечу, – но у тебя уровень не тот. Это Борька сам. Он, зараза, мастер.
До меня дошло, что не дошло до Сергеева. Слово «готов» он приложил к глиняной скульптуре, а не к нулевому состоянию Бориса.
– Ты не понял, я не про голову. Я в одиннадцать утра пришел, дверь не заперта, голова готова, а Борька пьяный спит.
– Пьяный? – переспросил Сергеев, зверея на глазах.
Не дожидаясь ответа, он резко развернулся и направился в комнату.
– Я здесь ни при чем! – крикнул я вдогонку. – Я вообще не пью! Бросил!
Нехорошо, конечно, врать, но жизнь, блин, такая, приходится…
Когда я нарочито неспешно вошел, хмурый Борис сидел на краешке дивана, а злобный Григорий мерил комнату шагами. На удивление, первый проспался и протрезвел, второй не дрался, а лишь бросал убийственные взгляды на первого. И все это в полной тишине.
Видок у Бориса был еще тот. В обычном своем состоянии он выглядит вполне по-европейски, но в похмельном бурятская половина одерживает безоговорочную победу. Голова округляется, глаза западают, щеки опухают – чистый бурят без всяких там декадентских полутонов. Причем бурят всегда очень печальный, особенно когда похмелиться нечем. В последнее время Боря Кикин ведет все более и более бурятский образ жизни…
Мои этнические размышления прервал глуховатый голос Гриши Сергеева. Что приятно, спокойный голос. Ничью морду он явно бить не собирался. И на том спасибо.
– Борис, о чем мы с тобой договаривались, когда я давал тебе заказ?
Кикин пожал плечами, но Сергеев и не ждал ответа. Он хотел монолога.
– Я напомню, если ты забыл. Ты обещал не пить до вечера, до первой звезды. И не напиваться до соплей ты тоже обещал.
Что-то интересное Боря отыскал на грязном полу, потому что смотрел вниз в одну точку. Молча.
– А если ты напьешься в рабочее время, мы договорились, что я заберу у тебя все деньги и отдам только перед отъездом на Ольхон. Это если ты выполнишь заказ качественно и в срок, конечно.
Борис встал с дивана и полез в карман, вероятно намереваясь выполнить условия договора.
– Подожди, – остановил его Григорий. – С кем напился-то?
По интонации последнего вопроса я понял, что гроза миновала. Борис тоже это понял, поднял глаза.
– Стас рано утром приходил, водки пять бутылок принес.
– Пять?! – с ужасом переспросил Сергеев. – А сколько выпили?
– Не помню.
– Где бутылки?
– Тоже не помню, убрал куда-то. На кухне они.
Сергеев повернулся ко мне:
– Андрей, иди поищи, посмотри, сколько осталось.
Я не сдвинулся с места.
– Четыре осталось. Я их уже видел, когда на кухне прибирал. В шкафчике под мойкой они стоят.
Сергеев смачно выругался по-матери и добавил по-русски:
– Сволочь Стас, – снова повернулся к Борису: – Голову ты лепил?
– Какую голову?
– Голову шамана.
– Ничего я не лепил… Как бы я ее слепил, если ты фотографию только сегодня должен принести? Принес?
Сергеев не ответил, взглянул на меня.
– Ты что-нибудь понимаешь?
– Пьяный лепил, наверно, – предположил я, – а потом заспал и забыл.
– Не похоже, что пьяный, – возразил Григорий. – Хорошая работа, по пьяни так не сделать.
– Тебе не сделать, а у Борьки, может, самая работа в беспамятстве.
– Вы о чем? – вмешался Кикин. Он явно ничего не понимал, как и мы все, впрочем.
– Пошли, – сказал Сергеев, и мы один за другим, гуськом отправились за командиром.
Голова мертвого бурятского шамана, просыхая на сквозняке, терпеливо дожидалась нас на кухонном столе, от нечего делать рассматривая фотографию бурятского актера. Даже глаза скосила влево и вниз. Так мне показалось.
Боря смотрел на нее, как на привидение, а мы смотрели на Борю, и кто из нас был больше удивлен, не могу даже предположить. Пауза затянулась на минуту, не меньше.
– Твоя работа? – спросил наконец Григорий.
– Не знаю, – честно признался Борис. – По манере исполнения вроде моя, но как и когда я ее лепил, не помню… Может, это Стас сработал, пока я спал?
– Стас, даже если из штанов выпрыгнет, такое не слепит, – хмуро констатировал Григорий. Было заметно, что загадки всякие очень его раздражали. А кого нет? Никому они не нравились. Это в кино интересно, а в жизни, боже упаси…
Боря замечание художника-постановщика пропустил мимо ушей, продолжал о своем:
– Но даже если это сделал Стас, то как он мог без фотографии?
– Вот она, кстати, посмотри, – сказал Григорий, двигая карточку по столу.
Кикин взял ее и уставился, как на второе привидение, еще более ужасное, нежели первое. Долго смотрел, сличал, а потом отбросил фото от себя, как нечто мерзкое, и произнес решительно:
– Я ничего не понимаю, но этого не может быть!
Он прав, конечно, не может, однако руки, одежда и даже лицо Бориса были обильно вымазаны уже подсохшей желтой глиной. Значит, лепил именно он. Лепил и пил в одиночку по-черному, а когда допился, не помыв рук, рухнул на диван.
Все встало на свои места. Кроме головы, конечно. Она хоть и стояла на столе, неулыбчивая, строгая, как посмертная маска, но ее не должно было быть, а значит, и не было. Для меня, по крайней мере.
– Ты на руки-то свои посмотри, – предложил я Борису.
Тот посмотрел, Григорий тоже. Выводы сделали оба.
– С головой разобрались, – констатировал Григорий и добавил с легкой завистью: – Ну, ты, брат, даешь. Я бы неделю лепил, и еще неизвестно, что бы вышло. А ты – влет, да еще на автопилоте… Ты, Боря, гений… если б еще пить бросил…
Сергеев посмотрел на часы, озаботился лицом.
– Ладно, времени мало… Как у тебя с бурханом?
– Начал только, – ответил Борис, – пошли, покажу.
Мы прошли в комнату-мастерскую, и я снова почувствовал ту же нестерпимую энергетику, исходящую от неначатого бревна, а Сергеев, если что и почувствовал, значения не придал. Уставился на чурку начатую, хмыкнул.
– Глаза не те. Будто у истуканов с острова Пасхи глаза. Не тот остров, Борис, для Ольхона надо рубить.
Тот засуетился.
– Так не закончено еще, Гриша. Я исправлю, и глаза будут, как надо.
– Картинку не потерял?
– Да вот же она, на подоконнике.
Я взял в руки вырезанную иллюстрацию из какого-то глянцевого журнала или альбома. На диком, байкальском, вероятно, берегу стоял столб с лицом, злобным, клыкастым. На его лбу были вырезаны человеческие черепа, я насчитал семь. Под ними – третий глаз. Симпатичное создание… И глаза были вроде такие же, навыкате, а все равно не те. Тут Гриша был прав. Не знаю, в чем состояла разница, но она была.
Григорий бесцеремонно вырвал из моих рук картинку и потряс ею перед носом Бориса.
– Вот так надо, Боря! Только так, это важно!
– Да понял я. Ты, Гриша, успокойся, сделаю глаза в лучшем виде.
– Где ты потерял третий глаз? – спросил я.
– И третий будет…
– Какой третий? – удивился Григорий. – Откуда?
– Ну, вот же! – ткнул я пальцем в глянец иллюстрации.
Они посмотрели. Переглянулись. Потом уставились на меня в четыре глаза. Хорошо хоть, пальцем у виска никто не покрутил. Но Григорий сунул вырезку мне под нос:
– Где ты увидел третий глаз?
Я увидел, но промолчал. Во-первых, я понимал, что не в моих силах убедить их в собственной слепоте. Или это я излишне зряч?.. А во-вторых, знал – сколько глаз будет у этой конкретной скульптуры, не имеет никакого значения. Мои зрение и знание изрядно меня напугали.
Я не ответил, и пауза затянулась до неприличия. Спас положение Боря Кикин.
– Да бросьте вы! – сказал он. – Сделаю все в лучшем виде! Если я уж по пьянке голову слепил…
Он не закончил фразы, но было и так все понятно.
– Кстати, водку я забираю, потом отдам, – сказал Григорий, возвращая иллюстрацию на подоконник. – Ты же, Боря, работать не сможешь, пока она тут стоит.
Мы вернулись на кухню, и мазохист Кикин сам достал убойную свою заначку. Выглядел он при этом печальным.
– Но похмелить тебя все равно надо, иначе какой из тебя работник? – приободрил его Григорий, убирая в сумку три бутылки и оставляя на стеле одну. – Ты голову пока не трогай, пусть сохнет. Истуканом занимайся.
– Понял, – согласился лучезарный теперь Бориска. Много ли надо алкоголику для счастья?
Григорий распечатал бутылку, взглянул на меня:
– Ты как? Уже вроде не утро, три часа.
– Не пью, и не тянет! – отрезал я.
– Как хочешь, – равнодушно сказал Григорий и налил в два цивильных стакана, отмытых мной до хрустальной прозрачности.
Выпить мне вообще-то хотелось, но еще больше хотелось попасть в съемочную группу и заработать немного долларов. Тысячи две-три меня бы устроило. И еще я понял, что Кикин о нашей договоренности не вспомнит. Если я сам о себе не позабочусь, не заведу разговор с Сергеевым, работа мне не светит.
Григорий поднял стакан, другой рукой погладил гладкий глиняный затылок бурятского шамана.
– Молодец, Боря, хорошая голова. Завтра с утра гипсовать начинай.
Кикин тоже потрогал желтый затылок.
– Сыровата еще… но ближе к вечеру уже можно.
– Думаешь?
– По сырому нельзя, а по чуть влажному даже лучше.
– Ну, смотри, тебе видней.
Они выпили, и Сергеев засобирался. Как бы мне не опоздать на поезд, отходящий на Ольхон… Хотя какой, к черту, поезд? Там летом – паромная переправа, а сейчас зимник, прямо по льду Байкала…
– Гриша, а для меня какая-нибудь работа найдется? Я сейчас свободен, да и интересно мне на съемки фильма посмотреть. Ни разу не присутствовал.
Григорий ненадолго задумался, но, вероятно, ничего не решив, отвечал уклончиво:
– Люди-то мне нужны… Я про тебя, Андрей, сразу подумал, но Стас, мой ассистент, сказал, что ты бухаешь уже две недели. Я и не стал тебе звонить.
– Ложь! – воскликнул я, возмущенный до предела. – Во-первых, я запоем не пью, а во-вторых, мы со Стасом этим незнакомы были даже. Я вчера его впервые увидел. Гонит он, козел!
– Ты ему так не скажи. – Григорий нехорошо усмехнулся. – И вообще, держись от него подальше, дольше проживешь…
Он снова задумался, и рука его автоматически разлила водку теперь уже в три стакана. Боря подсуетился и поставил на стол еще один, заговорщически мне подмигнув.
– Ты, Григорий, в Андрюхе не сомневайся! Руки у него золотые, и сам он парень надежный. Бери в команду! Мне он тоже нужен, хочу его на улицу и в музей помощником взять.
– Ладно, – согласился Григорий, – бери, пусть работает.
– А на Ольхон? – не унимался я. – На Ольхон меня, Гриша, возьмешь?
Но Григорий не ответил – пил, не дожидаясь нас. Как бы ему в загул не войти не вовремя… Он выпил и выдохнул:
– Ох и достали меня французы, сил никаких нет…
Мы с Борей тоже выпили, а Григорий, похоже, и не заметил, что я, только что провозгласивший трезвость, накатил полстакана.
Чем же, интересно, французы его так достали?.. Но я решил не отвлекаться по пустякам, потом сам расскажет. Я решил ковать, пока горячо, – повторил вопрос про Ольхон.
– Посмотрим, – ответил Сергеев. – Ольхон никуда не убежит, он не собачка.
А вот и неправда, точнее, не вся правда. Знавал я и собаку с такой кличкой. Здоровенная, злая восточноевропейская овчарка из милицейского питомника.
Григорий пошел, я думал, к выходу, а он снял телефонную трубку в прихожей.
– Боря, гудка нет! Не работает, что ли?
– Оплатить все забываю.
Григорий вернулся на кухню.
– Деньги давай.
Борис выгреб деньги из карманов и сложил на столе. Григорий мелочь отодвинул в сторону, а бумажные банкноты пересчитал.
– Сейчас по дороге я зайду на телефонную станцию и оплачу телефон. Будь на связи. Вечером приду, принесу пожрать, курева и бутылку. – Добавил подчеркнуто: – Одну! Все понял?
Боря кивнул, а Григорий достал мобильник и нажал кнопку вызова. Через несколько секунд я услышал, как что-то бормочет в микрофоне бесцветный голос автоответчика. Григорий отключился, сказал в пространство:
– Недоступен Стас, – повернулся к Борису: – У тебя есть его домашний номер или номер мастерской?
– Сейчас посмотрю, оставлял, кажется.
Борис вышел и через минуту вернулся с листком бумаги, помятым, словно жеваным. Григорий расправил лист.
– Так… это сотовый, недоступный… а, вот!
Набрал номер. Я стоял рядом, слышал длинные гудки.
– Теперь – домой.
Но и эта попытка не увенчалась ничем. Григорий злился, почти шепотом он произнес нараспев два слова:
– Ас-сис-тент хре-нов… – и повернулся ко мне: – Ну что, Андрей, начинаешь работать?
– Как скажешь, начальник.
– Тогда так, Боря остается дома, рубит Бурхана, а вечером делает гипсовые слепки с глиняной головы Приду, проверю. А ты будешь временно исполняющим обязанности ассистента, пойдешь со мной сначала в музей, потом улицу смотреть. Я позвоню, и режиссер с оператором приедут. А в музее… – Он взглянул на часы и выругался. Мы должны быть через десять минут. Придется тачку брать, иначе опоздаем…
Руки его снова жили отдельной жизнью – пока Григорий раздумывал, руки наполняли стаканы. И правда в нем два человека. Стоило трезвеннику отвлечься, пьяница уже наливал… А может, все-таки три? И этот третий, свидетель соперничества двух первых, но не судия, и есть настоящий Григорий Сергеев – без краденых эмоций и заимствованных чувств, без суеты сует Срединного мира.
– Ну что, мужики, на посошок – и за работу! – предложила запойная ипостась Сергеева.
И тут я не отказался, как вчера в мастерской Стаса. Хотя там подавали выдержанный коньяк, а здесь – не самую лучшую водку… Ой, вру! Водка плохой не бывает Она бывает хорошей и очень хорошей. Даже не так. Водка просто бывает или не бывает. И все.
ГЛАВА 7
Экзотическое эхо
Быстрым шагом по улице Князя Волконского мы с Григорием Сергеевым добрались до места и, почти и не опоздав, подошли к двухэтажному деревянному особняку декабриста князя Трубецкого.
А они неплохо здесь устроились, все эти опальные аристократы, избежавшие демократической петли, узники совести первой половины девятнадцатого века. Они, говорившие на французском лучше, нежели на родном, ради виртуальной свободы России пожертвовали всем – положением в свете, возможностью видеться с друзьями и родными, прогуливаться по Невскому проспекту и плести заговоры за бокалом «Вдовы Клико». Все, конечно, относительно. Их современники – сибирский казак или вольный пахарь, вероятно, с вожделением смотрели на просторные, богатые хоромы. Что неизбежно – кому суп жидок, кому жемчуг мелок. Се ля ви. Декабристы лишились того, о чем казак имел весьма смутное представление, а землепашец не имел вовсе. Но даже то, что у господ осталось, вызывало жгучую зависть и того и другого. Господа и в изгнании, в дикой Сибири остались господами. Аминь.
После Октябрьского переворота княжеский особняк отошел рабоче-крестьянскому жилфонду. Помещения разбили перегородками на множества тесных клетушек. Даже в подвале были коммунальные квартиры, точнее, комнаты. Там, где проживала одна семья, теперь ютились десятки.
В 1975 году, как это было принято в Советском Союзе, к 150-летию восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, решением Политбюро ЦК КПСС по всей Сибири в местах ссылок были созданы дома-музеи первых русских революционеров. Жильцы, расселенные в благоустроенные хрущобы, должны быть благодарны Ульянову-Ленину, как-то написавшему, вероятно, в Разливе, что «декабристы разбудили Герцена». Кабы не послужили они будильником, их дома за ветхостью уже бы снесли или оставались они до сих пор коммунальными квартирами и складскими помещениями…
У деревянной, под старину, ограды дома-музея мы увидели припаркованную «тойоту» с иркутским номером, а рядом мужчину лет под сорок и приятной наружности миниатюрную девицу. Они улыбались и смотрели друг на друга с вожделением. Они ворковали, как голубки. Со слов Сергеева я понял, что это и есть второй режиссер-итальянец и переводчица-москвичка. Сплошные иноземцы.
Догадаться-то я догадался, но уточнил:
– Гриш, это они?
– Они, – ответил хмуро художник-постановщик, – будь они неладны. Я подозреваю, что Катерина, это переводчица, переводит совсем не то, что я иностранцам говорю.
– Как так?
– А вот так, – отрезал Сергеев и, выдавив из себя улыбку, шел уже с протянутой рукой к кинематографической парочке. Сладкой, судя по их взглядам.
Мы пожали друг другу руки, и Григорий представил меня как второго ассистента художника. В ответ режиссер назвал свое имя Марко Ленцо. Высокий, нескладный, чуть сутулящийся, в немодных круглых очках, он производил впечатление студента Сорбонны, судя по возрасту, вероятно, вечного.
Хотя имя перевода не требовало, Катерина все же перевела его.
– Марко Ленцо, – повторила она приятным чувственным голосом с легкой хрипотцой и добавила: – Второй режиссер.
Уточнение это было сделано для меня одного. Итальянец ничего не говорил, кроме имени, а Сергеев и без того знал его профессию и должность.
Я это оценил и улыбнулся, Катерина улыбнулась мне в ответ. И тогда я оценил ее светлую улыбку и правильные черты лица: чуть припухлые ярко-алые губы, глаза, словно голубые омуты, утонуть в них – раз плюнуть. Все соразмерно, все как надо, лучше и не представить даже… Еще она увидела во мне мужчину, я это ощущал совершенно явственно. И не было в ней пресловутых столичных гонора и спеси. А если и были, то мне стало теперь все равно, я не хотел их замечать и не замечал. Она представилась:
– Катерина, можно Катя, переводчица с французского и итальянского, – и протянула мне руку.
Я не стал ее вульгарно, по-мужицки пожимать. Я поцеловал ее руку, красивую, узкую, с длинными тонкими пальцами. Она улыбнулась снова… о господи, прости мою душу грешную… Где была она и где я? Действительно, где?
Мы стояли в луже на скользком, полурастаявшем насте тротуара. Катерина была без шапки, и темно-русые пряди свободно стекали на черно-бурый воротник кожаной куртки. Низ бежевых джинсов и светлые сапожки с удлиненными носами были чуть забрызганы придорожной грязью. Что меня порадовало. Ходит она все-таки по земле, а не витает в заоблачной выси, и, значит, есть у меня шанс.
Шанса у меня не было. Катерина повернулась к итальянцу, что-то сказала и одарила его настолько лучезарной улыбкой, что я это понял и глядел теперь на иностранца с нескрываемой неприязнью. Он, впрочем, этого не заметил. Он вообще меня не замечал. Дело тут не в национальной принадлежности, а в профессиональной. Второй ассистент художника-постановщика для режиссера, пусть и тоже второго, попросту не существовал. Как личность, по крайней мере. Я существовал для него как некая функция – съемочная площадка должна быть готова к съемкам, а кто и как это сделал, ему не важно. Не было в этом ничего обидного, я и не обиделся, принял к сведению.
Марко Ленцо не требующим перевода жестом постучал по наручным часам, и мы, минуя скрипучую калитку, вошли в обширный двор дома-музея. Сразу налево три ступеньки вели на крытое крыльцо особняка, справа и прямо располагалось несколько одноэтажных деревянных подсобных построек. Все, кроме самого дома, новодел. Вероятно, совсем недавно реставраторы восстановили облик двора времен декабристской ссылки.
На крыльце нас уже ждал директор музея Михаил Орестович Овсянников в строгом черном костюме и белой сорочке с галстуком-бабочкой. Был он среднего роста и возраста, румяный, с улыбкой восторженного подростка и легким брюшком мелкого буржуа. Я немного знал его, но знакомство наше не шло дальше рукопожатий и сердечных, ничего не значащих улыбок при случайных встречах. Я неоднократно работал с экспозициями и на таком уровне знал большинство музейных теток. Да и Миша был в своем роде тоже тетка, ходили такие слухи в городе… ладно, не мое это дело, тем более, сам не проверял, боже упаси, и свечку у его кровати держать не довелось, тьфу-тьфу-тьфу…
– Наконец-то! Я уж подумал, вы не приедете! Думал, планы поменялись!
Директор засеменил по ступенькам, вытянув перед собой руку для рукопожатия, будто собирался ладонью проткнуть насквозь идущего впереди итальянца.
– Здравствуйте, здравствуйте! Милости просим, дорогие гости! Меня зовут Михаил Орестович Овсянников! Редкое отчество, правда?! Исконное иркутское! Овсянниковы – известная купеческая династия, мелькает в местных летописях, начиная с конца восемнадцатого века!
Он сиял и восклицал. Он всегда сиял и восклицал. Я даже не мог его представить без ослепительной улыбки и поросячьего восторга. Зубы, впрочем, у него были отменные – белые, ровные… интересно, свои или вставные? Уж слишком они были белые и ровные… Да и дикция тоже была отменной, и музыкальный слух. Он декламировал стихи и пел романсы на разнообразных «Декабристских встречах», которые часто проводил в музее, и не только в декабре, круглый год. К счастью, с крыльца он не пел и не декламировал. Зато выдавал информацию скороговоркой. Катерина не успевала переводить, впрочем, тараторила, как сорока, старалась. И мне показалось вдруг, что мы в гулкой какой-то пещере с экзотическим эхом, говорящим на иностранном языке.
– С чего предполагаете начать? С комнаты или конюшни? Сразу предупреждаю, конюшня не музейная, частная. Я взял ключи, можете посмотреть, но договариваться об аренде с хозяином будете сами. Он здесь, пять минут назад я его видел.
– С конюшни и начнем, – решил Григорий Сергеев единолично.
Режиссеру Катя не успела еще даже перевести. А когда перевела, он интенсивно закивал и повторил, коверкая русские слова:
– Та-та, конь-юшнь-я!
Чем чрезвычайно порадовал Овсянникова.
– Вы говорите на русском языке?! – воскликнул он, взмахнув руками. – На великом и могучем?!
– Он не говорит по-русски, – успокоила Катерина директора музея, – иногда по-русски он повторяет. – И добавила чуть презрительно: – Как попугай.
Чем чрезвычайно порадовала меня. Может, есть все ж таки у меня шанс? Хоть, блин, малюсенький?
А Григорий уже направился решительно к частной конюшне, мы последовали за ним, а Михаил Орестович с ключом в вытянутой руке забежал вперед, подпрыгивая, словно мячик.
Одноэтажное здание конюшни находилось напротив крыльца, а вход в него – с обратной стороны. Овсянников вставил ключ в замочную скважину и без проблем открыл большой навесной замок, затем, с усилием, – скрипучую створку ворот. Все сгрудились в дверном проеме. Григорий, тут, вероятно, уже бывавший, сделал шаг вперед и щелкнул выключателем. Загорелась тусклая желтая лампочка под самым потолком и осветила…
– Бардак, – сказал итальянец французское слово совершенно к месту.
Катя переводить не стала. Этого и не требовалось. Помещение, разбитое деревянными, по грудь высотой, перегородками на два загона, забито черт-те чем до предела. Была тут стопка листов ДСП у стены, распечатанный, но почти полный ящик оконного стекла, всевозможные прибамбасы для верховой езды – десяток барьеров, домики игрушечные, как для детской площадки, по стенам на гвоздях висела сбруя, в углу стояла крестьянского вида телега, в соседнем углу, до потолка высотой, копна пахучего сена, а в промежутках – множество какого-то хлама неизвестного мне назначения.
– Бардак на итальянском тоже беспорядок? – спросил я Катю негромко.
– И еще бордель, – ответила она.
Опять заимствованное французское слово. Сколько же их в нашем родном – великом и могучем?
Я усмехнулся. Второе значение подходило не очень. Совсем не подходило.
Марко Ленцо заговорил. Катя перевела:
– Это все надо убрать. Вернуть помещению вид конюшни, а не свалки. Оставить конскую сбрую, но ее мало, принести еще. Карету поставить у ворот. Ее, может быть, мы снимем отдельно, фоном на подъезде героя. Послезавтра ранним утром съемка улицы, конюшни и гостиницы – на следующий день. Надо спешить. Все.
Переводчица смолкла. Мы с Григорием переглянулись. Режиссеру-то все, а нам вдвоем таскать часа два, не меньше. Может, и больше, неизвестно еще, куда таскать.
Я подошел к стопке ДСП стандартных размеров: 2,5 на 1,7 метра, если я не забыл, конечно. Давно с этим устаревшим, токсичным материалом не работал… В стопке оказалось восемнадцать листов. Я-то ладно, а каково Сергееву? Он хоть мужик и крепкий, но не юноша давно. Я понял, что нас, команду художника-постановщика, ожидает потная запарка. В одной конюшне таскать – не перетаскать, а еще улица и музей…
Я не то чтобы пожалел, что ввязался, но осознал: никакая это не халтурка, вкалывать придется по-настоящему.
Режиссер коротко что-то сказал на своем тарабарском, Катя перевела на русский, человеческий:
– Пойдемте в музей.
– Нет, – возразил Григорий и повернулся к Катерине: – Скажи, что договариваться с хозяином конюшни он будет сам. Это не моя работа.
Катя перевела, итальянец ответил, понятно, ее устами:
– Марко говорит, что другой конюшни все равно близко нет и они согласны на любую сумму. В разумных пределах, конечно.
После паузы добавила, вероятно, от себя, чуть виновато:
– Григорий Иванович, вам же все равно надо выяснить, куда этот хлам девать. Заодно с хозяином и про аренду поговорите. – Она взглянула на Овсянникова. – Он же не против?
– Не против, – подтвердил тот.
– Ну вот. – Катя улыбнулась просительно. – Поговорите, Григорий Иванович, что вам стоит?
– Ладно, – согласился недовольный художник, развернулся на месте по-строевому и, печатая шаг, решительно направился к крыльцу особняка.








