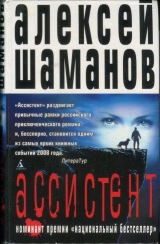
Текст книги "Ассистент"
Автор книги: Алексей Шаманов
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА 10
Собачья смерть
Я проснулся.
Услышал, как кто-то негромко мычит неподалеку без слов на мотив «Зеленой крокодилы». Преследует меня эта мелодия последние дни.
Открыл глаза и увидел Гришу Сергеева возле рукомойника. Глядя в зеркальце, пристроенное на полке для мыла, он брился опасной бритвой. Ловко, уверенно. Попеременно надувал щеки, открывал рот, строил рожи, срезая мыльную пену вместе со щетиной.
Надо же, кто-то все еще пользуется стальными опасными бритвами. Я-то думал, они остались в каменном веке. Впрочем, тогда, вероятно, художники-постановщики брились кремниевыми…
Я непроизвольно провел ладонью по колючей щеке. Бриться в спартанских условиях я не собирался, даже станка с собой брать не стал.
– С добрым утром, господин ассистент! – жизнерадостно объявил Григорий. – Поднимайся. Минут через десять завтрак, а потом на съемки поедем.
В том, что утро именно доброе, уверен я был не очень. Вот вечер, да – лучше не бывает. Помирили нас с француженкой байкальский поздний вечер, ущербная луна и снегопад над голой степью. А ночь – так себе, чушь какая-то снилась кошмарно-сказочная.
Я поднялся с кровати. Ни пиротехника Пети, ни водителя из местных не наблюдалось. Пиротехник, поди, похмеляться пошел, а водила спал в корейском микроавтобусе. Когда я ночью вернулся, его кровать была аккуратно застелена – не ложился бурят.
– Ты в чем лицо вымазал? – спросил Григорий.
– В чем?
– Откуда я знаю? – Он протянул мне зеркальце. – Посмотри.
Я взглянул. Точно. Губы и даже кончик носа перепачканы чем-то черным. Что за черт?
– Тебе еще долго? – спросил я.
Григорий не ответил, принялся с фырканьем умываться и смывать пену, интенсивно позванивая носиком рукомойника. Мне этот звук напомнил птичку с металлическим оперением, вылетевшую из моего сна.
Наконец Григорий освободил умывальник, и я смог смыть липкую черноту с лица.
В комнате запахло пронзительно и резко, напомнив мне раннее детство и деревенского дедушку из центральной полосы России. Я обернулся и понял почему. Художнику-постановщику было, вероятно, не под шестьдесят, а под сто шестьдесят лет – он освежался после бритья «Тройным» одеколоном! То-то, я заметил, комары на него не садились, когда мы как-то лет пять назад выпивали на заболоченном берегу речки Ушаковки…
Завтрак подавали вполне приличный – запеканка, булочки, еще что-то. Но есть мне не хотелось. Я был сыт настолько, что о съестном даже думать было неприятно, тем паче нюхать – меня подташнивало. Выпил черный кофе без сахара, чем и ограничился.
Откуда взялась эта сытость? Ночью, помнится, когда вернулся, была мысль залезть в сумку за салом и хлебом. Жрать хотелось нестерпимо. Остановило отсутствие электрического освещения на отсталом острове…
Съемочная группа дружно загружалась в микроавтобусы. Жоан Каро я, как ни выискивал, не увидел. Где она, интересно? Или отсыпается после бурной ночи в степи?
Доехали без приключений.
Ночной снегопад оказался на руку – присыпал ровным пятисантиметровым слоем и наши следы, и брезентовую крышу. Бутафорский сруб издали выглядел как настоящее сибирское зимовье. Вблизи, впрочем, тоже. Кто-то успел разжечь огонь в печурке, белесый дымок над срубом клубился.
То, что дым почти бесцветный, оператору не понравилось. Один из водителей презентовал дырявую резиновую камеру, которую решено было сжечь на съемке общего плана. Но начать предполагалось не с него, а со сцены обнаружения трупа и отстрела волков главным героем.
Ассистенты оператора и вчерашние рабочие, приехавшие раньше, уже успели поднять тяжелую кинокамеру по крутому заснеженному откосу и установить ее с торца сруба, там, где накануне мы убрали полстены.
Осветители принялись заклеивать щели светонепроницаемым целлофаном, устанавливать приборы, тянуть проводку от подъехавшего вместе с нами дизельного генератора отечественного производства на базе автомобиля «КамАЗ». Его решено было поставить настолько далеко, насколько хватит длины провода. Вырабатывая электроэнергию, громыхал он, будто кузнечный цех.
Пиротехник Петя, зря я на него грешил, даже не похмелялся, работал. Объяснял актеру-англичанину через Анну Ананьеву устройство антикварного по виду пистолета с длинным стволом. Из таких в кино стреляются дуэлянты галантных эпох.
Вот только отворачивался Петр, старался не дышать на зарубежного товарища. Напрасно комплексовал пиротехник. После вчерашней парной в компании с реквизитором Васей выхлоп, поди, от британца тоже, как из забродившей пивной бочки.
Вчерашний рабочий-очкарик стоял чуть в сторонке со здоровенным лохматым псом на веревке. Тот тихонько поскуливал, лежа в снегу у ног хозяина.
Я подошел, поздоровался.
– Зачем собаку привел?
Очкарик загадочно улыбнулся:
– Это не собака, а волк.
Я присмотрелся, потом протянул руку. Пес оскалился и встал на лапы в напряженной стойке. Врет мужик У волка хвост направлен вниз, промеж ног поджат, а у его псины – вверх, еще и загнут колечком. Сибирская лайка, как пить дать, может, с примесью дурной…
– Ну, не чистый волк, угадал, – наблюдая за мной, торопливо поправился мужик. – Но полукровка точно. Его мамашу, суку, волчара обрюхатил, зуб даю!
– А на съемки привел зачем?
– Увидишь.
Монотонный скулеж кобелька перешел в жалобный вой. Что-то ему, лохматому, не нравилось. Что?
Мужик пнул собаку ногой в валенке.
– Тихо ты, ирод! Я те повою!
Появился соблазн разбить товарищу очки. Вместе с рожей. К счастью для него, меня позвал Григорий Сергеев – режиссер с оператором принялись осматривать наше хозяйство. Как всегда, при визире и переводчике Турецком.
Почти все их устроило. Чуть передвинули печь. Добавили поленьев на полу да мусора по углам. Аккуратные работяги утром, как приехали, тщательно вымели полы привезенным веником, идиоты. Мусор с глаз долой закопали в сугроб. Ничего. Раскопали. Вернули на пол. Добавили промасленного тряпья от водителей.
По собственной инициативе занесли деревянную чурку, вогнали в нее по рукоятку топор. Режиссеру понравилось, а оператор пришел в восторг и не скрывал этого – экспрессивно матерился на ломаном русском.
Были претензии к окну. Но не к тому факту, что оно местами зияло отсутствием стекол. Это как раз всех устроило. Не понравилось режиссеру то, что оно прозрачное, а не заиндевевшее. Художник через Бориса Турецкого пытался объяснить, что и не может оно быть иным в холодном зимовье – перепад температур невелик, и морозные узоры попросту невозможны. Поль Диарен понимал законы физики, но не одобрял. Он желал, чтобы в его фильме стекло в зимовье было заиндевевшим. И – точка.
Тогда Григорий Сергеев плюнул на стекло. Правда-правда, так он и поступил: набрал в рот слюны и плюнул. А потом присыпал снегом. И снег прилип. И стекло сделалось как бы заиндевевшим.
– О, русиш спецэффект! – воскликнул Ганс Бауэр. – Голливуд есть капут!
Одного плевка художника оказалось недостаточно. В оплевывании стекол приняла деятельное участие вся съемочная группа.
Стекла зимовья заиндевели.
Чуть в стороне реквизитор Вася усадил Буратину, наряженного в шаманский костюм с множеством металлических подвесок, на деревянную чурку в позе роденовского «Мыслителя». Улыбался, демонстрируя кривые передние зубы, и покуривал русскую «Приму». Следы похмелья на лице не проступали. Успел, вероятно, подлечиться утром остатками банного банкета.
Я старался в их сторону не смотреть, из-за деревянного бандита, конечно. Зато на бурятского актера с идентичным лицом смотрел и радовался. Он в оплевывании стекол участия не принимал, не до игрищ. Отойдя в сторонку, шевелил губами, повторяя и повторяя единственную свою реплику: «Ты умрешь, бледнолицый!»
Да, сегодня его день. Всю свою жизнь пятидесятилетний актер Иркутского ТЮЗа ждал минуты, когда запылают софиты, режиссер крикнет: «Мотор!», зашелестит кинокамера, чинно мотая пленку, а он войдет гордо в кадр, бряцая блестящими прибамбасами на кожаном шаманском прикиде, и произнесет зловещим шепотом: «Ты умрешь, бледнолицый!» Напуганный шевалье в него из пистолета, а он хохочет – пуля проходит сквозь тело, не причиняя вреда. Буряты пули не боятся! Француз дрожит, шаман надвигается…
Что тут сказать? Звездный час. Может, американцы увидят – оценят, в Голливуд позовут на роль Чингисхана в будущем блокбастере «Завоеватель мира»?
Так он думал, беззвучно шевеля губами. А что? Все бывает, нет ничего невозможного, может, и позовут. Слова только не перепутай, приятель…
И еще об одном я подумал невесело. Полная идентичность с бесноватой деревянной куклой в чертах лица и одежде не показалась мне доброй приметой. Как бы чего не вышло…
Привезли собак, которые должны изображать волчью стаю. Из «УАЗа»-микроавтобуса их выскочила на поводках целая стая – среднего размера, серой масти с оттенками от близкого к бурому до седого. Выскочив, насторожились, растерялись – поджав хвосты, нюхали снег. Седой кобель пометил колесо.
Следом вышел мужчина в цивильной одежде, по виду – москвич. Так оно и оказалось. Собаки были какой-то редкой у нас канадской породы, считается, что похожи на волков. Хозяина нашли через интернетовский сайт, договорились об аренде и сроках.
На мой взгляд, приезжие собачки на волков похожи много меньше, чем местные сибирские лайки, среди которых и полукровок полно. Они же живут с волками бок о бок, и перемешиваются, и грызутся, короче, сосуществуют по естественным природным законам. Ну а московско-канадские гастролеры и волка-то живого вряд ли видели, разве что хозяин их в зоопарк водил в познавательных целях…
По команде режиссера мужик в очках на резинке подвел к стае своего лохматого пса. Москвичи сибиряка не приняли – натянув поводки, ощетинились, зарычали. Полукровка был в полтора раза крупней и, если бы не хвост крючком, – вылитый волчара. Он оскалился, и после его басовитого рыка москвичи поджали хвосты, попятились.
– Фу, Нойон! Нельзя! – прикрикнул хозяин и – снова валенком в бок. Вот скотина…
Словом, не приняли собаки друг друга. Седому вожаку стаи конкурент был без надобности, а Нойон вообще не понимал, бедолага, зачем его привели в этот сумасшедший дом, точнее – на сумасшедший берег.
Посовещавшись с оператором, режиссер решил снимать собак отдельно. Сначала – стаю, потом – полукровку.
– Нойон, – повторил Поль Диарен. – Это имя?
Хозяин подтвердил.
– Что оно означает?
– На бурятском и монгольском языках – начальник, господин. Он у меня вожак! Я вам лучшую в деревне собаку привел, почти чистого волка. У него и отец, и дед из леса были. Собачьего мало чего осталось, только вот хвост…
Ну это мелочь. Сколько я волков в кино видел, кроме документальных фильмов, конечно, у всех хвост вверх задран. Оно и понятно. Какой дурак-режиссер станет настоящих волков снимать? В кадре всегда собаки.
Московскую стаю запустили в зимовье освоиться, привыкнуть к иркутскому актеру, усаженному на чурку у раскаленной печки. Подбрасывать дров не велели, печь должна была погаснуть, и уже главный герой первым делом ее растопит, после того, конечно, как разберется с псевдоволками канадского происхождения с московской пропиской.
Собаки к буряту привыкли быстро. Седой вожак пометил чурку под ним, слегка забрызгав дорогостоящий кожаный прикид. Актер не прореагировал, не до того. Он вдохновенно исполнял роль трупа. В него еще в театральном училище вдолбили, что искусство требует жертв. Он был готов на любые жертвы. Дурак.
Наконец собак вывели, дверь распахнули.
Бурят замер с закрытыми глазами в позе сидячего мертвеца.
Режиссер крикнул: «Мотор!»
Оператор запустил камеру.
Хозяин позвал своих собак, и они побежали на его зов. Обежали вокруг дома. Он же оставался снаружи.
Стоп!
Хозяина переместили в мертвый угол зимовья, и все прошло, как было задумано.
Высоко задрав ногу, на этот раз вожак целенаправленно пометил спину актера. Тот стерпел.
Отснято.
Сделали еще три дубля, после чего объявили перекур с чаепитием.
Чаю мне не хотелось, а о бутербродах и речи быть не могло. Мутило меня от одной только мысли о еде. Что я такое съел накануне? Или прав оказался сортирный поэт, что сидел в теплом месте и горько плакал?
Григорий пошел к термосам и бутербродам, а я остановился, прикуривая, когда ко мне обратился переводчик Борис Турецкий:
– Жоан просила передать, что уезжает вместе с Карелом по делам в Иркутск, но через два-три дня вернется. – Он улыбался. – Еще просила передать вот это.
Борис протянул мне свернутый пополам лист из ученической тетрадки в клеточку. Я развернул и охренел, честное слово. Сверху латинскими буквами было написано:
«Ich libe dich!!!»
А ниже нарисовано сердечко, пронзенное стрелой, с лужицей крови, вытекшей из ранки, и следы от напомаженного красного поцелуя…
Что тут сказать? Детский сад. Но – приятно. Аж до слез, подступающих к горлу, приятно.
Я поднял голову. Турецкий тактично оставил меня наедине с запиской. Ну а Карела к Жоан я больше не ревновал. Нормальный братушка, брат-славянин. Что я на него взъелся? Это все ревность, будь она неладна. Ну я-то хорош. И серебро из царского золотого запаса ему припомнил, и адмирала Колчака, выданного иркутским Советам. Все это так, но что, одни только чехи пользовались моментом? Японцы, вон, золота поболе во много раз с Белой Армии взяли, а ни одного штыка, ни одного патрона не поставили. Большевистский лозунг: «Грабь награбленное» был в ходу на всех уровнях, от уголовной беспредельщины до императорских правительств…
Все-таки взял я чай без сахара и подошел к Григорию Сергееву, беседующему со вчерашним бригадиром в белом тулупе. Филиппом его зовут. Его только имя я и запомнил.
– Я когда «Живи и помни» прочел, – говорил рыжебородый, – подумал: новый Гоголь явился. Вещь, к романам Федора Михайловича приближающаяся. Еще одно усилие писателя, и вот он, взят уровень классика, но…
Он сам себя прервал, раскуривая русскую папиросу. А я подумал: надо же, говорит как интеллигент собачий, а вчера у него «до завтрева», «не укупишь»… Прикидывался? Работягу из себя корчил?
– Что значит твое «но», Филипп? – поинтересовался Григорий.
– Но – не случилось, так и остался в отдалении. А все почему? В политику ушел, в публицистику – и сгубил свой талант к чертовой матери.
– О ком вы? – спросил я.
– Да так, об одном писателе, – отмахнулся Григорий. – Тебе это не интересно. Это не про баб и не про выпивку.
Я чуть обиделся, но виду не подал. Я, между прочим, тоже читал кое-что. По школьной программе. Толстого «Войну и мир» – первые два тома про войну проглотил, остальные, правда, про мир, не осилил. И еще… еще… Стал вспоминать и не вспомнил. Неужто это был мой единственный прорыв в русскую классическую литературу?
Но я нашел что ответить, причем ответить честно:
– Меня, Гриша, не только бабы и выпивка интересуют, меня вот бурятский шаманизм увлек в последнее время.
– О, это ты по адресу! – обрадовался непонятно чему художник. – Филипп все о нем знает, он сам шаман!
Рыжебородый поморщился, будто лимон съел без сахара и коньяка.
– Ну что ты, Гриша, несешь? Какой я шаман? Так, хобби, не более. – Повернулся ко мне. – Но кое-что знаю. Если правда интересно, Андрей, приходи.
Он объяснил куда, впрочем, и объяснений особых не потребовалось. Я еще на подъезде к усадьбе Никиты обратил внимание на его двухэтажный дом с тремя маковками, как у старорусского терема.
Съемки продолжились.
Сперва засняли, как в присутствии стаи псевдоволков и живого сидячего трупа англичанин из-за пояса рвал пистолет. Так, что сыпалось золото с кружев розоватых брабантских манжет… Откуда в голову пришла эта фраза, понятия не имею. Анекдот, вероятно, какой-то вспомнился. Не было у актера на полушубке кружевных манжет. А пистолет точно рвал, но не палил из него. Это, как я понял, должно было произойти в следующем эпизоде.
Сделали несколько дублей и увели столичных псов кормиться на байкальский лед. Почти без паузы привели лохматого Нойона. Он упирался, идти не желал, попеременно то выл, то рычал. Хрипел, когда очкастый хозяин волоком тащил его на веревке. В зимовье его отвязали. Пес забился в угол и не подпускал к себе даже хозяина.
Режиссеру мизансцена понравилась не очень, но все-таки он решил снимать. Подозвал британца, сказал что-то на английском. Тот покачал головой:
– Ноу.
Француз разразился экспрессивной речью, махал руками, брызгал слюной.
– Ноу, – повторил актер, вынул из-за пояса пистолет и протянул его режиссеру.
Тот замер на минуту, потом взял оружие. Британец развернулся и покинул помещение.
Поль Диарен держал длинноствольный пистолет в вытянутой руке, словно тот был ядовитой гадюкой, способной ужалить. Потом крикнул что-то на французском. Борис Турецкий коротко ответил и выбежал из зимовья. Через минуту вернулся с пиротехником.
– Петр, – говорил Турецкий, – режиссер хочет, чтобы вы застрелили собаку. В кадре должна быть кровь, иначе не будет сборов.
– Почему я? – удивился пиротехник. – Это не моя работа. Собак стрелять я не нанимался.
Переводчик перешел на французский, выслушал ответ.
– Петр, месье Диарен понимает, что это не ваша работа. Он предлагает сто долларов.
– Нет, – ответил пиротехник.
– Пятьсот.
Петя покачал головой. Перевода не требовалось.
Взбешенный француз закричал что-то.
– Лишние из кадра! – завопил Турецкий. – Мотор!
Нойон скулил совершенно по-щенячьи. Вжался в угол, смотрел на людей слезящимися глазами. Он все понимал. Все-все.
Поль Диарен поднял оружие. Рука его заметно дрожала. Он опустил пистолет и взял его уже двумя руками. Снова поднял.
Камера шелестела негромко.
Пес поскуливал.
Раздался выстрел.
Камера продолжала шелестеть.
Пес, взвизгнув, смолк. Пуля попала в самую середину лба. Кровь потекла из ровного отверстия в черепе на грязный дощатый пол, образуя лужицу.
Меня затошнило. Я успел забежать за угол сруба.
Меня рвало долго-долго в чистый, неистоптанный снег.
Меня рвало черными сгустками тщательно пережеванной запекшейся крови.
ГЛАВА 11
Могила Чингисхана
К двум часам дня киногруппу привезли в Хужир. Проигнорировав обед, я пошел в магазин за сигаретами. Погано было у меня внутри, а вот курить хотелось очень.
Миновав сельсовет с триколором, вошел в городской по виду магазин, который на деле оказался типично деревенским. Сельпо оно и есть сельпо, хоть за стеклянными витринами, хоть в дощатом сарае.
Купив курево, полюбовался на блестящие резиновые калоши. Точно такие же, вероятно, в середине прошлого века надевал пресловутый Алеша. На пенсии, поди, давно… «Те, что вы присылали на прошлой неделе, мы давно уже съели…» А это уже про зеленое земноводное крупных размеров, что при остром дефиците резиновых изделий хватает за пузо толерантных граждан дружественного Евросоюза.
В ассортименте также валенки трех ходовых расцветок – белые, серые и черные. Фасон, впрочем, единственный – тупорылая сибирская классика.
Выбор продуктов широкий, география тоже, но все продается существенно дороже, нежели в Иркутске.
Дабы способствовать развитию сельской торговли на местах, купил американской жевательной резинки и спички фабрики «Сибирь» из города Томска.
Подбрасывая и ловя коробок, вышел в стеклянные двери и встал как вкопанный. Тошнота подступила к горлу. Тошнота и ненависть. Потому что к магазину приближался тот самый мужичок в очках на резинке вместо дужек, хозяин застреленного полуволка. За спиной он нес холщовый мешок. Чуть не доходя, перебросил его с одного плеча на другое, и я увидел на серой дерюге проступившие кровавые пятна. Ясно стало, что у него, гада, в мешке…
Чикнув спичкой, я прикурил сигарету. Руки дрожали. Нервный стал, как барышня.
– Здорово, Андрей! – сказал мужик и, бросив мешок у ног, протянул руку, которую я проигнорировал. Он сделал вид, что не заметил этого, засунув руку в карман, извлек заокеанскую банкноту. – Сотню долларов не разменяешь, однако? Ближний «Обмен валюты» в Еланцах, здесь только летом откроют, не сезон. А у Никиты свой курс, отличный от Центробанка, занижает, деспот!
Я молчал, борясь со страстным желанием разбить очки и выбить искривленные темно-коричневые зубы. Сами скоро выпадут… Нойон – его собака, его собственность, и не стоит мне впрягаться не в свое дело. Всех подонков перебить – кулаков не хватит, да и жизни тоже. Даже – вечной.
– Где баксы заработал? – спросил я, зная ответ заранее.
Мужик оживился.
– Дык, вчерась, покуда вы с Григорий Иванычем битое окно немчуре казали… – заговорил нарочито по-свойски, по-простому, – подошел к нам переводчик ихний, чернявый. «Режиссер, – говорит, – спрашивает, можете ли вы за сотню „зеленых“ продать ему большую собаку, мастью похожую на волка?» Филипп, бригадир, отвечает: «Мочь, мол, можем, а зачем?» – «Завтра ее в кадре застрелят, – говорит чернявый, – чтобы, значится, кровища хлестала и зрители трепетали…» Мужикам, однако, валюта без надобности, а я вот Нойона утром привел…
Он пнул мешок валенком, как раньше пинал живую собаку.
Мутная пелена затмила глаза, дыхание участилось, но я все еще держат себя в руках. Пальцы, однако, непроизвольно стали сжиматься в кулаки, ломая недокуренную сигарету. Очкарик ничего этого, вероятно, не заметил, иначе заткнулся бы и ноги унес от меня… от греха… Продолжил, глупый слепец:
– Жаль, конечно, добрая собака была. Ну да ладно. Шкуру на унты сниму, а из тушки добрый супец вечером сварганю… Надо бутылку «белой» взять, а у меня тока баксы, заместо человеческих денег…
«Добрая собака»… «добрый супец»…
Я не целил ему в очки, вообще видел все смутно – одни только размытые очертания предметов без подробностей. Я ударил правой – под кулаком чавкнуло и хрустнуло. Мужик, всплеснув руками, повалился навзничь. Не стал я его бить ногами, но совсем не бить – не мог. Поднял за грудки с земли и повторил экзекуцию. Третьего удара не потребовалось. Очкарик не двигался, хотя и дышал, я проверил.
Меня отпустило. Я снова мог воспринимать действительность адекватно. Поднял оброненную стодолларовую банкноту, потом, порывшись в своем кармане, нашел тысячу рублей одной купюрой. Открытой ладонью пару раз хлестанул по щекам бывшего очкарика. Тот открыл глаза. Из носа текла кровь. Он утер ее рукавом фуфайки.
Я бросил ему на грудь обе бумажки – нашу и американскую.
– Это тебе на новые очки, урод.
Он, похоже, меня не понял, может, и не узнал вообще, но деньги взял, поднес вплотную к близоруким глазам. Улыбнулся.
Кровь из носа продолжала идти, заливая лицо и ворот новой нарядной фуфайки. Из правой ноздри шла почему-то сильней, чем из левой…
Я забросил окровавленный мешок за спину и пошел за околицу.
Если я ничего не напутал из лекции по низшей демонологии директора Музея декабристов Миши Овсянникова, души существ, умерщвленных насильственно, превращаются в потустороннем мире в духов злобных и кровожадных, вроде всевозможных ада, дахабари и анахай. Но Нойону-полуволку, мне почему-то казалось, подобная участь не грозила. Не знаю, откуда взялась эта уверенность. Тоже мне, знаток бурятского фольклора…
Выйдя за деревню, я скоро обнаружил высокий холм с одиноким деревом на вершине. Раскидистым, с разветвленным стволом – по виду лиственным.
Поднялся на холм, перешагнув, не дойдя десятка метров до вершины, остатки стены из необработанного камня сантиметров тридцать высотой. Вероятно, это и есть та самая древняя курыканская стена, камни из которой в советское время растащили на строительство волнолома. В теперешнем виде не впечатляла.
Дерево оказалось опавшей реликтовой лиственницей. Я слышал о подобных. Первым из европейцев увидел их на Ольхоне и описал ссыльный поляк Черский.
К ветвям дерева были привязаны множество разноцветных ленточек и лоскутков ткани. Рядом вкопанная резная коновязь и кучка камней полуметровой высоты – обо. Непростое, значит, место. Даже Место – жертвенное, посвященное местному духу-хранителю, умершему шаману, вероятно почитаемому при жизни. Такое Место я и искал.
Развязал холщовый мешок, аккуратно вынул окаменевшее уже тело пса с ровным пулевым отверстием во лбу. Почти чистым. Лишь в шерсти вокруг запеклась черная кровь.
Забросил за спину. Придерживая за передние лапы, взобрался на лиственницу и оставил тело в развилке ветвей. Спустился.
Прощай, Нойон-полуволк. Пусть хорошо тебя примет местный дух-хранитель.
Хоть и не убивало его молнией, казалось мне, что достоин пес воздушного погребения. Казалось, правильно я все сделал.
Нашел в кармане чистый носовой платок, разорвал его на три полосы и привязал их к голым ветвям жертвенного дерева. Зачем-то перекрестился. Царствие тебе небесное, Нойон-полуволк…
Я возвращался в деревню по укатанному проселку, когда навстречу мне попались две машины – микроавтобус-«УАЗ» и «мосфильмовская» «будка». Пропуская, я отступил на обочину, но машины остановились. Передняя дверь «УАЗа» распахнулась, и я увидел Николая Хамаганова.
– Садись, – велел он, и я безропотно прошел в салон.
Там уже разместились режиссер, оператор, переводчик, художник и британский киноактер, на которого я смотрел теперь с уважением.
«И взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял…»
Это Высоцкий, сам того не ведая, про него спел. Ну и про пиротехника Петра, конечно. Но Петя – наш, хоть и с московской пропиской. А этот… Надо выпить с ним вечером водки, помянуть убиенного пса, побрызгать, побурханить за помин собачьей души…
Минут через пять встали у невысокого холма с юртой белого войлока на макушке. Следом за Хамагановым мы пошли налегке, а «мосфильмовцы» поперли кинокамеру с треногой. Еще, значит, и снимать будут…
Шаман подобрал с тропинки камень, размером с яблоко, повернулся к публике и поднял его над головой. Все поняли без перевода, подобрали из-под ног по булыжнику, немец – два.
Поднялись, не утомившись. Ребята в синих комбинезонах обогнали нас на половине дороги. Водитель Ваня помахал мне рукой, светясь конопатым лицом.
Юрта была абсолютно новой, муха не сидела. Или предметы культа неподвластны времени? У коврового полога при входе Николай Хамаганов остановился. Слева была навалена куча камней – обо. Шаман аккуратно положил свой камень сверху.
– Важно, чтобы камень не упал и не устроил обвал. Это дурная примета.
После перевода иностранцы старательно пристроили и свои камни.
Подождав, пока оператор разместится за кинокамерой, Николай Хамаганов привычно открыл вещание. Он был сегодня не в шаманском кафтане, а в джинсах и черной кожаной куртке, однако выглядел настоящим шаманом, отдыхающим от камлания.
Загадка места захоронения
В монгольских, китайских и европейских источниках могилу Чингисхана относят в самые разные области Азии – от Байкала до Алтая и Тибета.
В книге «О делах черных татар», в приложении писал посол Сунской династии Шиуй Тин: «Я, Шиуй Тин, лично нашел и увидел дух Темучина на берегу реки Керулен, в местечке, окруженном горами и водами».
В «Истории монгольского народа» записано: «Останки Чингисхана, согласно его завещанию, привезли на родную землю и похоронили в местечке Ехэ Утэгэ возле Хэнтэйского хребта».
В китайской летописи «Зоу Мо Зи» есть запись: «По обычаю захоронения ханов Юаньской династии цельное дерево разрезали на две части, по размеру тела делали углубления, затем соединяли и превращали в гроб. Туда клали останки, снаружи красили, три раза опоясывали золотым кольцом, выносили на север к месту духа, закапывали глубоко. По государственному обычаю не сооружали гробницу-мавзолей. Закончив захоронение, пускали туменный табун, чтобы копыта сровняли землю. Затем над могилой совершали обряд жертвоприношения, зарезав верблюжонка, оставляли караул из тысячи всадников. На следующую весну, после того как вырастет трава, откочевывали, потому на ровной земле люди не могли найти могилы. Совершая повторный обряд жертвоприношения, водили верблюдицу – мать убитого верблюжонка. Там, где верблюдица завывала, определяли место захоронения».
В «Истории монголов Доссона» говорится: «Когда многие полководцы, сопровождая останки, вернулись в Монголию, чтобы не разглашать весть о кончине хана, войска, охранявшие тело хана, убивали всех встречных, которые попадались на пути. Только доехав до Большого дворца Чингисхана у истока реки Керулен, огласили траурную весть. Останки поочередно доставляли до все дворцы хатунш для церемонии прощания. Многочисленные ванны, принцессы и полководцы, получив известие о смерти, обнародованное Тулуем, из всех земель и улусов обширной территории ханства собрались на траурные церемонии. Из дальних мест люди приезжали только через три месяца. После окончания траурных церемоний останки похоронили возле одной из гор Бурхан Халдуна у истока трех рек: Онона, Керулена и Толы. Раньше Чингисхан был в этих местах. Отдыхая в тени одного дерева, он сказал будто бы, чтобы его похоронили здесь. Поэтому сыновья, выполняя завещание, похоронили его здесь. После похорон растущие поблизости деревья превратились в чащу и трудно было узнать, под каким он похоронен. После этого еще несколько человек похоронили здесь. После похорон тысячу человек из Урянхайского аймака оставили для охраны могилы. Их не брали на военную службу. Еще рисовали там портреты всех ханов и освящали их благовонными фимиамами, горели лампады. Посторонних людей туда не пускали. Также не имели право ходить туда и люди из четырех дворцов Чингисхана. Эта традиция соблюдалась в течение ста лет и после смерти Чингисхана».
В «Путевых заметках Марко Поло» отмечается: «Всякого Великого хана, также глав рода Великого хана Чингиса, где бы он ни умирал, привозили к подножию горы под названием Алтай и хоронили там. Из дальних мест хоть сто дней перехода, все равно привозили туда. Это стало незыблемым обычаем, которого нельзя нарушить».
В «Путевых заметках посольства в Россию» Зан Пен Хе говорится: «В девяти газарах севернее города Куй Хува (современный Хухэхото) есть гора Чи Лиян Шан (семьдесят темных гор). Есть молва, что здесь похоронены все ханы и хатунши Юаньской династии и не воздвигались гробницы и мавзолеи».
В «Полных записях относительно чахоров» сообщается: «Духи-онгоны многих хатунш и тайжи Юаньской династии находятся к северу от долины Ухэр Чулуун (камень-бык) в горах Зан Мао Шан… Духи ханов Юаньской династии находятся на севере. После похорон по могилам пускали десятитысячный табун, чтобы топтали, и сровняли землю, и не вставляли знаков. С духами привезенных хатунш так же поступали».
Николай Хамаганов смолк. Опустил голову, спрятав лицо в ладонях. Слушатели замерли, наступила полная тишина. Даже природа, казалось, затаила дыхание – ни малейшего движения воздуха. Слышно стало, как прославленная своей бесшумностью кинокамера германского производства перематывала широкоформатную пленку…
Это что, тоже было предусмотрено сценарием Николая Алексеева, иркутского предпринимателя от внутренних органов? Возможно, не удивлюсь.








