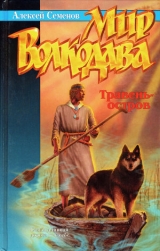
Текст книги "Травень-остров"
Автор книги: Алексей Семенов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
В ответ Зорко, плавно отведя руку с копьем, с силой метнул железную рогатину на ясеневом древке в колдуна. Тот, не ожидая такой прыти и стойкости от противника, только и успел поднять на дыбки коня. Копье вошло глубоко и плотно застряло в угольно-черном теле. Зорко всегда было жаль, если в битве падал конь, но теперь вместо горестного ржания раздался над равниной и холмами вой, точно тысяча волков взвыла разом. Один звук этого воя, услышь его одинокий путник где-нибудь среди холмов или в лесу, мог бы лишить его навеки рассудка – столько ужаса, злобы и ярости было в нем. Но Зорко видел все, и видел причину этого воя, и не устрашился. Тот, кто был конем, на глазах у него обернулся чудищем с волчьей пастью и змеиной головой, стоящим на четырех чешуйчатых лапах, как у исполинской ящерицы. Чудище похоже было на змея, что венчал собой носы сегванских ладей, но змей сегванский жаждал бури и битвы, а чудище под колдуном рвалось убивать.
Копье Зорко ударило коню-змею прямо посредине груди, чуть ближе к брюху, и чудище выло и корчилось, вздувая крутые бока, и тело его ходило ходуном как от лихорадки-трясеи. Наконец оно взвыло последний раз, вздохнуло… и опало черным облаком дыма. Дым заклубился, заколыхался под едва заметным ветром и улетел к равнине, оставив на земле лишь горсть черного пепла. Древко ясеневое истлело вместе с чудищем, и лишь железный наконечник, раскаленный докрасна, будто только из горнила, шипел, остывая, во влажной траве.
И тут же порыв ветра с холмов, холодный и яростный, пригнул траву на равнине к земле, и столь был он резок, что факелы у многих из Феана На Фаин потухли.
Но Брессах Ог Ферт выдержал порыв ветра и, выставив вперед левую руку, раскрыл ладонь. И ветер, будто ударившись о невидимую преграду, стал оседать, отступать и обмяк, пока не упал вовсе.
Зорко, которого этот вихрь едва не сорвал с лошади, теперь спрыгнул на землю сам и выхватил меч. Он-то, Зорко, мог уцелеть, если чудесные свойства маленького золотого солнца на его груди не оказались маревом, но попади черная молния в лошадь, и никто бы не смог уж поднять ее к жизни: ни королева Фиал, ни Лухтах и Кредне, ни сам Брессах, коли и возжелал бы такого. А ведь Геллах за это не похвалил бы венна, хоть бы тот и привез кожаные ремни, впрягшись в повозку вместо коня.
Зорко без страха вошел в воду и дошел до середины потока. Три сажени разделяли его и чародея, но Брессах Ог Ферт медлил.
– Что же остановился ты, повелитель черной молнии? – вопросил Зорко. – Или утонуть страшишься в мелкой воде?
Брессах в ответ посмотрел на венна так, будто взглядом хотел ударить его, как тяжелым молотом, или же испепелить. И Зорко узнал силу этого взгляда, который, будто раскаленная крушецовая плита, придавил его к земле. Венн почувствовал, что под этим гнетом тело его от напряжения стало словно каменным, и он ощутил, что и действительно вот-вот окаменеет. Нашарив шуйцей на груди знак, Зорко поднес его к глазам и, зажмурив левый, правым посмотрел на чародея сквозь отверстие.
И увидел Брессаха так, будто прозрел его насквозь невидимым лучом, точно был колдун в прозрачных стеклянных доспехах, и словно одежда его была соткана из стеклянных нитей, да и само тело его будто утратило цвет. И лишь три черных почему-то сердца бились внутри этого тела, и три крови струились в жилах чародея, и три жизни были в нем. И страшный взгляд Брессаха утратил свою силу, и бремя упало с плеч Зорко, и тело вновь стало живым и послушным. А давил Брессах венна третьим, невидимым глазом, что был красным и помещался у колдуна меж бровей.
Отбросив копье, Брессах выхватил из ножен меч, и Зорко увидел, что клинок колдуна разделен повдоль надвое. Одна половина меча была блестяще-серебристая, другая – черная, как его молния. Он взмахнул мечом и прочертил острием по воде. Ручей мигом пошел паром, точно в нем был кипяток, и Зорко почувствовал сквозь сапоги жар кипящей воды, но новая вода, пусть медленно, унесла вскипевшую.
И Брессах тогда вошел в нее, и мечи их ударили друг о друга. Колдун сражался, заслоняясь щитом, и Зорко приходилось туго, потому что он мог лишь защищаться. И удары колдуна были тяжки, и меч венна едва поспевал за мечом врага.
Но вдруг Брессах, лик коего был мрачен, побледнел, точно от страшной боли, и Зорко услышал рычание. Это большой черный пес вошел в ручей и вцепился колдуну в ногу чуть ниже колена, где начинается голень. Колдун отступил на шаг и занес меч, чтобы рассечь им собаку, и Зорко, улучив миг, схватил Брессаха левой рукою за кисть его десницы, державшей клинок, и своим мечом нанес ему удар по левой кисти, как делал это в бою Бьертхельм. И отрубил кисть, вместе со щитом упавшую в воду.
Брессах закричал так, будто в дальних горах обрушилась скала, и попытался вырвать руку из хвата Зорко, но венн держал крепко, и тогда, видя, как венн заносит меч для удара, выкрикнул прямо в лицо Зорко странное слово. И тут же вместо человека в руке у Зорко оказалось прохладное и шершавое тело змеи. Черная, покрытая чешуей острая морда с неподвижными желтыми глазами оказалась перед венном, и раздвоенный язык так и сновал, чуть не доставая ему до лица. Змей – а было в нем не менее трех саженей длины – разинул пасть, и Зорко увидел ряд острых загнутых зубов и желтые от яда клыки. Хвост змея обвился вокруг ног и тянул в сторону, пытаясь свалить Зорко.
И венн ударил мечом, разрубив змея вдоль, от головы и ниже.
И опять раздался вопль, и на миг Зорко вновь узрел колдуна в человечьем обличий, и снова тот выкрикнул тайное слово, и ладонь Зорко обожгло. В руке у него был стальной раскаленный добела прут, и прут этот ровно ветвь примыкал к раскаленному железному столбу, и столб этот валился прямо на Зорко. Венн ударил столб мечом, ибо иного не оставалось.
Вопль грознее, громче и яростнее прежних пронзил воздух, и была в этом вопле злоба и тоска. И снова колдун явился перед Зорко, и снова теперь уж не крикнул, а выдохнул странный шепчущий и прохладный звук. И стал дымом, и рука Зорко объяла пустоту, и седой туман заклубился перед ним, и туман этот был жив и непостижимо держал в воздухе черно-серебряный клинок. И Зорко, не останавливаясь уже, нанес туману третий удар, зная, что сейчас разрубит третье черное сердце Брессаха Ог Ферта.
И меч чародея, враз с мечом венна, стал опускаться, завершая дугу. Меч Зорко рассек туман, и вместе с ним колдовской клинок распорол на груди у Зорко кольчугу и вошел в тело, и достал до сердца.
И черная мгла пала, погрузив его в свои неведомые глубины…
…Зорко очнулся оттого, что кто-то тепло и влажно дышал ему в лицо. Ему почудилось вдруг, что это Брессах Ог Ферт принял облик того чудища, на котором сидел, и теперь, раскрыв огромную пасть, навис над ним, Зорко, всем своим тяжким туловом и намеревается ни много ни мало откусить венну голову. Зорко вздрогнул, осознал вдруг, что он – это он и он жив и находится где-то и в какое-то время, и отпрянул от дыхания, одновременно открывая глаза.
Перед ним были ровные и крупные белые зубы и серые раздувающиеся ноздри. Лошадь, наклонясь к нему, тепло и влажно дышала прямо в лицо.
Зорко вздохнул, осознав, что ему привиделся морок, погладил лошадь по морде, покрытой короткой шелковистой шерстью, и приподнялся на локте.
Он лежал на вершине холма, и гора с древними руинами, заросшая на вершине кустарником, поднималась следом за этим холмом. Склон холма довольно круто уходил в распадок, заросший черной ольхой. По дну его нес свои воды ручей. Над холмами уже занимался теплый осенний день, и солнце уже не первыми, но еще ранними золотыми лучами щедро заливало зеленую, точно смарагд-камень, траву.
Пыхтя, взбежал на вершину черный пес и принялся ходить вокруг венна, вертя так и сяк хвостом, дыша шумно и тихо повизгивая. Сизый туман скатывался в распадки, располагаясь там на ночлег, развешивая по ветвям и кустам свои безмерные спутанные пряди.
Зорко встал на ноги и потянулся, глядя на вершину горы. Там все было как и вчера, только вот дальше к закату, продолжая массивную тень горы, вытягивалась далее по холмам узкая и длинная тень венчавшей гору высокой башни, хотя самой башни на горе не было, как ни вглядывайся.
Глава 3
Пора листопада
Шла третья осень обучения Зорко у мастера Геллаха. Освоив краску и тиснение кож, плетение из кожаных ремней и работу с тканью, Зорко теперь принялся за то, к чему долго так тянулся всем своим существом и в чем долго себе отказывал, объясняя добровольное отречение свое тем, что не постиг еще многих необходимых знаний. Зорко принялся за художество красками на тонких пергаментных листах книг и холстах, за украшение книг разноцветным замысловатым узором и большими затейливыми буквицами.
Целые дни проводил он теперь в доме, где Геллах хранил свои книги, где работали переписчики и художники, и прочитывал и переписывал множество страниц. Теперь ему доступны были знаки аррантской и саккаремской грамоты, а именно на этих языках и были писаны чуть не все книги, что были прилежно собраны мастерами-вельхами за многие годы. Было еще немного книг сольвеннских, все больше Правды галирадские и уложения и наставления, из нее следующие, и немного вельхских, где говорилось о временах туманных и древних. Впрочем, о тех временах куда больше и занятнее могли порассказать бродячие певцы и сказители, коих среди вельхов было множество, а то и сами хозяева страны духов, что на вельхских берегах были всюду, даже в самом людском жилище.
У веннов было так же: в доме обитал домовой, в овине – овинник, в лесу – леший, и водяной, конечно, жил в омуте. Те же существа, только звавшиеся по-иному, были и у вельхов, но вот те, кого звали духами, в веннских лесах не больно охочи были показываться живым людям, да и те их побаивались, хотя и уважали, особенно предков. А уж заговаривать с духами без опаски мог только кудесник, и то не всегда. Человек страшился впустить в себя мир духов и пуститься в страну духов тоже опасался: слишком уж велик был риск утратить самого себя и остаться с чужой душой, а свою упустить неприкаянной. А человек без души своей, с телом сросшейся, уже и не человек, а оборотень без роду и совести. А оборотень – враг, потому как Правды не ведает и никто ему не указ.
Вельхи своих духов нимало не боятся, потому что тем вовсе не нужно посягать на то, что зовется человеческой душой. У духов своя жизнь, в которой нет места тем сомнениям и тревогам, которые тревожат человека. Они – духи – словно огонь, пылают ясно все свои годы, пока не истончатся так, что станут и вовсе невидимы и неслышимы и растают в конце концов среди холмов и равнин. Они помнят о древности, и то, что занимает ныне людей, мало их трогает. Ни одна людская душа, будь она похищена, не выдержала бы этого горения, и ни один дух не смог бы пробыть долго в теле человека, ибо томился бы по той ярости и свежести, что осталась в его стране. И люди, и духи знают об этом и потому относятся друг к другу с несомненным уважением, что не мешает им иной раз уходить из своего мира в другой. Во-первых, потому что и души, и духи жаждут новизны и чудес, а во-вторых, и это «во-вторых» служит, если подумать, причиной первому, всех – и людей, и духов – ведет за собой тоска по тому неведомому времени и тем незнаемым местам, где все настоящее и совершенное и нет безнадежности в волшебном и странном пении и музыке духов и в светлой, глубокой и неизбывной печали человеческой души.
Зорко удалось то, что получалось не у всякого исконного жителя здешних краев. Он научился не слишком удивляться тому, когда ночью прямо из стены круглого вельхского дома выходило вдруг странное существо, схожее сразу с собакой и лаской, и шло какое-то время рядом, а после сворачивало через межу на жнивье, где и пропадало, никак не давая знать о причине такого поведения. Зорко не боялся, когда по дороге из дальней деревни, когда солнце уже зашло, ему встречался кто-нибудь, о ком доподлинно было известно, что он или она умерли довольно давно, и венн мог даже посудачить с ними о том о сем. Бывало, что и среди белого дня мимо него проносились ужасные неистовые всадники с развевающимися гривами рыжих и черных волос, в бронях и золотых украшениях, сидящие на огромных конях с красными киноварными ушами и пеной на удилах.
Зорко никогда не спрашивал, но теперь точно знал, что и Геллах, и Лейтах, и Кормак, и некоторые иные мастера, жившие близ Нок-Брана, часто наведывались в страну духов и принимали у себя гостей оттуда, но никто этим не хвалился и никак этим не пользовался, кроме как затем, чтобы вещи и творения из слов и звуков выходили краше и ярче прежних. И никто не упрекал никого в колдовстве, потому что дорога печали, которой следовали, каждый по-своему, эти люди, как железная рыба в стеклянном шаре, смотрящая на Гвоздь-звезду, вечно вела сторону, где нет тени и зла.
Мало того, венн догадывался, что, может быть, кому-то выпало на долю испытать в стране духов нечто подобное тому, что испытал он. Живой и невредимый, Зорко чувствовал, что взгляд синих, как лед, очей королевы Фиал разбудил в душе его неясную и беспокойную надежду и ожидание, а меч Брессаха Ог Ферта оставил в его сердце свой осколок, и Зорко мог теперь видеть туманную суть веществ и предметов и читать в чертах земли и путях звезд неясные прежде письмена.
Часто, когда он темным уже вечером, в осенние сумерки, в добрую звездную погоду или в ненастье, сидел при лучине, разбирая повести о сути жизни и поучениях, извлеченных из времени, составленные каким-нибудь многоученым аррантом, дверь наружу сама собой открывалась, и духи входили к нему запросто, рассказывая удивительные истории и басни о прежнем или даже немного о своем бытии в холмах. А то просто усаживались по скамьям и лавкам и вели свои, понятные только им разговоры, и воздух дома полнился тайной и древностью.
Однажды, с неведомой целью, повинуясь чувству ожидания неразгаданного знака или знамения, Зорко бродил по тропкам, что разбредаются в разные стороны, вьются и переплетаются неожиданным образом в лесу на полдень и закат от Нок-Брана. Лес этот издавна слыл волшебным, а помимо этого был известным обиталищем всякой безобидной или не слишком безобидной вельхской нежити. Даже звери и птицы здесь были особенные и, если человек встречался с ними, смотрели так, будто знали некие вещи, о коих растяпе-пришельцу было невдомек. Мало того, и деревья в этом лесу, как говаривали, могли передвигаться и сообщались меж собой как по-людски разумные.
Стоял ясный и прохладный день месяца листопада, пограничный с первым днем месяца грудена. Зорко забрался куда-то в самую глушь, и ощущение того, что он где-то совсем рядом с разгадкой своих блужданий, стало вдруг пуще прежнего. Он оказался на длинной, засыпанной березовыми, кленовыми и ольховыми листьями поляне, перед невысоким холмиком, похожим скорее на бугор. На склоне его, почти на вершине, придавливал землю заросший толстым мхом и лишайником огромный валун-дикарь, а дальше, за бугром, через оплывшее русло высохшего ручья был переброшен каменный мост о двух опорах и трех пролетах, кой с годами обветшал и даже местами развалился. Ныне ручей, должно быть, тек здесь только в дни сильных и долгих дождей или по весне, когда таял обильно снег.
Бугор обильно зарос березой, кленом и осиной, и под листьями и мхом Зорко угадал шляпки больших и крепких грибов, думавших видно, что никто до них здесь не доберется. Грибы меж тем были известными провожатыми к местам потаенным и необычным, и потому то, что они столпились тут, да еще такие огромные и красивые, заставило Зорко насторожиться. Тишина такая, что паутинка пролетит – слышно будет, замерла в воздухе, и венну казалось, что стук его сердца и шум дыхания слышны сейчас, этой тишине благодаря, на многие версты, до самого Нок-Брана.
Шелест листьев, тронутых чьим-то движением, заставил Зорко вздрогнуть. Ветка качнулась, и за кустом боярышника он увидел молодого оленя, бархатными черными глазами глядевшего на человека. Мгновение олень оставался неподвижен, а затем, вышагивая осторожно и грациозно, вышел весь из-за своего лиственного укрытия и остановился на вершине бугра, поводя ушами. Еще миг он стоял так и вдруг, потянув трепетными ноздрями воздух, напрягся всем телом, молниеносно развернулся и рванулся назад, в чащу.
Сей же миг позади себя Зорко услышал оглушительное шуршание листвы и лай: это черный пес, повсюду сопровождавший Зорко и только сегодня отставший зачем-то от него по дороге к лесу, догнал венна и, подкравшись, должно быть, неслышно к оленю, в последний миг был все же им замечен, и теперь вот так шумно дал знать о своем появлении.
Сейчас же с той стороны, куда скрылся олень, из кустов выкатилось какое-то чудное создание, мохнатое, обросшее коричневой шерстью. Сначала Зорко принял его за неизвестного зверька, но существо, не обращая внимания на большого пса, тут же ощерившегося и вздыбившего шерсть, скатившись по склону, перекувырнувшись попутно раза два, вскочило на ноги и бросилось прямо навстречу венну. Зорко с удивлением понял, что это вовсе не зверек, а человек невысокого – по грудь ему – роста, и действительно весь шерстяной и взлохмаченный, как домовой, обросший и заросший бородой до самых пят.
– Стой! – крикнул Зорко. Крикнул по-веннски, что было приказом для пса, но и малый человек вдруг остановился как вкопанный. Так и стояли он и собака в четырех саженях друг от друга. Пес уселся и дыбил шерсть, урча глухо, готовый к прыжку. Человек просительно уставился на Зорко. Лицо его было мелкое, румяное и удивительно чистое, будто он только что нарочно вымылся, хотя на шерсть, конечно, прицепились репьи, травинки, опавшие листья и прочий мелкий лесной мусор. Выглядел он как взрослый зрелых лет мужчина, и волосы у него были вполне людские, курчавые, каштанового цвета, а глаза карие и плутоватые. Только вот нос у него был вытянут немного и вздернут, что придавало лицу этого маленького мужчины сходство с мордочкой ежа.
– Господин, господин, – заговорил вдруг мохнатый человечек, очень чисто выговаривая вельхские слова, хотя слух венна, привыкшего уже к разным наречиям и к различным вельхским говорам тоже, мигом определил, что говорит странный встречный не на родном своем языке. Голос у него был низкий и приятный, хотя и срывался от волнения.
– Господин, – в третий раз взмолился человек. – Прошу тебя, окажи нам помощь. Мы варим сегодня осенний напиток, и пропасть мне вместе со всем моим народом, а не так уж много нас и осталось теперь, если он не понравится королеве. А если будет испорчен, то лучше нам сразу уйти из этих мест и снова скитаться бесприютно! Как это плохо, господин! Как это скверно! – заохал нежданный проситель под конец, так что Зорко даже и не досадовал, что чувство ожидания чудесного мигом пропало куда-то. Наоборот, он почему-то сразу доверился внутреннему чутью и проникся искренним сочувствием малопонятному покуда чужому горю.
– Успокойся, уважаемый, и не надо так руками махать, не то могу собаку не сдержать, – урезонил человечка Зорко. – Скажи лучше, чем я-то могу твоему горю помочь? Да и сам кто таков будешь?
– Я?! – вопросил малый человек удивленно и даже как-то обиженно. – Я – брауни, глава рода брауни, и других таких больше нет. А зовут меня Жесткая Шерсть. Я – главный пивовар королевы, – гордо заявил Жесткая Шерсть из рода брауни. – Каждую луну Охотника мы варим осенний напиток, и все пируют в чертогах королевы и пьют его с превеликим удовольствием. За последние пятьсот лет, по крайней мере, никто еще не жаловался, – заметил почтенный пивовар. – Вот и сегодня все было как нельзя удачно, но надо же такому случиться, пожаловал Черный Бродяга – чтоб ему провалиться к духам подземелий! – и грозит нам своими загадками. Если не отгадаем, он грозится испортить мое пиво, а это будет позор! Королева неизвестно где, и ее воины тоже! О горестная наша доля! О жизнь, полная лишений и изгнаний!
– Да полно тебе, Жесткая Шерсть. – Зорко ухватил пса за ошейник и подошел наконец к человечку. – Меня зовут Зорко Зоревич, я из веннской земли. Чем смогу, пособлю, а убиваться так не нужно. Когда ты и вправду пятьсот лет королеву добрым пивом потчевал, то и не станет тебя взашей гнать, а допрежь разузнает, кто виновен. А там и накажет по Правде. Веди, что ли, не стоять же здесь попусту.
Жесткая Шерсть обрадовался, будто беда его исчезла с одними этими словами Зорко, и заспешил своими мохнатыми ступнями вверх на бугор. Зорко отпустил собаку и, приказав ей следовать рядом, пошел вслед за брауни.
Бугор, сплошь заросший кустами и деревьями за долгие годы, пока мост был заброшен, скрывал под собой каменную опору этого моста. На вершине, под корнями рябины, открылся лаз вышиной в рост высокого довольно человека, ведущий внутрь, под каменные своды.
«Сколько ж этому строению лет? – думал Зорко. – Должно быть, немало, когда и Мойертах о нем ничего не рассказывал. А крепко камень класть умели! Надо думать, известку на яйце да молоке замешивали!»
Оттуда, из темноты, веяло затхлостью и запахом опавшей листвы, но не прелью и не сыростью. Это говорило о том, что за местом этим следят и не допускают сюда дождевую и талую воду. Жесткая Шерсть уверенно полез в проем, зашуршал там листьями – пес склонил голову набок и прислушивался – и вновь показался на свет с факелом в руке. Он споро извлек откуда-то, будто из воздуха, трут и кресало и высек короткую сухую искру. Хорошо просмоленное дерево мигом вспыхнуло, осветив небольшое и даже уютное пространство под низким сводом. Сверху начинался мост, а в противоположной входу стене открывался проход куда-то вниз.
– Поспешим, господин Зорко, – позвал Жесткая Шерсть. – Я очень боюсь, что без меня более молодые и, следовательно, менее мудрые мои сородичи уже успели сказать Черному Бродяге какое-нибудь неосторожное слово, а он обратил его против них.
Зорко с некоторым недоверием поглядел на черный проем, а потом решился:
– Веди. Только кто ж тебе сказал, что я кудесник? И дорогой расскажи, кто этот твой Черный Бродяга. Чародей?
– Здесь совсем близко, только семьдесят семь ступенек, – бормотал Жесткая Шерсть, семеня вниз по ступеням, завивающимся нисходящими кругами, с такой быстротой, точно дело было светлым днем. – Мы же не народ рудокопов, чтобы забираться в землю на четыре сотни саженей! Мы – брауни, и других таких пивоваров и медоваров, господин Зорко, вы не сыщете, хоть обойдите все леса и холмы на сто верст вокруг…
Зорко с трудом успевал за человечком и уже плохо видел ступени, потому что Жесткая Шерсть, увлекшись, убежал вперед, как вдруг ступени кончились и они оказались в освещенном чертоге, где и вправду собрались десятка четыре таких же брауни, как и Жесткая Шерсть, только лица и глаза у них отличались. И действительно, никого старше Жесткой Шерсти Зорко здесь не увидел, хотя и говорливому знакомцу его никак нельзя было дать пятьсот лет.
Чертог освещался множеством стеклянных сосудов, наполненных мучнисто-белой жидкостью, слои которой непрестанно перемешивались, что было заметно по струящимся белым волокнам и комкам некого вещества, плавающим в этой жидкости. Снизу, под каждым сосудом, стояла жаровня.
Посредине чертога, все убранство которого составляли простые скамьи, расставленные вдоль стен, в окружении галдящих вразнобой брауни стоял худощавый, но жилистый человек, ростом едва ли выше Зорко и, несомненно, постарше его. Черные когда-то волосы его теперь стали пегими и над высоком лбом с глубокой морщиной сильно поредели. Одет он был в длинную красную рубаху и синий плащ. Что-то показалось Зорко знакомым в тонких чертах его лица, но разглядывать гостя брауни долго не пришлось. Жесткая Шерсть схватил венна за руку и вместе с ним решительно протолкался сквозь толпу своих не слишком почтительных к старшему королевскому пивовару родственников.
– Черный Бродяга, – заявил он, когда вместе с Зорко оказался перед человеком в синем плаще. – Я не буду отвечать на твои дурацкие вопросы. И никто из нас, брауни, не будет этого делать. Мы не для того родились и живем под этим солнцем, чтобы заниматься подобными глупостями…
С этими словами он взглянул на Зорко, которого продолжал держать за руку, и запнулся.
– Для таких глупостей мы не слишком умны, – продолжил Жесткая Шерсть. – Вот благородный человек из тех, что разумеют всякой грамоте. С ним и поговори. Посмотрим, так ли ты умен, как бахвалишься. Может быть, ты и вовсе не умеешь складывать заклинания, только лучше уж я побеспокоюсь заранее, чем королева превратит меня в какую-нибудь мерзость. Словом, поговорите меж собой как ученые люди. Эй, вы! – бесцеремонно обратился он к собранию мохнатых брауни. – Замолчите, дурни, и не мешайте тем, кто умнее вас! Если глотка у вас медная, это еще не значит, что и голова у вас золотая! Если хоть капля пива пропадет, я первым остригу вас, как овец, а потом уж королева спустит с вас шкуру! Молчите и внимайте премудрости!
Закончив прочувствованную свою речь, которой внимал более всех черный пес, почтенный Жесткая Шерсть добился наконец своего, и брауни прекратили бестолковый шум.
– Кто ты и зачем побеспокоил пивоваров? – спросил Зорко. – И почему они должны отвечать на твои вопросы, а не их владычица?
– Потому что я Черный Бродяга, – отвечал человек, стоявший против венна. Голос у него оказался низкий и приятный, с хрипотцой. – Потому что я сказитель и говорю на старинном языке вельхов. – И он перешел сей же час на старинное наречие. – И разве не знаешь ты, что сказителя, что говорит на старом языке, нельзя не выслушать и выгнать из дому тоже нельзя, иначе хлеб твой высохнет на полях, у коров не будет молока и пиво прокиснет, точно простокваша?
– Знаю, – отвечал ему Зорко тоже на старом наречии. – К чести ли сказителю грозить тем, кто слаб и мал перед мудростью его?
– Вот и защити их, когда ты сам такой мудрый и благородный и сведущ в языке прежних дней, – ответил сказитель и зло усмехнулся. – А мне вовсе нет ни охоты, ни нужды рассказывать тебе, зачем не слишком люблю я эту землю. И ты вряд ли спросишь разрешения, когда захочешь причинить обиду тем, кого не слишком любишь. Так ли?
– Мы и тем, кого любим, часто приносим обиды и зло безо всякого на то позволения и поступаем с ними так даже чаще, чем с теми, кого не любим или любим не слишком, – возразил Зорко. – Потому что знаем, что любящие нас простят нам многое, и слабость нашу тоже, а со всеми прочими надо держать ухо востро. А потому у себя ты трижды спросишь, когда взбредет тебе в голову свершить такое дело. Так я скажу тебе.
Черный Бродяга посмотрел на Зорко оценивающе, и того словно стылым ветром проняло от этого взгляда синевато-белесых, как небо в месяце просинце, глаз. Настала на миг тишина, и краем слуха венн поймал слабый, неведомо откуда пришедший звук, будто где-то ударили в литой серебряный колокол. И сказитель приметил, что Зорко услышал этот звук.
– А ты и вправду мудрее, чем кажешься, – заметил он. – И ты не ослышался. Колокол ударил, потому что ты ответил верно: ведь то была моя первая загадка.
– Если уж ты так меня уважил, мудрым назвав, то прости мудрецу мудрецово любопытство. Дозволь спросить: чем же ты так знаменит, что здесь тебя давно знают, а я вот ни разу не слышал допрежь о тебе, да и другие не рассказывали? – спросил Зорко и взялся невольно рукой за золотой оберег, знак солнечного колеса, что на груди носил, и так стал его теребить.
– Неправду говоришь, что не знаешь меня вовсе, – отвечал сказитель. – Только что сказал ты, что я знаменит в этих краях и что меня здесь давно знают. А еще ты знаешь, что не люблю я эти земли и что трижды спрашивал себя, прежде чем прийти сюда с песней хулы. И еще знаешь ты, что недобрый я человек, потому что, как ни выхваливался бы я сейчас перед тобой о славных делах моих здесь в былое время, не станешь ты думать иначе. Вот и скажи мне пока, а я потом тебе на все отвечу, есть ли в том радость, что знаешь больше?
– Не в знании радость заключена, сказитель, – отвечал ему Зорко. – И лучше всего о нас те люди думают, которые вовсе ничего про нас не знают, потому что, как только узнают что, начнут думать: это у них ладно, то худо. И раз найдут худое, то сразу сердцем упадут и скажут: «Нет в мире ни ладу, ни сладу»… Знать – это все яко видеть зорче: куда шагнуть, чтобы в ямину не свалиться. И радости с того, что ты яму за сто шагов обошел, а не убился насмерть, а иной – поглупее – в нее грянулся, нет никакой. Так и получается: чем больше знаешь, тем более скорбишь, что мир плох. И тем долее живешь, зане ведаешь, как худа избегнуть. Так отвечу.
Серебряный колокол ударил в другой раз, уже громче.
– И это правда, – согласился Черный Бродяга.
Брауни, внимавшие спору, замеревшие даже видать, интересно им стало, – принялись было опять шуметь, радуясь, что их заступник одерживает вроде бы верх, но Жесткая Шерсть их мигом окоротил, цыкнув на молодежь на каком-то своем, особенном языке.
– Вот и к слову, – продолжил сказитель. – Что такое правда? И зачем так наставляют людей по правде жить, если нет в этой правде – в знании, сиречь – никакой радости? Не лучше ли будет жить и радоваться, нежели скорбеть?
– Вот вопросов назадавал, – усмехнулся Зорко. – Будто тропок в этом лесу! Думаешь, я леса не знаю, коли на древнем наречии говорю? Все тропки, что ты сейчас показал, к одному месту сходятся. Знание это надобно – чтобы с тропы не сбиться, в болоте не увязнуть. А радость от того бывает, если пришел туда, куда стремился. Одна беда: не знаем, куда стремиться следует. Вот в болото и не падаем, как есть мы мудрые и ученые, а прийти никуда никак не можем. А на деле все одного ищут – этой самой радости. И выходит, что все за одним идут и мимо проходят. Значит, и получается, что радость там, где никто не бывал. И чем более тропок пройдено, тем вернее сказать можно, где ж эта радость в лесу спрятана: и там ее нет, и там нет, и в третьем месте тоже. Где она? И выходит, нигде. И еще выходит, что твоя тропка к ней, к радости, ближе всех, хоть и горька тоже, потому что все прежние мимо прошли и твоя вернее покажет, где это «нигде» прячется. И о том, что те, кто после тебя по лесу бродить будет, к радости потаенной ближе подойдут, печалиться не стоит, зане какая разница, откуда начать тропки считать? Всегда так посчитать можно, что твоя – самая последняя. Вот тому и радоваться надо. И потому правду блюсти следует – хоть ты знание под словом этим разумей, хоть заповедь, от предков полученную (а это, если подумать, одно и то же), – что она тебя ведет по тропе. А без нее заблудишься и сгинешь раньше срока, а значит, и от радости дальше будешь. Такое мое слово.








