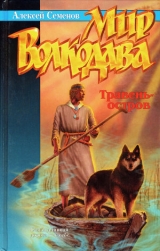
Текст книги "Травень-остров"
Автор книги: Алексей Семенов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Глава 2
Лицом к прошлому
Теперь, когда Сольгейр поведал ему о том, что Зорко не разглядел, он получил время и возможность подумать. Подумать о том, зачем так лихо закружила его тропка-судьба, и что тому причиной, и чего ожидать от этого пути, ставшего вовсе незнакомым, далее.
Зорко не просто так ушел из печища Серых Псов: просто уходили только Звездным Мостом к острову Ирию. Слухами земля полнится: прилюдно не вспоминали, но украдкой по избам вспоминали случаи, когда получалось так, что кого-то род Серых Псов недосчитывался вовсе не по причине смерти. Были те, кто сам уходил из верви и рода. Почему уходили, о том толком никто сказать не мог. Не потому, что опасались, а просто потому, что не понимали: и действительно, зачем человеку бросать такой надежный и проверенный уклад и устав, который один только и есть на земле такой – самый тебе справедливый, исконный. Так матери жили, и бабки, и прабабки, и многие-многие поколения, почитай еще от матери Живы.
Зорко и сам прежде представить не мог, что есть нечто лучшее помимо широкой излучины великой Светыни, текущей неизвестно откуда неизвестно куда, черного зеркала Нечуй-озера в братине высоких песчаных откосов и большого, бескрайнего леса, середь коего то там, то здесь ютились на холмах и широких полянах веннские печища, словно лучины в ночи согревавшие друг друга в огромную холодную зиму. И только дорога серой лентой вилась сквозь лес, принося тревогу и лихо из неведомых стран, да так же и унося его, не встретив здесь на пути своем ни единого жилья.
Но вот Зорко подрос, ездить стал и летом, и по зиме в соседние печища. Выучился работать с кожей и краской, понял, каков нрав у разных холстов, навострился ловко чертить узоры, потом кузнецу немного подсоблял, увидел, что таят в себе металл и огонь. А еще узнал он, как говорить с деревом, чтобы из-под ножа резчика вышел не обрубок живой некогда древесной плоти, но образ, которому дерево стало телом, возродившись вновь. Также и вовсе неживая вещь – мертвее некуда – кость, и та воскресала, когда появлялись вдруг на ней линии и фигуры, и даже когда просто черты и резы покрывали ее, образуя буквицы. А буквицы были узором куда более занятным и непростым, нежели все иные, зане таили в себе великий секрет единства черты и слова, сошедшихся некогда в пустынном еще времени и давших начало реклам и речи. Именно в рядах буквиц была самая великая в мире дорога, ведшая не только сквозь страны и земли, но и сквозь времена, и идти по ней можно было сразу и вперед, и назад, и вбок, и в любую вообще сторону.
И едва понял это Зорко, понял он и другое: от этой дороги уже не уберечься, и она уведет из дому неизбежно, вернее, чем обыкновенная серая полоса утоптанной земли. В путях звезд на небе, в струях Светыни, в древесных прожилках и сплетениях корней и ветвей, в контурах вещей и в расплывчатости облаков читал Зорко непонятные слова на непонятном языке. Он не вовсе понимал, что они значат, но звучание их отдавалось в сердце и отпечатывалось в памяти, как узор или буквицы на деревянной доске, отливалось как олово, заполнившее форму. И чем больше знал он и помнил, тем больше была потребность говорить. Но время для камней, воды, травы и деревьев и для человека текло по-разному, и, покуда дерево собиралось сказать слово, человек успевал пережить и высказать столько, что дерево не поспевало за ним.
И камень не мог вдруг обернуться человеком, и Зорко не мог стать камнем. Он представлял лишь, как видит мир камень, но лечь вот так в мох на несчетные тьмы лет не желал. Оставалось одно: идти к людям и говорить с ними.
Но в родном печище мало кто понимал и мало кто хотел понять те речения мира, которые переводил Зорко на человечий язык, вырезая по дереву и кости, рисуя краской на холсте, чеканя по бронзовому и медному листу и украшая кожу тиснением. Особенно не по нраву пришлись кудесникам холсты, где рисовал Зорко то, что видел вокруг. Старший из кудесников, статный и величественный старик Рокот Искревич, долго выспрашивал Зорко, откуда выдумал он нарисовать так тень. И то надо было знать кудеснику, почто рисует Зорко не так, как делали это прежде. Увидев же на холсте собаку, на кою Плава нарадоваться не могла, все сличая живого Басалая, вертевшегося тут же у ног, и нарисованного, кудесник и вовсе осерчал и приказал холсты пожечь, а Зорко велел более красками не заниматься.
Мало того, кудесник повел Зорко к матерям рода, чтобы хоть те вразумили непутевого молодца да наказали его примерно, чтобы лишнего не выдумывал. Зорко так дело уразумел, что опасался кудесник вредного колдовства и порчи, что могут навести такие картины.
Матери рода велели все показать, что успел Зорко сотворить. Старшая, женщина строгая, пятерых дочерей поднявшая, резьбу и чеканку посмотрев и кожи с ними, сказала: «Добрая работа. Не берись только судить о том, чего ведать людям не дано. И впредь лучше того не делай, чего прежде не делали. Не велено нам от Правды и обычаев отступать, и не потому, что прихоть такая, а затем, чтобы от добра добра не искали: от гордыни да своеволия всякая беда случается! Посмотри, как прежде делали, и поступай так же». Когда же показал Зорко холсты свои – не хотел он этого делать, но на обман матерей рода совесть идти не велела, – гневно посмотрела большими черными очами своими Свияга Некрасевна. А как дошла очередь до холста тосо, где были Плава с псом охотничьим Клычкой явлены, и вовсе мрачнее тучи стала: «Так вот ты чем гордыню свою тешишь, Зорко! Когда на выверты твои, что на дереве ты учинил да на коже, думала, по молодости, по глупости. Оказалось, прав Рокот Искревич: не из младости, не по глупости, а по умыслу недоброму. Когда не хочешь, чтобы перед всем родом тебя ославили и наказали, иди и сожги мазню всю эту непотребную! Огонь – наш заступник, он стерпит, он и очистит. А чтобы не вздумал ты впредь худыми делами да думами неправыми зло на род наш навлекать, будешь отныне в поле работать, чтобы мать-земля тебя вразумила, коли мы не углядели, а сам ты в гордыне своей упорствуешь! Вот зарок тебе: ни к коже, ни к дереву, ни к холсту, ни к металлу, ни к кости тебе не касаться никаким орудием, узор наносящим. До конца земных дней твоих не касаться! А чары от тебя, коли есть, Рокот Искревич отведет». И другие матери рода подобное сказали и со старшей согласились.
Зорко на это поклонился только и сказал: «Благодарствую за науку вам, Свияга Некрасевна. Будет по слову вашему». Но в первый раз тогда Зорко знал, это говоря, что не исполнит воли матерей рода, что слова своего не сдержит. Холстины кудесник-ведун наказал в торбу сложить и ему отдать. Зорко отдал, едва не плача, а на следующий день вновь подступил к нему старик Рокот: куда, отступник, мазню свою поганую дел? Оказалось, что торбу у кудесника кто-то выкрал ночью и либо подменил на такую же, либо холсты, что Зорко писал, вытащил, а простые, на коих он просто краски пробовал, подложил. Кудесник все колдовством объявил и то, что было, пожег. «Пачкотня вредная, дескать, сама в пачкотню и превратилась, когда чары развеялись» – так он объяснил то, что образы с холстов исчезли и пятнами цветными заменились. Но Зорко о том не знал, и никто не знал, кроме матерей рода и других ведунов. Рокот долго тогда за Зорко следил, все вызнать хотел, где тот холсты свои прячет, да только не нашел ничего и успокоился.
А Зорко он всяким обрядам подверг, и страшился парень, что и впрямь разгневал он богов, и поделом ему такая кара. Но ничего не случилось, и кроме растерянности и недоумения ничего не испытал Зорко. Боги промолчали и не дали никакого знака ни в пользу правоты Зорко, ни против.
А на душу камень лег: не мог Зорко соблюсти запрет матери рода и запрет нарушил. А следить за ним никто не следил: не могли помыслить, что можно такой запрет нарушить, да Зорко со своим художеством никому и не показывался. Уходил куда подальше, где редко кто из печища бывает, и там работал. И еще один из всех в печище начал он с проезжими людьми разговоры вести об иных краях и тамошних обычаях. А потом старик калейс объявился. Не сказать, чтобы шибко влекли Зорко чужие края, но понимал он, чем дальше, тем яснее, что только там сможет он тем заняться, к чему душа лежит, что ему судьбой предписано. Свияга Некрасевна вскоре – год минул – гнев на милость сменила: Зорко и вправду не только в художестве, но и в рукомесле изрядный толк знал; может быть, и просили за него мастера, и холсты красить да с кожей работать дозволено было ему, а после и по дереву резать разрешили. Только это уже не могло отвратить Зорко от принятого решения: не было ему места в роду, какое бы и ему по нраву было, и роду не в тягость. А раз так, то и следовало уходить.
И была Плава. Печище у Серых Псов большое было, но все друг друга знали, и дети у всех росли, почитай, вместе. И Зорко с Плавой друг друга сызмальства знали. Знали и знали, покуда не встретили оба девятнадцатую весну. Словно кто с глаз у Зорко пелену снял, и посмотрел он на Плаву по-иному, а как посмотрел, то глаз уж отвести не мог. И не опустил взора, когда Плава его ответным взглядом подарила.
С тех пор не разлучались они и никого вокруг не видели. Плава все знала, что Зорко творит, и только радовалась, когда были у него удачи, и утешала, если вдруг не получалось что. Но про то, чтобы свадьбу играть, речи не заходило: знала она, что Зорко уйдет, а все равно расстаться с ним не хотела и толков по печищу не боялась. Да и не было толков: если кто и смотрел косо, так только Рокот, но и тот лишь за тем следил, чтобы Зорко опять непотребства малевать ни принялся. Не уследил.
Зорко и Плава в то же лето – двадцатое уже у обоих – стали мужем и женой, только никто об этом не знал. А может, и знали, да не говорили. Такое, чтобы молодец и девица до свадьбы любились, не было редкостью. Но тут дело в другом состояло: кому бы понравилось, что хорошая девушка, да с таким непутевым, как Зорко, встречалась? Ясно было, что такой или по добру из печища уйдет, или вовсе будет изгнан, как волк-оборотень. Может, кому-то и не нравилось это, но Зорко и Плава больше смотрели за тем, как бы снова ведун, или матери рода, или кто другой не узнали, что Зорко к прежним своим занятиям вернулся, нежели любовь свою от чужих глаз таили.
Так четыре солнцеворота минуло. И вот, потянулись дорогой уже не одни купцы, а и беженцы. Вздыбила курганы Вечная Степь и выпустила в мир конные тысячи. Зорко все больше стал пропадать вечерами у дороги: проезжие любили останавливаться у росстани, где большой торный торговый путь пересекался с зеленым, посередь которого росла трава. Этот малый путь вился лесом и болотами до печища рода Гирвасов. Гирвасом звался легченый, не обремененный ездовой упряжью олень. К слову, лошадь хороша была для летних плотных дорог, для утоптанного зимника. В весеннюю распутицу и осенние грязи, в глубоком лесном снегу, кой начинался тут же, едва отойди от дороги, первым средством для езды был сохатый, либо олень. Сольвенны некоторые знали об этом, и тем более дикими и страшными казались им венны: где это видано, чтобы обычный человек сохатого запрягал? А где сохатый, там, глядишь, и волк в упряжь полезет, и медведь, а там и вовсе нечисть какая! Может, оттого и пошли по торгу галирадскому побасенки, будто у веннов медведи в лаптях по печищам ходят, а зимой в избах у печи спят.
И вот в этот неуютный мир, где венна за медведя считали, должен был уйти Зорко. А Зорко думал теперь, ушел бы он по большой дороге, утоптанной, если бы не объявился в степях Гурцат? Если б не Гурцат, не появился бы в роду Серых Псов гость – старый калейс. Не шли бы по дороге вельхи, чьи изделия, искусства и песни так бередили в сердце тягу к дальним берегам. Не увидел бы Зорко столько диковинных и красивых вещей, что везли с собой переселявшиеся вельхи, калейсы и неудачливые купцы, приплывшие на восходные берега как раз в год, когда прошлась по этим берегам кровавой косой степняцкая сабля.
Провожали Зорко мать с отцом и сестрами, ведун – не Рокот Искревич, а тот, что помладше, – Латыня Нежданич и старшая мать рода.
– Иди, Зорко. Путь тебе полотном. Лихом дом родной не поминай, только сюда и можешь вернуться ты. И не забудь, чему тебя здесь учили. Живи по Правде, как предки заповедовали, – сказала Свияга Некрасевна. – Пусть и в дальних краях знают, что у Серых Псов живут праведно.
Зорко ответил, как должно, словами благодарности, благословили его родители и наставники, с тем и пошел.
Плава простилась с ним позже, когда вышла, как и договорились они, из-за огромного валуна, похожего на волчью голову, что издавна лежал у зеленой дороги. Плава не плакала, словно знала что-то, чего не знал Зорко, не хотела только говорить. Чтобы вернее сбылось. Но грусти не спрячешь, и увидел ее, эту грусть. Она была похожа на одинокую звезду, когда все небо безлунно и закрыто сплошь пеленой, и горит эта звезда, мерцая и мрея, одна в пустой ночи, высоко над миром, и ни один голос, кроме ветра, не доносится до нее. И ни одно из слабо светящихся внизу печищ не ответит. Зорко помнил, кажется, каждый локон ее волос и каждую черточку, и вкус этих губ не смог бы перебить никакой иной, будь он сколь угодно сладок.
Последним же, с кем расстался Зорко, оказался Клычка – тот самый охотничий пес, живший у Плавы на дворе, с которым Зорко рисовал ее. Большой и серый, с черной почти спиной и рыжеватыми подпалинами за острыми, стоящими торчком ушами, Клычка, на взгляд Зорко, более походил на того первого Серого Пса, от которого и пошло название рода, чем тот, что был изображен на коже, висевшей у места схода. Коже этой, конечно, было немало лет, а все ж не казалась она Зорко такой древней, чтобы помнить еще первого Серого Пса: вельхи везли с собой куда более старые кожи, а также владели хитрыми составами, помогающими коже молодиться долгие годы. У веннов таких премудростей не знали. А рисунок на коже был уж и вовсе невыразителен и даже невзрачен.
Таких мыслей Зорко никому не поверял, даже Плаве. От них нисколько не уменьшалась любовь его к родным местам и вера в родовых богов, но, по разумению Зорко, если уж рисовать Серого Пса, то красиво, чтобы как живой был. Или чтобы как у вельхов: не сразу и скажешь по виду, пес это или басенное чудище, на пса похожее, но мигом поймешь, по сути: пес. Ныне, когда лежала в коробе книга с ликами аррантских богов, которых Пирос Никосич так не уважал, Зорко еще более утвердился в своем мнении.
Из двух легенд, что говорили о первом Сером Псе, куда более известна была та, где сказывалось про пса, что за людей заступился, когда боги на тех разгневались. Не мог понять Зорко, как это пес с богами говорил о таком: у собак свои слова были, как и у всего в мире, у богов – свои. Боги, конечно, могли язык собачий разуметь, да ведь у псов и слов таких не было, чтобы высказать речи, что первому Псу приписывались.
Была и иная легенда, которую тоже знали все, но рассказывали и вспоминали редко. Но не жаловали ее матери рода, и ведуны к ней никогда не обращались. А Зорко она куда более по нраву пришлась.
В давние времена, когда людей на земле было мало, венны и сольвенны жили еще единым народом, сегванов на побережье вовсе не знали, а вельхи проживали повсюду от Галирада до Вечной Степи, предки рода Серого Пса обитали южнее отрога Самоцветных гор, что уходил почти до восходных побережий. Сейчас в том месте, где отрог подходит к морю, как знал теперь Зорко, лежала земля Аша-Вахишта. Но в стародавние времена часть веннов жила чуть южнее и гораздо дальше в глубь земли: до моря оттуда далеко было.
Жили неплохо, но с полудня пришел страшный враг. Каков он был, о том легенда молчала. Невнятно было даже, люди то или какие иные племена, но не это было важно. Пришельцы подступили внезапно и были жестоки. Биться с ними венны смогли недолго и стали отступать через горы на полночь. Враги гнали их все выше, туда, где на перевалах уже лежит снег. Кого-то убили, иные замерзли или сорвались с обрывов. Через перевал ушла только одна девушка, совсем еще юная. На полночь от гор было гораздо холоднее. Начал идти снег, а жилья не было. Девушка зарылась в листья и еловый лапник, но холод побеждал, и она уже думала, что замерзла и видит предсмертный сон, когда из лесной темноты вдруг вышел огромный серый зверь, которого она вначале приняла за волка.
Но это был пес. Он лег рядом и согрел ее, а потом еще целых три года носил ей пищу. Через несколько месяцев после той ночи у нее родились дети – близнецы, брат и сестра. С тех пор и начался род Серых Псов.
Зорко знал, что эта легенда – чистая, настоящая сказка, но была она куда интереснее первой. И ничего страшного не видел он в том, чтобы считаться потомком Серого Пса: собаки были куда разумнее и добрее, чем иной раз могли быть люди…
Но мысли его опять вернулись к Гурцату, как вспомнил он вдруг, что на полуночных склонах того хребта, через кой пришлось перевалить тогда разбитым веннам, жили ныне горные вельхи, а на вельхов теперь наседал с полудня Гурцат.
И опять, если бы не Гурцат, случилась бы история в Лесном Углу? Конечно, лишь случаем Зорко пришел в погост тем самым злосчастным днем, когда съехались туда Хальфдир и Прастен. Но разве не было в той случайности воли богов? Разве человек способен предвидеть случайности, что с ним произойдут? А раз не способен сам человек, то, значит, тут дела богов. И боги привели его в Лесной Угол в положенный ими срок.
Зорко заново воскресил в памяти черный морок и черную грозу. Снова видел он Хальфдира и Хольгера, Бутрима, Прастена и двоих степняков. Почему же именно степняк не испугался черной молнии, почему его не убило ее ударами? Потому ли, что у него не было выбора, а потому и не было страха? Или видел он черную молнию допрежь и знал, что от нее ждать? А если знал, то откуда? Ужели колдун был? Да и кто сказал, что он жив остался? – подумал вдруг Зорко.
Но тут же понял, что не прав. Лазутчики галирадского кнеса не только под стенами города ходили, но забирались в такие края, откуда до Галирада не одну седмицу ехать нужно. Гонцы от них и сообщили, что прознали в степи о том, как негостеприимно с послами к нарлакским государям в Лесном Углу обошлись. Оттого и всполошились бояре галирадские и сам кнес.
И дальше, если б не Гурцат, не плыл бы сейчас Зорко в ладье кунса Сольгейра, и кунс Сольгейр это куда как доходчиво растолковал.
Выходило, будто не один Зорко был виноват в том, что с ним случилось. Едва вышел он за порог – да и раньше, лишь подошел он к перекрестку торной дороги и зеленой и заговорил с калейсами, тень всадника, тень Гурцатова коня и самого степного полководца на нем, что простерлась теперь через всю землю, от Галирада до самого полудня, до Саккарема, вечно бежала рядом с ним, пятная и следы, и путь впереди. И немудрено, что отовсюду пришлось Зорко уходить: разве можно где-то остановиться, когда рядом тащится такой призрак? Ничего доброго о Гурцате Зорко не слышал: всюду, куда приходил он сам или его отряды, были только война, пожары и смерть. И тень его не могла быть лучше: наоборот, разве что хуже. И разве мог он, Зорко, противоборствовать такому призраку, а коли и мог, то чем? Может, вельхи за морем подскажут ему, как жить так, чтобы на тебя тень не пала и чтобы на других тени не уронить?
Глава 3
Ратники моря
Тень от пробегавшего по небу облака закрыла ненадолго ладью. Зорко посмотрел вверх: облако было небольшим, да вообще облака в этот час были над заливом редки. На вершине мачты, стоя на двух вовсе нешироких досках, покачивался в согласии с кораблем и волной дозорный сегван. Вдруг он повернулся вправо, замер настороженно, точно заметил что-то, всмотрелся, поднеся ладонь к глазам, а потом, обратившись вниз, крикнул:
– Сольгейр! Три корабля на полночь и закат! Это бариджи!
– Маны! – только и сказал в ответ Сольгейр.
Зорко обратился туда, куда смотрел дозорный на мачте, но не увидел ничего: должно быть, корабли манов покуда были скрыты за овидом, и глазастый сегван с высоты видел то, чего не видели все остальные.
Никто из гребцов и воинов словно бы не слышал этой переклички. Все продолжали заниматься тем, чем и занимались; веслами и парусами.
– Ветер помогает им. Они нас нагонят, – сказал Сольгейр.
Половина воинов покинули весла, и опять, в который раз за сегодняшний бурный день, загремело железо: сегваны облачались в кольчуги. Когда доспехи были надеты, они сменили тех, кто был на веслах еще без защиты, и ладья, лишь немного сбавив ход, быстро двигалась к мысу, представшему уже вполне вещественным.
– У нас есть кольчуга для тебя, – подошел к молча наблюдавшему за происходящим венну Сольгейр. – Ильмунд пал в Шо-Ситайне. Возьми.
Сольгейр положил перед Зорко настоящую кольчужную рубаху мелкого плетения, серебристую и льющуюся, как стальной ручей. Зорко никогда не надевал кольчуги: в печище Серых Псов такие вещи были ни к чему, и только в двух или трех домах сохранились старые кольчуги, с тех еще, наверно, времен, когда живы были легенды.
Но проезжие торговцы кольчуги везли, и Зорко знал и как следует носить этот доспех, и сколько он весит.
Сольгейр, похоже, понял, почему медлит Зорко.
– Если ты никогда не носил кольчугу, не стоит думать, что это тебе никогда не понадобится. Лучше пустить три стрелы мимо и уцелеть, чем направить точно весь тул и быть убитым одной последней.
– Если я пущу мимо три стрелы, ты можешь выбросить меня за борт, – гордо ответил Зорко, вытаскивая из короба рубаху из грубого льна.
– Кольчуга слишком дорогая вещь, чтобы бросать ее за борт, – ухмыльнулся кунс. – Если ты не боишься битвы, ты можешь умирать спокойно. А если ты еще и не врешь, ты можешь и выжить. Жаль, Бьертхельм не сможет нам помочь.
Но Бьертхельм, похоже, мгновенно оправился от всех ран и утопил в волнах усталость. Он уже не сидел, а стоял у мачты, выпрямившись во весь свой немалый рост и вглядываясь в даль.
– Возьми шлем, Бьертхельм! – крикнули ему с кормы.
– Не давайте шлем Бьертхельму, не то он перестанет бояться самого Хрора! – ответил кто-то на носу.
– Хрор будет биться с нами, и мне нечего его бояться. Дайте мне шлем, – рек Бьертхельм.
Увидев, что Бьертхельм с ними, Зорко приободрился: битва была той стороной жизни, в которой прицепившаяся к Зорко тень степного владыки становилась живой, и, чтобы победить ее, Зорко должен был сражаться. Но это были его самые первые бои, и рядом с Бьертхельмом делать эти самые трудные шаги было легче.
Едва успел Зорко надеть кольчугу и застегнуть пояс, как корабли манов один за другим возникли на закатном овиде. Это были крутобокие суда с острыми обводами, саженей десяти в длину и двух – двух с половиной саженей вширь. Их мачты – по две на корабле – несли паруса, расширяющиеся книзу. Сам корабль словно бы прогибался плавно от носа к корме. Корма была высока и срез ее был прям и переходила в прямоугольную надстройку. Она, помимо решетчатых окошек, закрытых чем-то блестящим, была раскрашена разноцветными причудливыми цветами и резьбой.
Как ни проворен был черный змей ладьи Сольгейра, но ветер и впрямь благоприятствовал манам. К тому же их корабли, должно быть, и при равных условиях не уступили бы сегванскому кораблю в ходе. Маны выстроили свои суда борт к борту и шли ладье наперерез, прижимая одновременно ее к низкому каменистому берегу, поросшему темным ельником. Высадиться на такой берег, если вдруг настала б необходимость, было бы очень нелегко. Даже Зорко, ничего не знавший о морской войне, представлял, что бой предстоит тяжкий. Корабли манов были явно вместительнее ладьи, и кто знал, сколько воинов скрывается на каждом из них.
Сегваны повесили вдоль бортов большие круглые щиты – хорониться от вражьих стрел. Зорко, понимая, в чем его главное умение, то и дело посматривая на приближающегося супротивника, снаряжал боевой лук. Сегваны поглядывали на это грозное оружие и одобрительно кивали: их луки были по преимуществу длинными и гибкими, но простыми. Составной лук Зорко с костяными накладками бил и дальше, и точнее. Зорко, правда, не знал, каковы луки у манов.
Три корабля – бариджи, как назвал их дозорный, – приближались быстро. Уже видно было, что маны тоже прячут у бортов своих стрелков, а щиты у них большие и прямоугольные. На высокой корме, поднимавшейся над водой как небольшая башня, и на приподнятом носу собирались воины со щитами и саблями, а еще были какие-то люди вовсе без тяжелого оружия, но с какими-то горшками.
– Смолу грейте! – распорядился Сольгейр.
Трое сегванов вытащили на палубу большой чан со смолой, в толстом железном сосуде раздули угли, разожгли огонь и чан повесили на цепях. Жар был точно рассчитан за века походов, и скоро загустевшая смола начала течь и пузыриться. Сейчас же принесли паклю.
– Труде, скажи, что это за горшки у манов? – спросил Зорко сегвана, собиравшегося вступить в бой, несмотря на раненую щеку и другие раны поменьше.
– Аррантский огонь, – отвечал сегван.
– Зачем же огонь в горшки прятать? – опешил Зорко. – Не проще ли стрелу метнуть?
– Стрелу погасить просто, – объяснил сегван, – плесни лишь водой. Аррантский огонь вода не сразу возьмет, и занимается он так, будто весь корабль смолой пропитан. Если и вправду луком владеешь, бей по тем, кто при огне.
– А у сегванов такого огня нет? – еще спросил Зорко.
– Нет. Секрет арранты хранят. И еще в Аша-Вахиште знают, и в Саккареме, говорят.
Зорко стало не по себе: против меча и лука он знал, как сразиться. Но вот против колдовского огня, который водой не залить и в коем целый корабль зараз как лучинка сгорает, он биться не умел. Сольгейр, однако, в Аррантиаде не раз был, знал, как огонь кудесный проще одолеть.
– Песок несите! – опять распорядился кунс, и те же трое, что разогрели смолу, извлекли на свет три немалых короба с песком и поставили их посреди палубы и чуть ближе к носу и к корме. На этих троих не было кольчужного доспеха, только плотные куртки из кожи. От стрелы такая куртка оборонить не могла. И шлемов на людях этих не было, только шапки из войлока.
– Кто это? – опять обратился Зорко к Труде.
– Рабы, – просто отвечал сегван. – Не каждый воин может позволить себе кольчугу. Сольгейр удачлив в походах, поэтому вся его дружина в доспехах.
Тех, кого Труде назвал рабами, не остались, однако, вовсе беззащитными. Выполнив приказ кунса, они закрылись широкими круглыми щитами, не металлическими правда, а дощатыми, обтянутыми кожей, на кою еще нашиты были тонкие пластины бронзы. Пущенная прямо стрела враз пробила бы такую защиту, но от стрелы, летящей полого, этот щит спасти мог.
Из помещения, что – скрывала высокая корма одного из кораблей манов – того, что шел посредине, – вышел человек немалого роста, стройный, одетый в богатые шелка, парчу, атлас, с блестящими украшениями из каменьев и золота. На поясе у него висел широкий кривой меч, а верхняя одежда, судя по всему, скрывала под собой кольчужную рубаху. Голову человека защищал высокий шишак, посеребренный и даже позолоченный.
– Гурганы, – пояснил Труде, смотревший туда же, куда и Зорко.
– Это сын кунса гурганов – принц Паренди. Я видел его две зимы назад, – сказал сегван, оказавшийся справа от Зорко. – Паренди на их наречии значит «счастье».
– Невеликое счастье быть изгнанным из дому и просить милостыню, – заметил пришедший вновь на середину палубы кунс Сольгейр. – Лучше умереть в море. Если Храмну будет угодно и мы выдержим этот бой, волчья пасть из золота будет висеть на ожерелье у того, кто отправит принца к ашаванам.
Ответом кунсу был воинственный и радостный клич.
– Кто такие ашаваны? – опять не понял Зорко.
– Те, кого маны считают своими светлыми богами, – пояснил тот же сегван справа.
На кораблях из Аша-Вахишты услышали клич сегванов и, должно быть приняв его за боевой вызов, ответили. Старец в черной одежде и белом платке выкрикнул что-то нараспев, да так пронзительно, что было отчетливо слышно на всех четырех кораблях, и без малого две сотни голосов подхватили последние слова этого выкрика на незнакомом, отрывистом языке.
Зорко вдруг весь насторожился, точно пес, почуявший чужой запах. Это было предчувствие человека, знающего, что такое лук и стрела. Летучая смерть была в воздухе. Зорко не видел, кто выпустил эту первую стрелу и куда, но мигом схоронился за висевший на борту щит. Мгновение, другое ничего не происходило, и вдруг зловещий стук металла о металл вывел притихшее было пространство над морем из оцепенения. Стрела с корабля манов ударила в верхнюю кромку щита, за которым спрятался Зорко.
– Кто метнет стрелу до их кораблей?! – крикнул кунс Сольгейр.
Зорко не стал отвечать. Сколько оставалось до ближнего корабля, с которого, быстрее всего, и выпустили эту стрелу? Стрелять венну было не впервой, и он умел точно определить расстояние. Саженей полтораста, может, немного более. Зорко вытащил из тула длинную березовую стрелу, крашенную черным. По черному шел серебристый зигзаг. Вместе с бронебойным, граненым наконечником, стрела походила на гадюку. Зорко сам, под присмотром мастера-стрельника Кулаги, снабжал свои стрелы узорами и краской. Было это уже после того, как матери рода разрешили Зорко вернуться к рукомеслу, Кулага хвалил умение Зорко, говорил, что его стрелы должны бить метко и жалить больно. На охоте это получалось. Что же до моря…
Корабль раскачивало. Добро еще, что волна была невелика. Зорко умел бить и птицу, высоко в небе летящую, с лодки, и даже крупную рыбину сквозь прозрачную воду, но волнение в заводях Светыни и даже волны, ходившие при свежем ветре на Нечуй-озере, не могли равняться с морскими. Зорко долго выцеливал, ловя удачный миг, принимая нутром ритм покачиваний корабля. Никто из сегванов, как видно, не решался на выстрел с такого расстояния, и только сильный веннский лук способен был послать врагу смертоносное известие.
Когда корабельный борт поднялся на высшую свою точку, Зорко резко – до глаза – натянул тетиву, и стрела, и впрямь как выскользнувшая из неприметной норы гадюка, устремилась вперед. Зорко целил так же, как и удалой стрелок из манов, сиречь чуть выше щита, скрывавшего человека у борта. Сегванский щит выдержал удар. Зорко знал, что его стрела, когда выстрел будет рассчитан верно, щит пробьет.
Так и вышло. Несколько времени – Зорко почудилось, что очень долго, – ничего не случалось. Сегваны видели, что венн спустил тетиву, и тоже с интересом смотрели, что из этого выйдет. И вдруг – никакого звука слышно не было за дальностью – маны на среднем корабле всполошились, кто-то кинулся к щиту, что стоял как раз посредине палубы. Зорко еще не совсем понял, что случилось, но сегваны, знавшие толк в морских схватках, разразились новым кличем. Зорко уразумел наконец, что попал!








