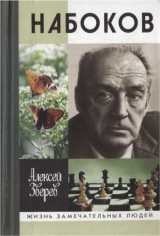
Текст книги "Набоков"
Автор книги: Алексей Зверев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
Скандала не последовало. Никто из попечителей не требовал отставки Набокова. В архивах отыскалось всего одно возмущенное родительское письмо. Его стоит привести: «Мы запретили своим детям записываться на все курсы, которые ведет этот Нобков (sic!). Ужас подумать, а вдруг юной студентке придется идти к нему на консультацию, когда он один в своем офисе, или они повстречаются вечером на кампусе, если никого нет рядом».
Ужасались напрасно. Семинары шли обычным порядком, а студентов (преимущественно молоденьких студенток) в аудитории только прибавилось. К тому же Набоков уже подыскивал себе заместителя – пока временного, на год. Выяснилось, что он покидает кафедру навсегда. Сменил его известный романист Герберт Голд, убежденный его приверженец, стремившийся стать и литературным последователем мэтра.
Слава обрушилась лавиной – контракты, интервью, толпы глазеющих. «Лолита» уверенно заняла первую строку в списке бестселлеров и не намеревалась ее уступать. Но тут случилось непредвиденное: в Италии был издан «Доктор Живаго», а осенью 1958-го Нобелевский комитет объявил о присуждении премии Борису Пастернаку. Травля, поднявшаяся в советской печати, вынужденный отказ поэта от оказанной ему чести, политический бедлам, слежка за переделкинской дачей – все это так подогрело интерес – не к книге, а к событию, – что наспех сделанный перевод романа, малопонятного массовой американской публике, шел нарасхват. «Лолита» стала в списке второй, потом четвертой и месяца через полтора вовсе из него исчезла.
Этого Набоков спокойно пережить не мог (похоже, рокового решения шведских академиков – тоже). Его отзывы о книге Пастернака пропитаны искусственно нагнетаемым отвращением. Чего бы он ни дал, чтобы публично «уничтожить эту ничтожную, мелодраматическую, фальшивую, неумелую книжонку, которой, по моим понятиям, место только в куче отбросов, что бы там ни говорили про пейзажи и про политику». Он не находил в романе ровном счетом ничего: одни лишь «избитые ситуации и мелкие герои», одни «банальности и провинциальность, столь типичная для советской литературы все последние сорок лет». Глеба Струве, чей авторитет в этой области заслуженно высок, он упрекал за хвалебный отклик, которого недостойна жалкая пастернаковская поделка, пропитанная не только антилиберальны-ми, но даже просоветскими настроениями. И долго еще, вплоть до «Ады», где фигурирует чувствительный романчик «Страсти доктора Мертваго», любое сочувственное упоминание о романе Пастернака вызывало у Набокова негодующий отклик.
Он, конечно, понимал, что публичное выступление с резким критическим разбором этой книги прискорбным образом сказалось бы на его репутации. О гонениях на Пастернака, которого власти заставили отречься от самого дорогого ему произведения и доживать свои последние полтора года с таким чувством, что он «пропал, как зверь в загоне», на Западе было известно. Перепечатали речь комсомольского вождя и будущего шефа госбезопасности, который отдал свинье предпочтение перед поэтом: свинья не гадит рядом со своей кормушкой. Опубликовали стенограмму митинга, где писатели требовали безотлагательной и смертельной расправы. Допустить, чтобы его имя появилось в этом контексте, Набоков не мог.
Но руки буквально чесались. В частных разговорах, быстро становившихся достоянием общественности, да и в интервью Набоков давал ясно понять, что он думает по поводу книги и всей связанной с нею истории. Кое в чем он перещеголял и тех проинструктированных патриотов, которые громили Пастернака на московском писательском собрании. Они обвиняли поэта в измене делу партии, Набоков – в том, что роман специально написан с целью способствовать этому делу. Кончилась валюта, нужная для подрывной работы партии за рубежом, вот и решили, наняв Пастернака, состряпать это варево и угостить им западный мир, а гонорары пустить на пропаганду. Простодушный Запад попался на приманку. Глупцы вроде Эдмунда Уилсона трубят, что только великий писатель и человек необычайного мужества мог создать подобную книгу, живя в тоталитарном обществе.
После смерти Пастернака Набоков счел, что моральные препоны исчезли, и стал открыто повторять свою версию, рожденную фантазией, которая распалилась от ненависти. Голд нашел в бывшем его кабинете экземпляр романа, исчерканный такими комментариями: «вздор», «пошлость», «провинция». При этом убеждении Набоков останется до конца своих дней.
Не он один оценивал роман отрицательно (хотя до таких резкостей не доходил, кажется, никто из людей с дарованием и литературным опытом). Лидия Чуковская приводит несколько отзывов Ахматовой, которые не порадовали бы дружившего с нею автора: попадаются страницы, вызывающие желание перечеркнуть их крест-накрест, герой какой-то картонный, местами скороговорка, непростительная Пастернаку. Правда, все это рядом с пейзажами, каких никогда не бывало в русской литературе, даже у Толстого, рядом с замечательно написанным девятьсот пятым годом. Оценки Ахматовой говорят прежде всего о ее вкусе. И мнение Набокова тоже во многом определено тем, что ему совсем чужда традиция, которой принадлежит книга Пастернака – историософская, проникнутая мыслями об обновленном христианстве.
Но все-таки у двух писателей, которые восприняли «Доктора Живаго» как неудачу, совершенно разный счет к роману, и дело не в том, что Ахматова, помимо провалов, видит свершения, тогда как Набоков пытается дискредитировать его безоговорочно. Тут важен нравственный, а не только собственно эстетический счет. Сколь бы серьезные доводы ни находила Ахматова, считая, что у Пастернака получился «неудавшийся шедевр», она, безусловно, никогда не допустила бы, чтобы ее отзыв помог увериться в некоторой своей правоте тем, кто запретил печатание «Доктора Живаго» в России, обрушив на автора преследования. Набоков – вряд ли он мог оставаться в полном неведении об этом – объективно подал голос в поддержку тех, кто травил Пастернака, скрывая истинные свои побуждения за разговорами о творческом срыве. Если, как он уверял, все дело было исключительно в том, что роман слаб с художественной стороны, а прочее не имеет никакого значения, то в тогдашних обстоятельствах подобная эстетическая разборчивость слишком уж явно отдавала сальеризмом, как понимал это слово Ходасевич: не зависть, а нетерпимость к чужому опыту, и настолько болезненная, что она побуждает к нравственно неприемлемым поступкам. Когда через десять лет Набоков прочел Солженицына, впечатление было бледным и в общем отрицательным, однако нигде он и полсловом не обмолвился, как оценивает эту прозу. Наоборот, словно бы вопреки собственным правилам, объявил, что полон сочувствия героическому автору, не касаясь литературных качеств его произведений. Но ведь эти произведения и не вытесняли набоковские из списков бестселлеров. А в 1969 году Нобелевскую премию, которой обошли Набокова, ожидавшего ее после «Ады» (крупные нью-йоркские издания даже оставили место на первых полосах для телеграмм о триумфе соотечественника в Стокгольме), получил не Солженицын, удостоенный ее год спустя, но другой писатель – Беккет. Не было причин считаться с Солженицыным литературной славой, оттого не было и психологических препятствий, чтобы достойно оценить его мужество. Много раз повторявшиеся Набоковым слова о том, что в литературе для него важен только художественный счет, – слова, и не больше.
С сальеризма и надо начинать, вникая в мотивацию Набокова, когда он обрушивается на роман Пастернака, и пытаясь понять, откуда эта одержимость. Суждения Ахматовой могли быть спорными, пристрастными, однако невозможно представить ее бросающей камень в унижаемого и растоптанного. С Набоковым подобное уже бывало, ведь перо его не дрогнуло, когда в «Пнине» ему вздумалось сочинить пародию на ошельмованную и униженную Ахматову. История с «Доктором Живаго» оказалась не такой уж неожиданностью для знавших, что, в отличие от героини хорошо ему известного романа, Набокову случалось «быть чувства мелкого рабом». Напрасно поверили бы его искренности прочитавшие письмо 1964 года корреспондентке журнала «Лайф», которая собиралась интервьюировать классика: «Не заставляйте меня критически высказываться о современных писателях. Довольно – я и так уж слишком донимал бедного Живаго». В действительности еще будет «Ада» с выпадом против «доктора Мертваго». Будут озлобленные отзывы о переводах Пастернака из Шекспира – как он посмел переводить, если Набоков раз навсегда установил, что допускается только подстрочник. Будет письмо 1968 года слависту Л. Лейтону, повторяющее версию, что роман Пастернака – завуалированная большевистская проповедь.
Так вымещал Набоков ничтожные свои обиды, когда уже не было на земле поэта, в тот трагический для него 1958 год напомнившего себе и другим о простой, вечной истине:
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
МОНТРЁ
«… присутствие мельчайших черт невольно читателю внушено порядочностью и надежностью таланта, ручающегося за соблюдение автором всех пунктов художественного договора».
«Дар»
Французский лайнер «Либерте» отправился из Нью-Йорка в Гавр 29 сентября 1959-го. Прогуливающиеся по палубе Набоковы притягивали взгляды: поклонники, а особенно поклонницы тут же узнали, что этим рейсом едет знаменитость. Капитан, пригласив Набокова на коктейль, деликатно выведывал, какие личные причины могли пробудить интерес писателя к теме, разработанной в его «Лолите». Саму «Лолиту» он, по-видимому, не читал, но достаточно был про нее наслышан.
Набоковы возвращались в Европу, безвыездно проведя за океаном девятнадцать с лишним лет.
Окончательное возвращение тогда не планировалось. Думали, что проведут в знакомых местах несколько месяцев, заплатят легкую дань ностальгии по молодости, побудут с сыном, который готовился к карьере оперного певца в Италии. Повидаются с Кириллом Набоковым и с Еленой, которая стала Сикорской – по мужу. Посетят издателей и агентов.
Набоков и впоследствии не упускал повода с гордостью возвестить, что он американец. Работа над сценарием «Лолиты» потребовала несколько месяцев спустя пересечь океан в обратном направлении, а в 1962-м Набоков съездил в Нью-Йорк на премьеру фильма. Он приехал и через два года, на презентацию «Евгения Онегина», посетил в тот раз Гарвард и Итаку. Но больше он в Америке не бывал.
Жизнь в Европе не явилась следствием сознательного выбора, скорее тут было стечение обстоятельств. Во всяком случае, Набоков, любивший поговорить о том, каким прозорливцем был он, решив принять эмигрантскую судьбу как благо, никогда не утверждал, что Америка его чем-то тяготила, а Европа искушала и влекла. Та Европа, которая предстала после перерыва в два десятилетия, показалась ему малознакомым ландшафтом. Париж опустел: русская колония стала намного меньше, писателей не осталось почти никого, только Борис Зайцев, к которому Набоков никогда не испытывал ни интереса, ни симпатии, доживал свой долгий век на авеню де Шале. Кембридж, куда Набокова позвали с лекцией о цензуре в России, выглядел в его глазах обветшалым, а по сравнению с громадными американскими университетами – еще и провинциальным: удивительно, как он этого совсем не замечал прежде.
Тема лекции была выбрана не без причины. Предстояли парламентские слушания о границах морально допустимого в книгах и фильмах. Все понимали, что решается английская судьба девочки, своей невыразимой прелестью заставившей о себе «мечтать мир целый» и давшей ему почувствовать волшебство искусства. Стихи об этой девочке и о посвященной ей книге – «Какое сделал я дурное дело» – написаны Набоковым под самый конец 1959 года, уже в Италии. Они кончаются бесконечно цитируемыми строчками про «тень русской ветки», которую, вопреки веку и корректору, читающему текст по-английски, увидят в конце набоковского абзаца. Надо было бы добавить, что желающие ее распознать должны обращаться к текстам, написанным в Америке, но не в последний, европейский период набоковского творчества. К текстам, появившимся позже «Пнина».
В Европе вкус славы стал для Набокова еще отчетливее, чем дома. Кембридж приветствовал своего питомца торжеством с речами за банкетным столом. Издательство «Гали-мар», выпустившее «Лолиту», закатило прием, пригласив весь цвет парижского артистического мира и журналистов. Незадолго до этого в крупном журнале появилась статья о романе и его авторе, написанная Зинаидой Шаховской, той самой, с которой до войны Набоков был на «ты» и которую считал одним из своих ближайших друзей. Книга ей в общем не нравилась, хотя статья была корректной по тону, отдающей должное таланту и мастерству прозаика, которого Шаховская по-прежнему ценила как крупнейшую фигуру в современной литературе.
Свою последнюю встречу с Набоковым – они не виделись с 39-го года – Шаховская описывает в мемуарной книжке, на которую уже приходилось ссылаться. Описывает с горечью, потому что в тот октябрьский день она «потеряла друга». Перед нею был неузнаваемо изменившийся Набоков, олимпиец, который «ожидал неограниченного себе поклонения». О том, что статью Шаховской он прочел и был задет, ее предупредили, но и представить было нельзя, до какой степени статья его уязвила. Позволявший себе откровенные издевки над писателями, чей престиж не менее высок, а реноме по праву безупречно, этот новый Набоков не выносил критики, когда дело касалось его самого. Сдержанность Шаховской, которая не поверила, что Лолита – «персонаж из тела и крови», он счел оскорбительной, отомстив ей тем, что сделал вид, будто они никогда прежде не встречались. Убийственно холодное «Бонжур, мадам», сопровождаемое вялым рукопожатием, не на шутку обидело Шаховскую, и это почти наверняка сказалось на том портрете Набокова в старости, который ею набросан. Однако портрету не отказать в выразительности: «В. обрюзг, в горечи складки у рта было выражение не так надменности, как брезгливости, было и некое омертвление живого, подвижного в моей памяти лица».
Мелькнули еще две-три тени из предвоенного парижского прошлого, было две-три встречи в кафе, в том числе с кузеном Николаем, который потом напишет книгу воспоминаний «Багаж», ценную для изучающих набоковский семейный круг. Говорить, видимо, было особенно не о чем, к Парижу ничто не привязывало, и, закончив дела, Набоковы двинулись на юг, в Италию. Английская «Лолита» появилась беспрепятственно – решение парламента оказалось более чем либеральным, – ее успех был гарантирован и в Лондоне, как повсюду в мире, даже в арабских странах, несмотря на все магометанские строгости. Последние месяцы того триумфального года прошли в разъездах: Рим, Таормина, Генуя, Милан. Зиму 59/60-го провели на Ривьере, в Ментоне, следующую – в Ницце, сняв квартиру на роскошной Променад дез Англе.
Набоков чувствовал, что ему нужна творческая пауза. Первые заметки к будущей новой книге были сделаны еще в итальянскую поездку. Был извлечен на свет номер русского «Нового журнала» с «Ultima Thule», отрывком, напечатанным еще в 1942 году, – он, как и связанный с ним фрагмент «Solus Rex», опять, после «Bend Sinister», понадобился для романа, замысел которого прояснялся у Набокова все отчетливее. Роман, опубликованный весной 1962-го, назывался «Бледный огонь».
Но пока много времени отнимал сценарий по «Лолите». В Голливуд Набоков ехал, уже обдумав общую идею, которой, как ему казалось, будет подчинена киноверсия, и набросав несколько новых эпизодов, чтобы как-то компенсировать неизбежные смысловые купюры. Зима в ментонском отеле «Астория», где преследовало ощущение неуюта, прошла в этих трудах. Они были напрасными, как могли бы предсказать люди, лучше знающие мир кинематографа.
Судя по письмам, Европа наводила унынье: «Такое чувство, что тут я никому не нужен, и оттого тоска, – жалуется Набоков Бишопу. – … Время не пощадило места, которые я помню. А впечатления от новых мест не настолько сильные, чтобы их хранить».
Следующая зима в Ницце прошла в работе над романом, для которого надо было сочинить большое стихотворение со сложной композицией, целую поэму. Как только она была закончена, Набоков написал своему издателю в Нью-Йорк, что роман продуман им до последней запятой, нужно несколько месяцев, чтобы перенести его на бумагу. Не скромничая, добавил: «Фантастически прекрасная вещь».
Весной 1961-го в присутствии родителей состоялся оперный дебют Дмитрия, вместе с ним дебютировал тенор Лучано Паваротти, будущая звезда. А летом, отправившись ловить бабочек в Швейцарию, добрались через Симплонский перевал до небольшого города на берегу Женевского озера и сняли номер в местной гостинице «Бельмон». Это был Монтрё. Набоков проживет здесь свои последние пятнадцать лет.
Городок чаровал: тихий, солнечный, живописный. Оказалось, тут давно обосновался английский киноактер и писатель русского происхождения Питер Устинов. Он порекомендовал Набоковым переменить «Бельмон» на гостиницу «Палас»: там апартаменты для желающих жить постоянно, целое крыло, с провинциальным шиком называвшееся «Ле Синь» (Лебедь). Сдвоенная квартира в этом крыле стоила не таких уж сумасшедших денег и предоставляла большие преимущества: было где расставить книги и ящики с коллекциями, устроить кабинет окнами на Гранд рю, зимой почти безлюдную, а летом запруженную туристами. Но лето Набоковы проводили в разъездах – Австрия, Франция, Италия.
Высокие горы обступали озеро, которое когда-то было свидетелем страданий Шильонского узника из байроновой поэмы и драматической любви Юлии и учителя Сен-Пре. Знал бы Набоков, иронически пересказывая «Новую Элоизу» в комментарии к главе восьмой, что ему предстоит провести остаток дней при незримом присутствии Руссо! Монтрё был укрыт от ветров и снегопадов: даже поздней осенью в теннис играли на открытом корте. Гостиницу окружал большой парк с экзотическими деревьями и уединенными скамьями. Есть фотография Набокова, сидящего на одной из них и что-то пишущего на карточке, которая будет потом положена в ящик вроде тех, какие используются библиотеками для каталога, только поменьше. Другая фотография писателя по случаю его столетия была повешена на этаже, где много лет жили Набоковы. Там же открыта мемориальная доска.
Отель, построенный в середине XIX века, а в начале XX усовершенствованный, должно быть, напоминал Набокову красивые петербургские интерьеры времен его детства. Те же высокие потолки и просторные салоны, благородная позолота, шандалы на десять электрических свечей. Обстановка была довольно эклектичной – все скопившееся за многие десятки лет и еще пригодное, – но в этом беспорядке с привкусом старомодности чувствовался свой шарм. Да Набоковы вовсе и не стремились к роскоши. Им нужны были покой, чтобы работать, не отвлекаясь, и ощущение стабильности. «Палас» давал и то и другое.
Конечно, они могли позволить себе приобретение поместья, как со временем сделали Устиновы, однако это не фигурировало и в самых далеких планах. Набоков сказал одному из интервьюеров, что и в Америке он никогда не думал о покупке дома, потому что для него дом в целом мире был только один – он остался далеко, в Ингрии, стране детства. Точно воссоздать батовскую усадьбу, может быть, и не представило бы таких уж сложностей, однако невозможно воссоздать эмоциональную память. Для нее даже самая тщательная копия всегда останется подделкой. Будет «безнадежная приблизительность», только и всего. А жизнь в отеле – это свобода от очень многого, в том числе от забот о «креслах, лампах, коврах, вещах». Ко всему этому Набоков оставался безразличен с юных лет.
Довольно быстро Монтрё превратился в место литературного паломничества, а от журналистов, добивавшихся интервью, не было отбоя. Что до интервьюеров, Набоковым был установлен жесткий порядок: вопросы следовало прислать загодя, и если они получались интересными, готовились письменные ответы, а сам разговор при встрече только уточнял мелкие детали. Никаких импровизаций, никакой спонтанности. Набокову не нравилось, как он говорит, а небеспочвенные опасения, что, пустив в ход приемы газетчика, его выставят человеком недалеким и пошловатым, заставили проверять каждую интонацию перед тем, как он ставил подпись на последней странице текста.
Круг людей из литературного мира, с которыми он готов был встречаться, оставался довольно узким. Журналы заваливали Набокова современной беллетристикой, выпрашивая хоть два-три слова для рекламного объявления. Он добросовестно просматривал роман за романом, и чаще всего они ему не нравились. Тогда его тон становился раздраженным, нетерпимым. Вера садилась за машинку и отстукивала что-нибудь такое: господин Набоков поставил себе правилом воздерживаться от оценок творчества коллег, но в данном случае готов сделать исключение и сообщает, Что присланную ему книгу воспринял как совершеннейшую чепуху – подобное мог бы сочинить и робот. Он просит не сообщать его мнение ни автору, ни издательству. Речь шла о Джозефе Геллере, одном из самых известных послевоенных американских прозаиков, и о его лучшем романе «Поправка 22».
Гостей поражало, до чего скромную жизнь ведут он и Вера, и приводила в восхищение их трогательная забота друг о друге. День был организован очень строго. С утра несколько часов, когда слово за словом заполняются карточки, на которых, стирая карандашные строки и заменяя новыми, Набоков писал свой новый роман (причем предварительно он продумал книгу до того тщательно, что мог приступить к ней или ее продолжить с любого места – с середины, с последней страницы, с первого эпизода). Потом прогулка вдоль озера, чтение газет – он хотел оставаться в курсе событий (и, часто толкуя о своей полной аполитичности, тем не менее телеграфировал президенту Джонсону, что поддерживает американскую военную операцию во Вьетнаме, осужденную всей интеллигенцией. А от одного французского журнала, решившего посвятить ему целый номер, потребовал, чтобы было указано, как ему отвратителен Кастро, вызывающий симпатии этой редакции – как оказалось, мнимые).
Вечером опять была работа: обычно сверка переводов его русских книг на английский, чаще всего сделанных Дмитрием, либо английских на французский, либо (с помощью Веры, свободно владевшей немецким) корректур изданий, выходивших в Германии, у Ровольта, который стал в эти годы одним из его близких друзей. У изголовья всегда лежало несколько книг на разных языках: поэзия, энтомология – был неосуществленный замысел роскошного альбома «Бабочки Европы» с набоковским текстом примерно в двести страниц, – мемуары. Реже – какой-нибудь новый роман.
Свой собственный роман, первый после отъезда в Европу, он закончил в начале декабря 1961-го. Строго говоря, «Бледный огонь» не обозначил перелома в творчестве, – во многих отношениях эта книга схожа с «Bend Sinister», напечатанным четырнадцатью годами раньше. Но тех, кто ожидал от Набокова чего-то схожего, по духу и по стилистике, с «Лолитой», новая книга явно обманула.
* * *
Ее художественная идея родилась, когда Набоков был занят «Онегиным», к каждой строфе составляя примечания – иной раз в десяток страниц. «Бледный огонь» построен точно так же: сначала поэма, сочиненная старым поэтом по фамилии Шейд, то есть «тень», затем огромный – вчетверо больше по объему, двести двадцать восемь страниц печатного текста – Комментарий к ней, который составил некто Кинбот, он же (переставьте слоги) Боткин, живущий по соседству с поэтом в небольшом университетском городе Нью-Уае, сильно напоминающем Корнелл. Есть еще обширное Предисловие этого Кинбота и им же сделанный Указатель, куда почему-то не включены имена некоторых действующих лиц романа, и напротив, включены те, кто там не упомянут. О том, что читателя просто разыгрывают, мороча ему голову напускной ученостью, догадаться можно, не идя дальше этого Предисловия.
Сложнее понять, для чего это делается и кем – автором или комментатором. А уж разобраться в чрезвычайно запутанных отношениях комментатора с поэтом или установить, кто он на самом деле такой, этот Чарлз Кинбот, дело почти безнадежное. Во всяком случае, толкователи Набокова по сей день, через сорок лет после выхода романа, не сошлись во мнении, существует ли поэт Джон Шейд, или его выдумал комментатор, оснастив примечаниями собственный текст в рифмованных двустишиях (а может, наоборот – существует только Шейд, придумавший маску Кинбота, чтобы любовно, слово за словом объяснять собственное творение, попутно ведя рассказ о разного рода происшествиях в Нью-Уае и не только). Чаще, однако, предполагают, что не Кинбот выдумка Шейда, а как раз наоборот. Пусть так. Но тогда правда или нет, что комментатор – Кинбот ли, Боткин, – как он постоянно намекает, в прошлом был королем далекой северной страны Земблы, откуда ему пришлось бежать после революции, начавшейся беспорядками на каких-то Стеклянных заводах? И что нынешний его статус скромного преподавателя вовсе не соответствует королевскому достоинству, которого он не утратил.
Первый эскиз будущего романа – он изложен в 57-м году – в качестве основного сюжетного хода намечал именно бунт, или дворцовые интриги, в королевстве Ultima Thule и бегство правителя после того, как вмешивается находящееся по соседству государство Нова Зембла. Попав в Америку, этот Solus Rex, одинокий король, которому явно грозит мат на шахматной доске, поселяется на реке Гудзон, отчего-то текущей вместо Атлантического океана в штат Колорадо, и в обществе возлюбленной вкушает сельскую идиллию, пока, после многих злоключений, сюда не явится агент, посланный новыми властями с целью убить низложенного венценосца, – а в конце читателя ожидал какой-то ошеломительный сюрприз.
Многое из этого плана уцелело и в книге, выпущенной пять лет спустя. Там Кинбот (или все-таки скорее Боткин – по крайней мере, в этом своем качестве) объявляет, что он и есть низложенный король Земблы Карл-Ксаверий, или же Карл Любимый, который правил двадцать два года, с 36-го по 58-й. Потом бунтовщики его вышвырнули, заставили скрываться, терпя унижения и опасности, выслеживали в Европе, а вот теперь намерены прикончить даже в этой глуши, в Нью-Уае. Поскольку же Зембла, хотя это имя и позаимствовано из одной старой английской поэмы, явно созвучна – во всяком случае, для русского слуха – с Новой Землей, то и отрывочные сведения об истории этой державы возвращают к мыслям о русской истории (о советской и подавно). Оттого перестановка в фамилии Кинбот просто напрашивается: при таком развитии сюжета ключевой фигурой должен стать кто-то из русских. Фамилия Боткин, которую носит в романе озлобившийся старый извращенец, сразу создает русские коннотации: образованным людям вспомнится литератор Боткин, тургеневский современник (или же его батюшка, знаменитый московский чаеторговец). И как же не предположить, что все относящееся к Зембле, к случившейся там революции и прибывшему оттуда убийце выдумал этот Всеслав Боткин, не примирившийся со своей судьбою эмигрант, который теперь преподает на русском отделении Вордсмит-колледжа. В своем безумии он отождествил бывшую родину с мифической Земблой, а себя воображает королем, чудесным образом спасшимся. Пусть все это только фантазия, но она дает какую-то психологическую компенсацию за перенесенные страдания.
Этот Боткин как истинный главный герой, изобретающий Шейда и прячущийся за Кинботом, был бы и правда совершенно на месте, если бы Набоков не предусмотрел еще одну версию. Как становится более или менее ясным под самый конец, она-то и была наиболее правдоподобной. Согласно ей, на кампусе действительно обитал некто, укрывшийся за фамилией Кинбот, однако его роль в описываемых событиях была не так уж велика: он лишь протоколист, записавший признания истинного виновника разыгравшейся трагедии с пальбой и трупом. А виновник – попросту сумасшедший; он улизнул из местной лечебницы, чтобы свести счеты с судьей, который поломал ему жизнь. Судьи, кажется, и правда тогда не было в Нью-Уае, пуля угодила в другого, не исключено, что это на самом деле был поэт и преподаватель колледжа Джон Шейд. Но одинокого короля и дальней Фулы, она же Зембла, не существовало иначе, как в бредовых фантазиях маньяка.
Впрочем, и это лишь вариант, пусть самый правдоподобный. Меж тем выяснить, кто же все-таки скрывается под маской Чарлза Кинбота, довольно существенно. Иначе остается расплывчатой основная линия развития сюжета. Событие, к которому стянуты все нити, – выстрел не то безумца, не то подосланного убийцы, гибель на месте того, кто, по заверению составителя Комментария, сочинил поэму «Бледный огонь» и носил имя Джон Шейд. Если автором поэмы на поверку был сам Кинбот, не мог же он, насмерть раненный, описать всю ту сцену перед домом, занимаемым Шейдом, которого он выдумал, и затем продолжить комментирование, дойдя до последней, 999-й строки. Но, с другой стороны, предположившие, что Шейд существовал не просто как персонаж поэмы, сочиненной Кинботом, но сам по себе и что поэма написана все-таки им, а не Кинботом, наталкиваются на препятствие, которое невозможно преодолеть: каким образом у комментатора уже имеется толкование того места поэмы, что еще не вышло из-под пера ее (надо все-таки заключить, что мнимого) автора? Сам же Кинбот в Комментарии сообщает, что строка 181-я шейдовской поэмы (и далее, до 230-й) писалась 5 июля 1959 года, однако его примечания к ним, следуя хронологии романа, составлены раньше, чем появился текст, который они комментируют. И выходит, Кинбот прекрасно знал, что и как ему надлежит объяснять, поскольку поэма, над примечаниями к которой он трудится, – плод его, а не шейдовского вдохновения.
Но в таком случае для чего маскарад с Джоном Шейдом? И к чему, еще больше усиливая путаницу, намекать, что Кинбот, или, если угодно, Боткин – очень вероятно, тоже выдумка, а история с поэмой и примечаниями затеяна только ради камуфляжа, к которому прибег на удивление изобретательный безумец, чтобы никому в голову не могли прийти истинные мотивы его действий? Согласно Кинботу-Боткину, целью преступника, который погожим летним днем произвел несколько выстрелов, потрясших сонный Нью-Уай, был именно он, комментатор, который вовсе не филолог, а бывший король Земблы. Получив задание карательных органов, оттуда, из этой тиранической державы, прибыл с целью ликвидации бывшего монарха палач-профессионал. Шейд, по этой версии, просто пал жертвой случайного промаха, а еще точнее – скверной профессиональной выучки убийцы, который и прежде делал азбучные ошибки, а в конце концов отправил на небеса вовсе не того, кто был заказан. Однако, если версию Кинбота подвергнуть сомнению, заподозрив, что он всего лишь морочит простаков, выяснится заблуждение как раз тех, кто находил, будто убийца, фигурирующий под именами Градус, Жак Дегре, Джек Грей и описанный с явным отвращением, – отталкивающий тип с угрями по всему лицу, – к тому же был неумехой в своем гнусном ремесле. Ничего подобного, ремесло он знал. И укокошил Шейда вовсе не по неразумию, ибо в него и метил, веря, что никакой это не Шейд, а бывший судья, ныне преподаватель юридического факультета Голдсворт. Судья, если довериться Кинботу, отправился в положенный ему годовой отпуск и сдал комментатору свой дом. Хотя – как знать? Возможно, никуда он не отправлялся, никого в свой дом не пускал – и зря: не свалился бы тогда у собственного порога с пулей в сердце.








