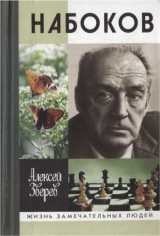
Текст книги "Набоков"
Автор книги: Алексей Зверев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
И лондонская фирма, и «Патнемз» были сполна вознаграждены за то, что пошли на риск: спрос на «Лолиту» перекрыл самые смелые ожидания. Тираж следовал за тиражом, и целый год роман возглавлял в США список бестселлеров – случай беспрецедентный для произведения, принадлежащего литературе первого ряда. Был побит старый рекорд популярности, принадлежавший «Унесенным ветром» Маргарет Митчелл. Посыпались предложения от театральных продюсеров (в итоге инсценировку «Лолиты», и довольно удачную, сделал драматург Эдвард Олби), а затем от Голливуда. Издательства проявляли жадный интерес ко всему написанному Набоковым, хоть и по-русски, а также готовность выпустить любую его новую книгу без малейшего промедления. Деньги потекли рекой. Ах, если бы все это произошло лет тридцать назад, с печальной иронией писал Набоков своей сестре Елене.
Относительно экранизации он поначалу был настроен не только скептично, но довольно цинично, и сообщил редактору «Патнемз»: «Главный мой, а по совести говоря, единственный тут интерес деньги. Меня ничуть не волнует „искусство“ кинематографа. Помимо всего остального, я накладываю вето на идею снимать ребенка. Пусть ищут карлицу».
В конце концов нашли не карлицу, а актрису Сью Лайон. По фильму ей примерно восемнадцать лет. Выдержать на экране соблазнение нимфетки (или нимфетку, соблазняющую взрослого) американский обыватель не мог. Даже в середине 90-х годов, когда был сделан второй фильм по «Лолите», на этот раз с юной исполнительницей, картина трудно пробивалась в прокат, и все по тем же самым моральным соображениям, хотя она не переступает границ дозволенного – не то что тысячи коммерческих лент, отмеченных в видеокаталогах знаком «Для взрослых».
Начав переговоры с Набоковым, режиссер будущей картины Стэнли Кубрик и его помощник Джеймс Харрис добивались, в общем, невозможного: сохранить притягательность, какой «Лолита» обладала для массового читателя, больше всего привлеченного тем, что она затрагивает довольно пикантную тему, но и загодя обезопасить себя от обвинений в аморальности. Поначалу даже предполагалось, что в финале Гумберт и Лолита сочетаются законным браком под умиленные всхлипывания невесть откуда взявшихся родичей. На роль Гумберта думали пригласить кого-то из звезд высшего калибра – Лоренса Оливье или Марлона Брандо – и тем самым гарантировать сборы (выбранный в итоге Джеймс Мейсон, яркий, однако не такой знаменитый актер, сделать этого не смог). Параллельно были начаты демарши с целью предотвратить киноадаптации «Лолиты», которые хотели наспех сделать во Франции и в Италии – в обеих странах объявили, что запускается в производство картина «Нимфетки». В итальянских магазинах уже появились и смазливые на вид куколки, чей передник украшала надпись «Лолита». А один французский журнальчик бульварного толка предлагал хорошие деньги, если Набоков напишет портрет патентованной кинокрасавицы Брижит Бардо, покрасочнее изобразив ее интимную жизнь. На Таймс-сквер, куда Набоков в день премьеры фильма по «Лолите» прибыл в лимузине, толпа зевак глазела на него, точно он сам кинодива. Слава – в этом он быстро убедился – часто становится в тягость.
Отвергнув кубриковские наметки, Набоков, соблазненный очень высоким гонораром и преисполненный надежд, что главное в его романе уцелеет, если сценарий будет написан им самим, принялся перерабатывать книгу для экрана. На это ушло несколько весенних и летних месяцев 1960 года, проведенных им в Голливуде. Сценарий был потом напечатан: от романа он действительно отличается вовсе не так разительно, как фильм, премьера которого прошла в Нью-Йорке в июне 1962-го. О работе Кубрика как режиссера и об актерах Набоков отзывался, выдерживая дипломатический такт, но лента его разочаровала: по сравнению с романом это «все равно что разглядывать прелестный пейзаж через сетку от москитов». Сам Кубрик тоже считал, что его «Лолита» – неудача и что ему вряд ли следовало вообще браться за литературу такого высокого качества.
Прочитав сценарий, окончательно доработанный автором, и отправив ему письмо с реверансами, Кубрик и Харрис занялись, не ставя Набокова в известность, переделками, и такими основательными, что получилась в лучшем случае версия «Лолиты», но не экранизация, верная литературному первоисточнику (Эдриэн Лайн, сделавший в 1997 году вторую кино-«Лолиту», с формальной стороны более строго следовал за романом, но в действительности оскопил его еще больше, сведя дело к тривиальному сластолюбию стареющего ценителя эротических изысков). Самого Набокова смущала необходимость многое выбрасывать или прибегать к нажиму там, где в романе преобладал легкий пунктир. Но у кино свои законы, своя публика – с этим он готов был считаться. В Голливуде ему понравилось и сам он тоже понравился: Кубрик всем и каждому говорил, что сценариев такого уровня, как «Лолита», еще не бывало, а продюсер начал с Набоковым переговоры о его участии в намечавшейся экранизации цикла романов Пруста.
После просмотра картины Кубрика мысли о сотрудничестве с кинематографом Набоков оставил раз и навсегда. Понятно, что должно было в этой картине шокировать его всего сильнее, – та прямолинейность, которая пришла на смену его двойной перспективе, когда мотивы, внешне абсолютно разнородные, даже исключающие друг друга, оказываются тесно соединены, сплетены словесным узором, так что появляется возможность естественно и незаметно переходить от идиллии к сарказму и от фарса к драматическому напряжению. Вот эта многослойность, или полифония, набоковского рассказа и оказалась утраченной в фильме. Пропала и атмосфера неясности, романтической таинственности, которая в романе создана отзвуками биографического сюжета и поэтических шедевров Эдгара По, а также остроумным построением действия: все время чувствуется приближающаяся драматическая кульминация, но приходится гадать, кто окажется жертвой.
В фильме дело начинается с выстрелов Гумберта в Куильти и дальше сюжет строится как предыстория этого главного события. Из многочисленных и таких важных отголосков По картина сохранила всего один: есть превосходно сыгранный актерами крохотный эпизод, когда Гумберт пробует читать Лолите стихи и, оторвавшись от книжки, видит перед собой пустой, отсутствующий взгляд да шоколадку, застрявшую в зубах. Правда, это одна из лучших сцен, полно раскрывающая прочтение, которое предложено Кубриком. Для него «Лолита» – это драма человека, который все ищет и не находит оправданий своей страсти в изысканном и высоком мире культуры, оставаясь единственным из персонажей, кто, при всей болезненности, все-таки действительно принадлежит этому миру, а не паразитирует на культуре, как опустившийся Куильти. И оттого никакого духовного контакта не может у него возникнуть с Лолитой, олицетворяющей примитивный эротизм, вульгарность и убожество, скрытое за поэтичным флером юности.
Чтение стихов По увенчивается несколькими кадрами, которые особенно выразительно передают мысль, положенную в основу фильма: томик отброшен в сторону, и вот уже Лолита кормит Г. Г., словно щенка, колбасой, пальцами запихивая ломтики ему в рот. Никакого соединения эроса и культуры. Там, где на каждом шагу подстерегает пошлость, напоминая о себе то фарфоровыми собаками на каминной полке, то стандартными клумбами перед типовыми домиками, то жадным пережевыванием сплетен об эстрадных знаменитостях, попытки Гумберта облагородить свои болезненные отношения с падчерицей не имеют ни единого шанса на успех. В первом эпизоде картины, когда Гумберт с пистолетом в руках преследует пьяного Куильти по огромной, заваленной старьем квартире, пули одна за другой вонзаются в портрет прелестной юной женщины, на которой очень открытое платье – символика, обладающая прозрачным смыслом. Г. Г. стреляет не в Лолиту, которую – зрителям это неизвестно, но читатели уже знают – после разлуки увидел не нимфеткой, а домохозяйкой, неотличимой от тысяч других. Он расстреливает собственную обманувшую иллюзию, будто преступная страсть способна окутаться поэтическими реминисценциями и подняться над тривиальностью, которая растворяет в себе без остатка любые духовные порывы, тем более когда они сами с червоточинкой и уживаются со столь извращенными побуждениями, как неодолимая физическая тяга к нимфеткам.
У Кубрика культура и духовность, осознанные как фикции в показанном им мире, представлены метафорами исключительно пародийного или фарсового свойства. Гумберт заполняет дневник цветистыми записями, которые пересыпаны отсылками к великой литературе, но делает он это, сидя на стульчаке, и оттуда же, из уборной, ставшей единственным прибежищем его свободы, ведет с Гейзихой беседу о Боге, кончившуюся на смятой постели. Лолита лукаво смотрит с фотографии на стене, пока Г. Г., давя отвращение, выполняет супружеский долг, а камера все время показывает само ложе – необъятных размеров кровать, рядом с которой хранится урна с прахом почившего мистера Гейза. Весь образный ряд картины выстроен так, что набоковский спектр пересекающихся, друг на друга накладывающихся мотивов упрощен, переосмыслен, чтобы в итоге обозначилась мелодрама с экстравагантным сюжетом, или же рукою мастера сделанная история болезненной страсти, которая становится пошлой, потому что миру банальностей всецело принадлежит та, которая эту страсть пробудила. Но для Набокова, пусть лицемеры утверждали, что он «развратитель и злодей», его «Лолита» была искусством, волшебством, от которого мрут, «как от яда в полом изумруде». И никакие частные удачи, никакие выгоды, если речь шла о деньгах и славе, не могли притупить его горечь оттого, что это волшебство пропало.
* * *
Публика, еще до официального появления «Лолиты» наслушавшаяся пересудов о ней и ее авторе, набросилась на скромную книгу со странным для американского уха названием «Пнин» – этот роман вышел весной 1957-го, опередив «бедную девочку» на пять месяцев. Нежданный его успех впервые дал Набокову ощутить, что слава бывает и в радость. Ведь надеяться на сочувственное внимание именно к «Пнину» было трудно. Слишком специфичный материал, Набокову известный из первых рук, однако скучный для непосвященных: академическая среда, университетский мирок со своими мелкими интригами и заботами. И слишком специфичный герой: преподаватель русского языка в провинциальном колледже, неудачник, полностью лишенный способностей и навыков, без которых не выживают в исподволь ведущейся неистовой борьбе за должности, продвижения, повышения. Перебравшийся из Европы русский иммигрант с именем, которого не выговорить, – Тимофей Палыч.
Из всего, что было написано Набоковым за американские годы, «Пнин» самая лиричная его книга. В ней очень много от пережитого самим автором, хорошо знавшим, какие мытарства – по крайней мере на первых порах – были уготованы русским беженцам, которым пришлось за океаном менять многие свои понятия, привычки, жизненные установления и даже язык. Описанный в романе Уэйндельский колледж, где Пнин читает со студентами пушкинскую элегию, переводя им «Брожу ли я вдоль улиц шумных» с тем «отважным буквализмом», что составлял и принцип самого Набокова («И где же судьба будет посылать мне смерть – в борьбе, путешествии или в волнах?»), – это чуточку измененный Корнелл, причем совпадают и внешние приметы: тоже городок по берегам озера (правда, искусственного), серо-аспидные холмы вокруг, черные узоры сучьев в инее под серебристым сиянием зимнего солнца. Вереница кирпичных домов, бензоколонка, каток, магазин самообслуживания – как все это было знакомо Набокову и по местам, где он преподавал почти полтора десятка лет, и по его поездкам с лекциями во времена, когда такие выступления только и позволяли заработать на жизнь.
Автор – случай, не имеющий аналогов в им написанном, – сам появится в книге на правах персонажа. Сначала Сирин будет мимоходом упомянут в числе эмигрантских писателей, о которых за чаем на веранде любят потолковать посетители усадьбы «Сосны»: ее владелец Эл Кук, а на самом деле Колокольников, раз в два года собирает у себя в поместье цвет российской интеллигенции, волею судеб очутившейся в Америке. Потом будет разговор двух гостей Кука о не приехавшем в это лето Владимире Владимировиче с его энтомологическими увлечениями: напрасно некоторые находят, что это только поза. Еще раньше герою снится, будто он бежит, спасая свою жизнь, и рядом с ним покойный друг Илья Исидорович – так звали Фондаминского, одного из ближайших парижских друзей реального Владимира Владимировича. Фондаминский, соредактор «Современных записок», не вернулся из немецкого концлагеря.
А под конец романа повествователь выступит на сцену собственной персоной. Окажется, что колледж именно его решил пригласить на место Пнина, не продлевая контракт с чудаковатым ассистентом, уже девять лет напрасно надеющимся стать хотя бы адъюнктом, не мечтая о профессорстве. Смешная в его годы вакансия Пнина в результате сложной комбинации, где сталкиваются интересы могучих руководителей отделений, упраздняется, а в качестве лектора по сравнительной истории литератур привлекают небезызвестного романиста, который пользуется определенным весом и в научных кругах. К тому же, в отличие от Пнина, по-английски он говорит без ошибок и странностей, так забавлявших уэйндельское общество.
Новый лектор, оказывается, знает Пнина очень давно, а его семью – даже со своего канувшего в Лету петербургского детства. Из каких-то глубин выплывает плюшевая приемная знаменитого врача-офтальмолога, доктор Павел Пнин в пенсне на черной ленточке, как у покойного Чехова, и кажется, там показался вернувшийся из гимназии пухлый тринадцатилетний его сын в черной блузе, перетянутой сверкающим черным ремнем. Все это было бесконечно давно – в Петербурге, неподалеку от розовокаменного дома на Морской, воскресным днем 1911 года.
Сорок лет спустя тот выросший и прославившийся пациент доктора Пнина был бы счастлив предложить Тимофею Палычу сотрудничество в любой форме. Но эта мысль отвергнута с порога: услышав о приезде старшего коллеги, Пнин даже не стал дожидаться окончания семестра. Причины не названы впрямую, однако о них несложно догадаться и напрашивающееся объяснение – зависть к преуспевшему – самое неверное.
В комментариях к «Евгению Онегину», которыми Набоков занимался одновременно с романом (Пнин у него вынашивает примерно такую же научную идею – написать сжатую историю русской культуры, отобрав материал так, чтобы его книга стала и очерком общей истории, отразив Великую Взаимосвязь Событий), о Пушкине как о персонаже не менее важном, чем три основных героя, сказано: это стилизованный и, значит, выдуманный Пушкин, глупо интересоваться биографической подоплекой тех или иных эпизодов. Тем не менее, коснувшись того места пушкинского романа, где описаны сельские досуги Евгения – «порой беглянки черноокой младой и свежий поцалуй», – Набоков указывает, что тут отзвук истории поэта с крепостной девушкой Ольгой Калашниковой, подробно ее излагая. То же самое несложно сделать, говоря о присутствии Набокова на страницах «Дара». Как не догадаться, кто этот энтомолог Владимир Владимирович, который еще и преподает русскую литературу. А «Сосны» – разумеется, усадьба Михаила Карповича, историка, занимавшего русскую кафедру в Гарварде: он охотно приглашал к себе провести лето других русских ученых. Набоков с семьей тоже бывал у него в Вермонте, там в основном написана книга о Гоголе.
Однако повествователь, который под конец ведет свой рассказ от первого лица, – это один из героев, а не автор, исповедующийся перед читателем. Поиск автобиографических отголосков, став сверх меры настойчивым, и правда завел бы слишком далеко. Биография рассказчика, которую при желании можно восстановить, погружаясь в роман, и биография Набокова имеют не так уж много общего.
Так, чистая выдумка – вся история отношений рассказчика с женой героя Лизой Боголеповой, которую Пнин, не питая иллюзий относительно ее духовного уровня и человеческих качеств, тем не менее преданно любил всю жизнь. Когда-то, еще до войны, в Париже, Лиза показывала свои вздорные, сюсюкающие стихи одному из эмигрантских литературных мэтров, и мэтр (он-то теперь и ведет повествование в романе), не утаив, что стихи ее плохи, все-таки предложил как-нибудь их с нею перечесть в укромном, спокойном месте. Потом были различные переживания (лирика, прихоти, сентиментальность, истерическая нечистоплотность), окончившиеся попыткой самоубийства и решением очертя голову выйти за Пнина, хоть он решительно не отвечал запросам Лизиной трепетной натуры. Насколько его посвятили в эти перипетии, неясно, однако что-то Пнин, разумеется, знал. Оттого и отверг саму мысль, что ему предстоит работать под началом того, кто в былые дни обошелся с Лизой так, по его представлениям, непорядочно.
Первое свое утро в Уэйнделе невыспавшийся рассказчик проводит, гуляя по его невыразительным улицам. Мимо проезжает скромная легковушка, набитая чемоданами и узлами. За рулем Пнин в кепке с наушниками, сзади на сиденье маленькая белая собачонка. Для них обоих уэйндельская глава завершена.
Если впрямую отождествлять повествователя, остающегося в «Пнине» одним из персонажей, с автором этого романа, выводы могут оказаться достаточно компрометирующими для Набокова. Трудно сказать, до какой степени он сознавал, что ставит себя в щекотливую ситуацию. Может быть, не сознавал вовсе, и тем не менее ситуация была именно такой. Свидетельство – записки Лидии Чуковской об Ахматовой.
Через три года после выхода «Пнина» удалось достать экземпляр книги, не понравившейся им обеим. Чуковская уточняет: «Не по душе мне та душа, которая создает набоковские книги». Почти вне сомнения, что оттолкнул ёе портрет Лизы Боголеповой. Она, пожалуй, сочла, что Набоков сводит какие-то старые счеты, при этом поступая не по-джентльменски.
Грустно, что «Пнин» действительно давал какие-то поводы так думать. Речь, понятно, не шла о вымещении мнимых любовных обид. Однако Лиза, показанная как существо эгоистичное и зачерствелое, в романе не только неверная супруга, которая пользуется чувством героя, без стеснения свалив на него устройство своих запутанных житейских дел. И не только фрейдистка, которая с пылом неофита отстаивает нелепые теории и любуется своей подписью «доктор Винд» под анекдотическими статьями с претензией на научность. Она еще и поэтесса, автор книжки стихов «Сухие губы». Два образчика ее виршеплетства приведены в романе: смесь пошлостей, жеманства и бесстыдства. Ахматова сразу узнала, в кого метит эта пародия, и назвала роман – по отношению к себе – сочинением пасквилянтским.
Знай Набоков об этом отзыве, он, конечно, мог бы возразить, что имел в виду не Ахматову, а тех неумных обожательниц и подражательниц, которых терпеть не могла она сама. Однако это возражение вряд ли что-то меняло бы по существу дела. К концу 50-х годов, когда вышел в свет «Пнин», никаких «ахматовок» не было видно на литературном горизонте, да и не стал бы Набоков палить из своих тяжелых орудий по мелким целям вроде какой-нибудь Марии Моравской, утверждавшей, что поэтесса «не может жить без ломанья, в этом ее призванье», – и осуществившей свое призванье в нескольких претенциозных книжках: из них особенно известна в 1910-е годы была «Золушка думает» («Золушка совсем не думает», – саркастически отозвался злой рецензент).
С «рифмующими кроликами», с богемной окололитературной публикой он покончил еще в «Подвиге», процитировав куплет про красивые тела, сочиненный Аллой Черносвитовой. В «Пнине» походя упомянут модный у русских парижан критик по фамилии Уранский, но с именем таким же, как у Адамовича в кругу его единомышленников, – Жоржик, и этот Жоржик спешит возложить на Лизины каштановые кудряшки «корону Анны Ахматовой», отчего Лизу сотрясают счастливые рыдания. Ее поэтические упражнения – огни небывалых оргий, обжигающее забытье на холодной постели, над которой распятие слоновой кости, выяснение градуса обольстительности очей, сердца и той розы, что «еще нежней розовых губ моих», – это, вне сомнения, выпад прямо против «Четок», «Белой стаи» и «Подорожника».
Замечательна его практически полная смысловая идентичность с оценками того же явления в погромном докладе сталинского эмиссара Жданова, в результате которого после августа 1946 года, ознаменованного партийным постановлением о ленинградских журналах, Ахматова (как и Зощенко) была на полтора десятка лет отлучена от литературы. Жданов клеймил «полу-монахиню, полу-блудницу», которая «мечется между будуаром и молельней»: пародия Набокова основывается на точно таком же представлении о той, чей образ раскрывается в ахматовской лирике. Совпадения иной раз так красноречивы, что комментарий только бы их испортил.
Пародии на Ахматову не раз появлялись и прежде – это естественно. Но никому, даже советским чиновникам при литературе, не пришло на ум добивать отверженную, если их к этому не принуждали полученные сверху указания. После 1946 года пародия в «Пнине» остается, кажется, единственной. А те, которые писались прежде, может быть, лишены такой поэтической язвительности, но в том, что касается меры и такта, в них дело обстояло намного благополучнее. Кстати, среди них одна из лучших принадлежит презрительно помянутому Набоковым – прославившимся, очень благополучным Набоковым – в интервью 1964 года критику и немного поэту Константину Мочульскому. Пародия напечатана в парижском журнале «Звено» в 1923 году, последовала за двумя тонкими критическими статьями о ранней Ахматовой (и мадригалом, шестью годами ранее вписанным в ее альбом), а цель – только способствовать освобождению от «нервно-импрессионистического стиля», который и она стремилась в «Anno Domini» преодолеть:
Я спросила: «Хотите чаю?»
Помолчав, он сказал: «Хочу».
Отчего, я сама не знаю,
По ночам я криком кричу.
В комментариях к «Евгению Онегину» Набоков упомянул об оскорбительных для Пушкина «ядовитых стихах», которые сочинил Федор Толстой («Американец»), и написал: «Непостижимо, как Пушкин, не забывающий обид Пушкин, с его обостренным чувством чести и „amour-propre“ („самолюбием“), смог простить это оскорбление». Видимо, ему диким показалось бы допущение, что Ахматова может испытывать примерно такие же чувства, как Пушкин, готовившийся к дуэли с «Американцем» все свои годы в ссылке и даже носивший особенно тяжелую трость, чтобы укрепить мышцы руки, которая не должна была дрогнуть. Однако, написав в том же комментарии, что современная Россия почти растратила понятие о чести – вот отчего не понимают мотивов вызова, посланного Ленским, – Набоков заблуждался. Звание пасквилянта, которым Ахматова почтила сочинителя «Пнина», не пропало бесследно для его русского реноме. Слишком высок был ее авторитет – и не только поэтический, а нравственный.
В самом романе, по счастью, не произошло смещения акцентов, которое могло принести убийственный результат, если бы такого рода литературные счеты (причем сводимые такого рода приемами) сделались основной авторской заботой. О своей главной цели ясно сказал сам Набоков в письме Паскалю Ковичи, редактору «Вайкинг пресс», куда была послана рукопись романа, который фрагментами шел в журнале «Нью-Йоркер»: этой целью был яркий и необычный характер, «комический святой», как напишет в рецензии коллега Набокова по Корнеллу Виктор Ланге. Сам Набоков так представил своего героя: «Смешной, физически не привлекательный, если угодно, гротескный… однако рядом с теми, кого считают „нормальными“, намного более человечный, более содержательный и превосходящий их в моральном плане. Кем бы ни казался Пнин, он, во всяком случае, не комедиант». И, закончив это описание, он без лишней скромности заключал, что таких персонажей еще не знала литература.
В действительности это не совсем так, поскольку Пнин наделен чертами, хорошо знакомыми всем читавшим романы Диккенса и прозу Чехова, уж не говоря о том, как много в нем от Дон Кихота. Почти несомненно, что размышления над книгой Сервантеса, которой в своих лекциях Набоков давал уничижительные оценки, как раз и подсказали замысел «Пнина». Для Набокова самым обычным делом было, камня на камне не оставив от произведения кого-то из тех, кто почитается великими, затем перенять из этого произведения и отдельные мотивы, и даже художественную идею, которая, конечно, у него получала совершенно самостоятельную трактовку. Подобное сплошь и рядом происходило у него с Достоевским. И с «Дон Кихотом», кажется, произошло то же самое.
«Комическая внешность», за которой «нежное, любящее сердце», – его распознает не каждый, но только человек с действительно тонким пониманием вещей и чуждый всякой предвзятости, – сам этот человеческий тип не был набоковским открытием. Пнин то и дело заставляет вспомнить о прославленном идальго, а те, кто его окружает, – о герцогской чете, измывавшейся над благородным безумцем (и даже отношения с Лизой отчасти повторяют сюжет с грязной скотницей, которую воображение Кихота превращает в Дульсинею). Однако «Пнину» вовсе не свойствен тот привкус жестокости, который так отталкивал лектора Набокова, когда он разбирал творение Сервантеса, напрасно обрушивая на этот первый великий европейский роман молнии негодования и презрения. В собственном его романе главенствующая интонация – ностальгия и сострадание. Ностальгия была обычна для прозы Набокова и прежде, сострадание – уникальная особенность «Пнина».
И сам герой тоже стал уникальным воплощением современного Дон Кихота, потому что в нем непритупленная набоковская тоска по навеки исчезнувшему раю детства соединена с оставленной в наследство русской классикой (прежде всего Достоевским, что бы по этому поводу ни думал автор) совестливостью, с ощущением невозможности существовать в мире, где героиня его юношеского увлечения погибает только из-за того, что эмиграция забросила ее в Германию, а нацисты ввели расистские законы. Этот Пнин как бы постоянно обретается в двух, даже трех временных измерениях и психологических состояниях. Вот Пнин в аудитории, с усилием читающий по написанному тексту лекции, которые редактирует молодой ассистент германского отделения, или в снимаемой им преподавательской квартире, каких было много, – чужие книги на стеллажах, чужие фотографии в рамочках, неуют, уже близкая старость. А вот Пнин, каким он был бесконечно давно, точно бы время не переломилось, и Петербург все тот же Петербург, а не Ленинград, и все сидят друг против друга в своей маленькой гостиной на Галерной его родители, с головой уйдя в какую-то захватывающую журнальную статью, а Мира Белочкина, после переворота очутившаяся в Швеции, еще не вышла за меховщика русского происхождения, обосновавшегося в Берлине, откуда ее препроводят в Бухенвальд. И наконец, еще один Пнин, которого страстная, хотя не афишируемая любовь к русской литературе увела в пушкинские времена и так с ними сроднила, что «В бою ли, в странствии, в волнах» естественно дополняется: «Или в уэйндельском кампусе». Пнин, в чьем сознании невольно путается календарь, и он отождествляет с днем смерти Пушкина дату, когда самому Тимофею Палычу исполняется пятьдесят пять, пусть на самом деле он родился не 10 февраля, а 15-го.
«Святым» его как раз и делает эта старомодная, смешная для уэйндельских прагматиков и абсолютно бескорыстная верность идеалу, который он, конечно, сам не смог бы ясно сформулировать, но каким-то образом выразил бы пушкинскими реминисценциями – прежде всего вспомнив «рыцаря бедного», чьей жизнью движут чистая любовь, сладостная мечта и «виденье, непостижное уму». Поначалу предполагалось, что история Пнина окончится так же, как завершилась судьба героя, о котором поет Франц в «Сценах из рыцарских времен»: «Всё безмолвный, всё печальный, Как безумец умер он». Но Набоков нашел ход, более естественный для описанной им ситуации. Последняя страница книги – эта заваленная убогим скарбом легковушка, водитель в зимнем плаще, собака, составляющая все его общество, пронзительно перекликаются и с вдохновенной декламацией в классе («Брожу ли я вдоль улиц шумных…»), и с той сценой после визита Лизы (в очередной раз обременившей своими заботами бывшего супруга), когда Пнин, всхлипывая, бьет по столу кулаком, а в промежутках слышится: «У меня не есть ништо… Ништо не оставался, ништо, ништо!»
Из написанного через несколько лет «Бледного огня» можно узнать, что он несколько драматизировал свою ситуацию: там мельком сказано, что профессор Пнин возглавляет русскую кафедру в другом университете, что у него теперь постоянная должность, что его загорелую лысину можно часто увидеть в читальном зале и даже собачка его раздобрела от довольства жизнью. Но благополучный исход, оставшись за рамками действия того романа, где имя Пнина вынесено на обложку, не ослабляет стойкого чувства, что в судьбе заглавного героя слышны отзвуки трагической хроники XX века. Искусство Набокова не допускает трагедийных кульминаций, в нем всегда присутствует ирония, оттененная то насмешливостью, то лиризмом. И все-таки не кто иной, как Пнин с его комическими чудачествами, заговорит – спьяна, в миг эмоционального шока, когда рухнули скромные надежды, что в Уэйнделе он наконец зацепится и доведет до конца свой труд о русской культурной истории, – не вполне владея собой, но заговорит «о Тирании. О Сапоге… Об армянской резне, о пытках, которые изобрел Тибет, о колонизаторах в Африке». И подведет итоги: «История человека – это история боли!»
Сам он, во всяком случае, наделен способностью выносить эту боль достойно – дар, которого за ним не отрицает никто. Даже столько его мучившая Лиза, чья душа – Пнин это знает – всего лишь «ссохшаяся, беспомощная, увечная тварь», или тупица Гаген, который предал самого преданного и надежного своего сотрудника. Фамилия героя фигурирует в подробных историях русской поэзии – ее носил, в усеченном виде унаследовав от фельдмаршала князя Репнина, чьим незаконнорожденным сыном он был, малоизвестный стихотворец павловского времени. Реальный Пнин общался с теми, кто потом оставит след в биографии Пушкина: с генералом Инзовым, своим соучеником по пансиону, с отцом декабристов Бестужевых, с Батюшковым, с Гнедичем. Жизнь этого Пнина складывалась несчастливо. Он тяготился положением внебрачного отпрыска прославленного вельможи. А когда князь не упомянул его в своем завещании, пустив прахом ожидания устроенного будущего, из-под пнинского пера вышло сочинение, выразительно названное «Вопль невинности, отвергаемой законами».








