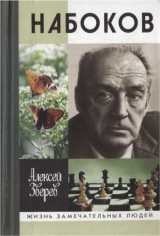
Текст книги "Набоков"
Автор книги: Алексей Зверев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
Для Германа эта философия не содержит в себе и слабого оттенка морального чувства, напротив, с нею утрачивает почву любая этическая обеспокоенность. А одной из основных целей эксперимента, осуществленного героем «Отчаяния», как раз и было доказательство, что он «хозяин своей жизни, деспот своего бытия» в мире, где «Бога нет, как нет и бессмертия», так что незачем тяготиться нравственными смыслами и следствиями своих поступков. После того как Герман заключил, что «небытие Божие доказывается просто» и что идея Бога только «сказка… чужая, всеобщая сказка», да еще пропитанная неблаговонными испарениями и древними страхами, для него естественно заключить, что человеческие деяния должны оцениваться критериями не этическими, а только артистическими, как полагал и доктор Фреголи. И столь же естественно сразу вслед за убийством обрушить весь свой пафос, пропитавшийся желчной иронией, на чувствительных, жалостливых, сострадающих, на тех, кто начитался Достоевского (в английской версии он фамильярно именуется «стариканом Дасти», то есть «замшелым»), сочинившего нечто надрывное под названием не то «Кровь и Слюни», не то «Шульд унд Зюне», то бишь «Вина и кара».
«О каком-нибудь раскаянии не может быть никакой речи – художник не чувствует раскаяния, даже если его не понимают». Этот пассаж, следующий непосредственно за выпадом против «Дасти», он же «Даски», сиречь «невразумительный», обладает в романе ключевым значением. В результате глупейшей ошибки (на месте убийства им оставлена палка с именем и адресом жертвы) «гениальное беззаконие» оказывается, в житейском измерении, топорным шарлатанством, но ничего не выходит и из намерения оправдать себя в собственных глазах, сделав драму, разыгравшуюся в безлюдном бору, сюжетом художественно безукоризненной повести с убийством. Повесть точно так же несамостоятельна и топорна, начиная с исходного допущения, что Герман, отвлекая от себя подозрения, построит рассказ на теме поиска виновного, каким является он сам: столетием ранее этот прием использовал, и с несравненно большей виртуозностью, Эдгар По, сочиняя новеллу «Вильям Вильсон». Заглавие романа Сирина говорит об отчаянии, которое охватывает героя не в момент изобличения, а в ту минуту, когда он убеждается, что шедевра ему не создать. Ходасевич объяснил смысл заглавия логично и ясно: герой «погибает от единой ошибки, от единого промаха, допущенного в произведении, поглотившем все его творческие силы. В процессе творчества он допускал, что публика, человечество может не понять и не оценить его создания, – и готов был гордо страдать от непризнанности. До отчаяния его доводит то, что в провале оказывается виновен он сам, потому что он только талант, а не гений».
Это очень убедительно, но при условии, что будет принято допущение, сделанное Ходасевичем: «материал», которым оперирует сиринский «подлинный, строгий к себе» художник, не имеет значения, ибо важен только сам творческий акт. Ходасевич, как и автор, столь решительно отделил эстетику от этики, что получилось логическое построение, которое, во всяком случае, небезупречно: можно ли не считаться с тем, что «творчеством» в данном случае стало убийство? Ходасевич находил, что, по меркам гениальности или только таланта, нет разницы между поэтом, сочинившим безупречный сонет, и уголовником, артистически прикончившим простака, которого он заманил в ловушку. Вся соль только в том, чтобы он не забыл прихватить с собой палку, покидая брошенный на месте убийства автомобиль.
Язвительные замечания Германа по поводу «Дасти» рассыпаны по всему тексту романа, где с сарказмом говорится про «прелесть надрывчика», про лакеев, которые в России любят летними вечерами играть на гитаре, про женщину, отравленную любовником, которого она содержала, – уж не Свидригайловым ли? – про бутафорские кабаки, где ведут застеночные беседы о мировых проблемах, и, с особенным нажимом, про «бледные страницы всех философий», исходящих из признания Бога. Для героя Сирина они «как пена давно разбившихся волн».
Приписать эти выходки только герою, сказав, что автор просто изображает некий человеческий тип, который ему ничуть не ближе и не симпатичнее, чем был любезен Достоевскому Парадоксалист «Записок из подполья», очень соблазнительно. Однако для этого нет оснований ни в романе, ни в последующих, впрямую от Набокова идущих интерпретациях наследия Достоевского. За два года до того как «Отчаяние» появилось по-английски (это произошло в 1966-м), в интервью «Плейбою» Набоков еще раз проехался по адресу этого писателя, особо отметив, что «его чувствительных убийц и душевных проституток невозможно вынести и одной минуты». Это почти прямая цитата из монологов Германа, не испытывающего при мысли о жертве никакого содрогания. Ему вспоминаются лишь задубевший ноготь на большом пальце Феликса и «нелепый, безмозглый автоматизм его покорности».
Хотя в интервью Набоков обычно пытался дискредитировать Достоевского главным образом как «неряшливого» писателя (при этом, как было показано американским исследователем Сергеем Давыдовым, кое-что заимствуя из приемов построения рассказа, использованных в «Преступлении и наказании», в частности, нечетное количество глав, разбивающее зеркальную симметрию, которой страстно добивается герой-рассказчик), на самом деле спор этот касался преимущественно не эстетики, а мира высших ценностей, соотносимых с искусством. Лекции не оставляют на этот счет никакого сомнения, потому что в них самые ядовитые стрелы припасены для того, чтобы поразить не беллетриста Достоевского, а Достоевского-пророка, раздражающего Набокова «упоением трагедией растоптанного человеческого достоинства». Объективному слушателю и читателю лекций придется отметить для себя, что лектор повторил те плоско тенденциозные суждения о Достоевском, которые ведут свою генеалогию от народнической критики во главе с Михайловским, любителем потолковать о «жестоком таланте» и неуместных надрывах, когда надо «дело делать». А порой лектор говорит едва ли не слово в слово то же, что говорило об «Идиоте» и «Братьях Карамазовых» официозное, вооруженное «ленинской методологией» советское литературоведение.
«Отчаяние» уже предуказывало подобное развитие связанного с Достоевским сюжета. Этот роман особенно ясно показал, что проза Сирина – явление качественно иной природы, чем та русская классика, в которой главенствует, говоря толстовским языком, «нравственное отношение к предмету». Одна и та же или, во всяком случае, схожая тема развивается в истории Раскольникова и в «Отчаянии», однако с принципиально различным итогом. У Достоевского итог определен нравственными уроками рассказанной истории и тем духовным потрясением, которое переживает ее герой (оно необходимо как пролог грядущего восстановления погибшего человека – истории, вслед первому роману из «великого пятикнижия», в различных версиях повторенной так часто, что можно говорить о сквозной и доминирующей теме). У Сирина итог катастрофичен по причине творческой несостоятельности персонажа с яркими художественными амбициями, и вся проблематика перемещается в область эстетических категорий. Не следует, отметив это перемещение, заключать, что Сирин к этическим проблемам вообще оставался равнодушен или – подобное заключение было бы и вовсе странным – что он не принимал всерьез моральные критерии, уподобляясь каким-нибудь провинциальным денди, каких в годы ранней юности мог наблюдать в петербургских артистических салонах, где царили доморощенные последователи Оскара Уайльда. С такой публикой у него никогда не возникало ни чувства взаимопонимания, ни тем более ощущения душевного родства. Всю жизнь Набоков испытывал нелюбовь к декадансу: и как к умонастроению, определявшему характер эмоций вкупе с поведенческими нормами, и как к эстетике, более всего на свете страшащейся естественности, органичности, завершенности, полноты художественного образа. Умонастроение не передалось ему вовсе. С эстетикой дело обстояло сложнее – и неприязнь к Достоевскому, переросшая в решительный отказ считаться с литературой крупных этических коллизий как с художественным фактом, выдает скорей всего не сознававшуюся самим Набоковым зависимость как раз от декаданса. От Уайльда, который первым объявил (не сделав ни одной оговорки), что «всякое искусство совершенно бесполезно».
В своем предисловии к английской версии «Отчаяния» Набоков, с явным нажимом на эту «бесполезность», особо подчеркнул, что его книга «ничем не отвечает на социальные запросы современности, не содержит никакой истины, которую могла бы, виляя хвостом, донести до читателя». К 1966 году, когда это писалось, подобные разъяснения и автокомментарии успели стать почти обязательным атрибутом практически любого набоковского высказывания, относилось ли оно к оценке других писателей или к собственному творчеству. Скучные своей предсказуемостью (хотя, порассуждав о «бесполезности», Набоков счел нелишним указать, что его героя «Ад никогда не помилует»), они не остановили тех интерпретаторов и перелагателей, которые обнаруживали в его прозе именно «социальные запросы» и были в этом правы – хотя бы отчасти. Их правоту доказал Райнер Вернер Фасбиндер, немецкий кинорежиссер, который экранизировал «Отчаяние» в 1978 году.
Набоковское предисловие упоминает о «весьма существенном пассаже», который «по глупости был исключен в более застенчивые времена». Этот пассаж занимает почти две страницы: супружеская спальня, соитие, двойник Германа, наблюдающий за «очень активной парой» как бы в театральный бинокль, причем присутствие другого лишь усиливает яростные восторги Германа и повышает в цене пухлые прелести его половины. Фасбиндер нашел в этом эпизоде ключевую метафору для своей интерпретации романа. Главенствующий смысл в ней принадлежит мотиву мертвенности, механичности, бездушности существования, проникающей даже в такие сокровенные пределы, как эрос. Заняв кресло в углу, двойник бесстрастно наблюдает кукольное исступление на брачном ложе, над которым красуется фотография Гитлера, – ход, как будто бы невозможный в художественном мире Набокова, старательно изолируемом от злобы дня, однако вполне естественный, если считаться с датами, фигурирующими в романе: 1930, 1931. Штурмовики, свастика, зримые приметы катастрофы, которая приблизилась вплотную, весь этот тщательно воссозданный ландшафт немецкой будничности в ту пору, когда Герман озабочен своей состоятельностью как художника (но испытывает ее методами, естественными для криминальной среды), не вульгаризирует замысел Сирина, а лишь придает ему необходимую соотнесенность с историей.
В романе Герман представлен и как своего рода бунтарь против радикального несовершенства мира, отказавшего ему в самом главном – в подлинной, реальной творческой способности, без которой существование пусто. Он оказывается пусть жалким, но все-таки подобием тех метафизических бунтарей, которые составили галерею бессмертных характеров Достоевского. У Фасбиндера бунт показан не как жест непримирения с судьбой, обделившей героя столь ему необходимым чувством своего соответствия творческому призванию, но как попытка вырваться за пределы механистичности, мертвенности, с которыми Герман поминутно сталкивается, – и как заведомая неосуществимость подобных стремлений.
Дирк Богарт, играющий Германа, увидел в нем не маньяка, не самозваного гения, чьи претензии будут жестоко развенчаны, не фанатика, одержимого безумной идеей, а человека, ставящего опасный опыт над самим собой: он пробует существовать как бунтарь, тогда как по природе остается обывателем, и не двойник, им выдуманный, а это доподлинное раздвоение становится предметом его мучительных рефлексий. Через замутненное стекло Герман смотрит на мир, укрытый пеленой дождя со снегом, едва угадывающийся в смутных очертаниях, таящий в себе какую-то угрозу: символика, появившаяся в самом начале фильма, пройдет через всю картину, придавая ей стилистическую и философскую целостность.
Герой постоянно чувствует рядом с собою стекло, зеркало, отражающую поверхность: стеклянные перегородки загроможденного шоколадными фигурками интерьера, стеклянная клетка, в которой стучит на машинке секретарша его офиса. Грубое стекло аквариума, где сонно плавают рыбы. Наконец, осколки витрины, разбитой сапогом штурмовика: тоже в своем роде вторжение кипучей жизни, улицы, по которой грохочут кованые подошвы, в искусственно упорядоченный, анемичный мир вещей за зеркальным окном. Но и вторжение той реальности, которая заставляла содрогаться людей, мало-мальски понимавших, к чему ведет стремительный ход немецких событий.
«Все – обман, все – гнусный фокус, я не доверяю ничему и никому», – возвещал Герман, передразнивая Ивана Карамазова, возвращавшего билет в Царство Божие, которого для сиринского героя просто не существует. Этот герой никогда не примирится с положением раба Царя Небесного, «даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигает и потом гасит любознательный ребенок». Его вызов мироустройству, оказавшемуся «гнусным фокусом», закончится визитом заподозрившего что-то неладное французского полицейского в городишке, где Герман намеревался пересидеть неделю-другую, а потом привести к блистательному завершению свой грандиозный план. И вот он испытывает отчаяние, стоя «над прахом дивного своего произведения», которое погибло из-за дикого, невозможного просчета – как же угораздило забыть про эту злосчастную палку! – и вовсе не думает о том, что сюжет гениально задуманной повести был, говоря без обиняков, бесчеловечным. К сюжету он вообще безразличен, его волнует только исполнение.
Однако самого Сирина жизнь очень скоро заставит считаться с характером сюжетов, которые она будет навязчиво предлагать.
* * *
Первый вариант «Отчаяния» был закончен в сентябре 1932-го. Ровно через четыре месяца, 30 января 1933 года, рейхсканцлером сделался Гитлер. Еще через полтора года, объединив посты рейхсканцлера и президента, бывший ефрейтор стал диктатором нацистской Германии.
Значение случившегося было не всеми и не сразу осознано. Если общие положения нацистской доктрины не составляли никакой тайны и, разумеется, не могли внушать каждому, кто не поддался истерии шовинизма, ничего, кроме брезгливости, то первое время маловероятной казалась возможность их практического применения в европейской стране с глубокими культурными традициями. За эту наивность пришлось дорого расплатиться всем, кто не уехал сразу.
Набоковых происходившие в стране перемены задели довольно скоро. Во-первых, Германию покинули практически все еврейские семьи, а это означало резкое сокращение числа учеников, тем самым – и сокращение семейного бюджета. Во-вторых, закрылась фирма, где Вера Набокова служила секретаршей на неплохом окладе: хозяева были неарийцами, а режим сразу начал призывать к бойкоту еврейских предприятий и магазинов. У дверей лавок, принадлежавших тем, чьи фамилии раздражали нордический слух, уже дежурили рослые юноши в черной униформе, настойчиво рекомендуя покупателям проходить мимо. С марта начались ежедневные погромы, а скоро заработали и первые концлагеря.
Костры из книг запылали весной: Вера Набокова вспоминала, как захлопывала окна, чтобы не слышать патриотических песен, под которые возбужденная толпа на площади швыряла в огонь тома, признанные вредоносными. Какое-то время удавалось находить случайную работу: стенографисткой на конгрессе, переводчицей на деловой встрече. Но каждый раз все сложнее было обойти основную трудность, связанную с тем, что в девичестве госпожа Набокова носила фамилию Слоним.
Сильно поредевшую русскую колонию пока не трогали, но было ясно, что это только вопрос времени. В колонии нашлись свои энтузиасты нового порядка, и среди них – убийца Владимира Дмитриевича, давно выпущенный из тюрьмы. Он уже расхаживал в нацистской форме и быстро делал политическую карьеру. Другие предпочитали не демонстрировать профашистские симпатии так открыто, однако выбор сделали твердо и окончательно. Когда в конце 1933 года стало известно, что получивший Нобелевскую премию Бунин на обратном пути остановится в Берлине и следует устроить чествование, некто Парамонов, владелец нескольких больших гаражей, ссудил порядочную сумму на аренду зала, однако потребовал, чтобы на трибуне «не было ни жидов, ни полужидов». Речь шла об Иосифе Гессене, редакторе уже закрывшегося «Руля», и о Набокове. Оба сочли не только честью, но долгом непременно присутствовать и выступить.
Условия делались все хуже месяц от месяца. В Берлине стало негде печататься, деньги кончились. Да и редкие контакты с «берлинскими туземцами» становились для Набокова в тягость. «Громкий Гитлер» назойливо напоминал о себе не только вездесущими портретами, но и прямыми отголосками произносимых им речей. Воинственные выпады, которыми они были густо уснащены, в обывательской среде отзывались все более нескрываемыми угрозами по адресу всех, кого не заботит возложенная на Германию великая миссия. А его нападки на «дегенератов», как именовались художники, чуждые нацистской идеологии, делали само занятие искусством небезопасным, особенно для лиц, лишенных всяких гражданских прав.
Летом 1933-го Сирин написал рассказ «Королек», который выразительно передает будничную атмосферу начальной поры гитлеровского правления. Был в Берлине бедствующий русский живописец Мясоедов, что-то вроде непризнанного гения Васьки Перебродова, который упомянут в «Отчаянии»: он пешком пришел в немецкую столицу из Данцига и перехватил у деверя Германа, пьяницы Ардалиона двести марок – «дело чести». Этого Мясоедова уличили в том, что он, искусный рисовальщик, занялся изготовлением фальшивых купюр. Был скандальный процесс, о котором много писали в газетах. Год с небольшим спустя Мясоедов превратился в поляка Романтовского из сиринской новеллы, в «королька», как на жаргоне называют фальшивомонетчика. Автору искренне жаль, что герой выбрал такое опасное и антихудожественное ремесло: пользоваться талантом для того, чтобы разрисовывать банкноты, – еще более откровенное издевательство над искусством, чем преступный замысел Германа. Как грустно, что в мире «распадается гармония и смысл», что в нем царит «пестрая пустота».
Ведь до самой последней страницы рассказа читатель почти уверен, что новый жилец мрачного дома с балкончиками, откуда на него пристально смотрят двое пучеглазых мужчин, братья Густав и Антон, – это поэт, философ, книгочей, которого только бедность заставила обосноваться в черном квартале. На самом деле он по социальному статусу такой же человек дна, как все здешние, но все-таки инстинкт не обманывает, нашептывая им: чужак. Он впрямь не вписывается в понятное братьям, одобренное ими устройство мира, при котором «всяк будет потен, и всяк будет сыт. Будет работа, будет что жрать, будет чистая, теплая, светлая…» – да еще с ковром, с буфетом. Густав непременно всем этим обзаведется, женившись на своей большеротой Анне, у которой анатомический смех и блестящее рыжее оперение под мышками.
Романтовский – хилый, запуганный, мечтающий только о том, чтобы его оставили наедине с собой, – явно из «бездельников, паразитов, музыкантов», которым воспрещен вход в этот близкий рай. Увидев его у книжного лотка, убедившись, что ночью у него допоздна горит свет, братья уже точно знают, что между им и ними полная несовместимость. И хотя жилец пытается скрыть вызываемую соседями («огромные… с бессмысленными говяжьими голосами, с отхожим местом вместо мозга») дрожь унизительного страха, от их тупого взгляда его ужас не ускользнет. Ясно, что последует дальше: темный пустырь, несколько особенных, скользких звуков, оставшееся на земле тело. И только одно необычно: Романтовский – как он смел не походить на сотни таких же, как они! – перед смертью выкрикнул несколько слов по-польски. Для братьев уже этого достаточно, чтобы исчезли любые сомнения насчет собственной правоты.
Подобный социальный тип, поднявшийся со дна вместе с ростом фашизма, и порядок вещей, обеспечивающий все условия для его стремительного возвышения, вызывал у Набокова острый интерес, который был, разумеется, не только эстетическим. В «Других берегах» он вспоминает одного немецкого студента, которому за плату помогал с письмами по-английски, писавшимися кузине в Америку. Тихий очкарик, гуманитарий, бесцветная единица статистики. И лишь одно выделяло Дитриха среди тысяч таких же: он коллекционировал фотографические снимки, на которых запечатлены казни. Момент, когда с плеч осужденного скатывается голова, этот собиратель изображений декапитации воспринимал как высокое эстетическое зрелище. Похоже, даже черпал в нем некое вдохновенье. Спрятанный в рукаве макинтоша фотоаппарат жадно ловил кульминационные моменты повешений и гильотинад, а самой заветной мечтой Дитриха было путешествие в Америку, чтобы своими глазами увидеть, что происходит на электрическом стуле, когда привязано тело и поворачивают рубильник. Какой восторг – «прекрасная атмосфера той полной корпоративности между палачом и пациентом, которая… заканчивалась феноменальным гейзером дымчато-серой крови».
О милом Дитрихе ничего не известно, помимо посвященной ему странички набоковской автобиографии, которая заканчивается пригрезившейся автору картинкой собрания нацистских ветеранов в каком-нибудь избежавшем бомбежек уютном городке: его знакомец под одобрительный гогот своих товарищей демонстрирует чудесные снимки, доставшиеся так неожиданно и дешево, пока шла война. Может быть, «дизер Дитрих» – продукт воображения, уж очень естественно он вписывается в ландшафт и колорит того романа, который Сирин писал летом 1934 года. Там, в этом романе, есть персонаж, которого зовут мсье Пьер, он палач, обосновавшийся в тюрьме по соседству с жертвой, чтобы лучше к ней присмотреться и как бы с нею сродниться. И у мсье Пьера – знакомое хобби: фотографии. Много фотографий, на которых этот коротышка с необыкновенно развитой мускулатурой предплечий запечатлен то в саду с огромным помидором в руках, то за чтением в качалке, то беседующим с прирученной птичкой. «Как-нибудь я принесу свой аппарат и сниму вас, – сообщает он арестанту, к которому, похоже, искренне расположился. – Это будет весело».
Роман представлял собой нечто необычное для Сирина и по теме, и по жанру, и по характеру повествования. Опубликованная в «Современных записках» год спустя книга называлась «Приглашение на казнь».
За вычетом романа «Камера обскура», который сам он ценил ниже остальных своих произведений, это был первый его русский роман, вышедший (в 1959-м) по-английски, в переводе Д. Набокова с поправками и предисловием автора. В предисловии, как бы загодя ставя барьер на пути тех, кто любит сопоставлять, чтобы поговорить о тенденциях и об эволюции жанровых форм, Набоков сам назвал напрашивающееся имя Джорджа Оруэлла, припечатав автора двух знаменитых антиутопий определением «популярный поставщик идеологических иллюстраций и романизированной публицистики». Таким же упреждающим маневром была издевка над критиками из эмигрантов, которые, прочтя роман, усмотрели в нем присутствие Кафки. Набоков оповещал их о своем незнании немецкого, полном невежестве по части современной немецкой литературы, а также о том, что «Замок» и «Процесс», книги, безусловно, выдающиеся, стали ему известны, когда «Приглашение на казнь» уже появилось в печати.
Впрочем, одно влияние – любопытным образом никем не замеченное – он готов был признать: влияние Пьера Делаланда, автора трактата «Слово о тенях», откуда взят эпиграф к книге (цитата из того же автора приводится и в романе «Дар»). Это мистификация, никакого «волшебного» Делаланда, как о нем говорится в предисловии к английскому изданию «Приглашения на казнь», не существует. Набоков его выдумал с единственной целью высмеять будущих критиков. И заодно прекратить любые разговоры о мнимом подражании Кафке.
Подражания и не было, однако какая-то перекличка с миром австрийского писателя все-таки ощутима, и сомнительно, чтобы она оказалась самопроизвольной. В том, что немецкий язык Набоков знал гораздо лучше, чем можно предположить по его высказываниям на этот счет, трудно сомневаться, прочитав лекцию о Кафке. Американский издатель лекций заглянул в принадлежавший Набокову томик Кафки и обнаружил на полях критический отзыв об английском переводе, в котором утрачен «чудесный плавный ритм» оригинала: как бы смог его оценить не знающий немецкого лектор?
Лекция вообще убеждает, что творчество Кафки (хотя оно рассматривается в привычной для Набокова системе понятий, которая требует непременно противополагать «литературу» и «святость», словно они несовместны) читавший ее изучил основательно. Конечно, лекция специально готовилась и для нее многое было прочитано впервые, но как-то не верится, чтобы, разрабатывая курс, в который входил и Кафка, Набоков начинал с чистого листа.
Он, правда, разбирает не «Процесс», а знаменитую новеллу «Превращение» и делает вывод, что Кафка соприроден Гоголю: у обоих «абсурдный герой обитает в абсурдном мире, но трогательно и трагически бьется, пытаясь выбраться из него в мир человеческих существ». О Цинциннате, герое «Приглашения на казнь», может быть сказано в точности то же самое. Это истинно кафкианский персонаж, если принять интерпретацию, предложенную Альбером Камю, для которого Йозеф К. из «Процесса» – типичный «герой абсурдного творчества»: «Он живет, и он приговорен. Он узнает об этом с первых же страниц романа, неуклонное развитие которого есть его жизнь, и хотя он противится такому исходу, ничего удивительного в нем не видит».
Зачин обоих романов, «Процесса» и «Приглашения на казнь», в сущности, идентичен. Первая фраза у Кафки: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». А у Сирина: «Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом» (что до Йозефа К., его приговор даже исполнен будет анонимно – двумя господами, чьих лиц не видно, на каком-то пустыре под покровом тьмы). Ни тот, ни другой персонаж не ведают, за какую провинность карает их закон, но объяснений, обоснований и не требуется. Как раз в том, что обоснования отменены, может быть, и заключается сущность того устройства мира, которое изображено, вспоминая Достоевского, под знаком «фантастического реализма».
Как бы он ни поносил Достоевского, сиринская зависимость от него в «Приглашении на казнь» выступила (уже при описании камеры Цинцинната, где, кроме узника, обитает прожорливый паук – в точности свидригайловский образ вечности как баньки с пауками) столь же ясно, как в «Процессе» – зависимость от «Преступления и наказания», которой Кафка, впрочем, не стыдился и не скрывал. Оба они, и русский писатель, и австрийский, показывают анонимную бесчеловечную субстанцию, которая именуется социумом и навязывает свои патологические законы в качестве единственно мыслимых норм. И оба пошли по проложенному Достоевским пути дальше.
Для Достоевского сохраняют определяющий смысл понятия вины, воздаяния и искупления. То, что Цинциннат в последние свои минуты перед казнью постигает как «ложную логику вещей», было обыденностью в подпольном мире, где обретается Парадоксалист, и в следственной части, где служит Порфирий Петрович (чья фигура – «полный и даже с брюшком… пухлое, круглое и немного курносое лицо… довольно бодрое и даже насмешливое» – все время маячит где-то поблизости при описании мсье Пьера, он же Петр Петрович: «безбородый толстячок лет тридцати» с пухлыми руками и длинными ресницами, бросающими тень на херувимскую щеку. У Порфирия тоже какие-то необычные ресницы: почти белые, моргающие, они оттеняют странный взгляд, совсем не гармонирующий с его фигурой, «имевшею в себе даже что-то бабье»). Но эта ложная логика, эта галлюцинация, почитаемая естественным состоянием, а вовсе не маскарадом, в мире Достоевского не обладает универсальной властью: этические коллизии ею не отменены и не приглушены. Раскольников сам вершит над собой моральный суд, и вынесенный им приговор был бы ничуть не менее суровым даже без ухищрений Порфирия, который лишь добыл фактические доказательства его виновности, но мог и не трудиться, поскольку преступника все равно замучит совесть.
Ситуация, обрисованная на страницах «Процесса», уже совсем иная: Йозеф никакой вины за собою не чувствует, однако, не в силах примириться с мыслью, что его казнят действительно ни за что, он принимается изобретать преступление, которого не совершал: если оно будет найдено, бессмыслица происходящего, возможно, перестанет им восприниматься как – в полном значении слова – убийственная. Первым слушателям «Процесса», который Кафка, до конца жизни не решившийся отдать роман издателям, читал, пригласив двух-трех друзей, книга показалась смешной, поскольку мотивация поведения Йозефа выглядела как невероятная. Они, конечно, не могли предвидеть жизненных подтверждений, которые появятся во множестве вместе с ростом тоталитарных режимов и совершенствованием методологии публичных расправ. Когда вызрел замысел «Приглашения на казнь», и эти режимы, и созданные ими карательные методы сделались неотъемлемой частью социального ландшафта. «Процесс» никому бы уже не показался изобретательно и забавно придуманной сказкой. Однако книге Кафки и на самом деле присущ жестокий комизм, и нужен он не в качестве контрастного фона, которым оттенен масштаб описанной трагедии. Наоборот, он нужен для того, чтобы показать трагедию как будничность, как привычное событие, почти уже не воспринимающееся всерьез, а значит, утрачивающее величие, прежде всегда ему присущее.
О Кафке часто говорят, что у него был особый дар предвидения, и тоталитарное общество он описал еще до того, как оно обрело реальные контуры. Справедливо, но при одном уточнении: подобным предвидением поражают и некоторые другие книги, тогда как только Кафка увидел фундаментальную особенность нового миропорядка в этом намеренном, последовательном опошлении трагедии. Ныне она банальность, приевшийся анекдот, где и мало-мальски свежие подробности быстро становятся тривиальными.
В «Приглашении на казнь», написанном через двадцать лет после того, как Кафка приступил к «Процессу», размытость границ между трагедией и гнусным фарсом придает переживаниям Цинцинната, приговоренного к казни, особую мучительность, так как для него недостижимо самое главное: покинуть мир с сознанием, что он трагический герой. Как главный персонаж истинной трагедии он должен бы обладать, пусть даже ошибочной, но четко проявленной моральной позицией и оттенком величия, которое заключает в себе его судьба, но ничего этого нет – ни величия, ни позиции. Есть только камера с пауком, который окажется игрушкой, подделкой – как и все остальное, за вычетом самого существенного: на площади, носящей название Интересная, действительно возведен эшафот с плахой в виде плоской дубовой колоды.








