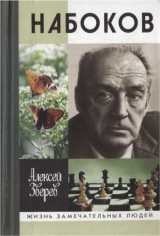
Текст книги "Набоков"
Автор книги: Алексей Зверев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Когда Набоков укрепится в своем безоговорочном неприятии каких угодно – утилитаристских ли, мистико-религиозных или всех прочих – идей, считая, что для искусства они не только ненужный довесок, но отрава и пагуба, откроется путь, ведущий к «Аде», где, по замечанию Шаховской, «оригинальность становится маньеризмом» и в итоге на свет является «самая скучная из набоковских книг». Автор, правда, был склонен к прямо противоположной оценке своего самого большого и, пожалуй, наиболее амбициозного романа. Давая этому роману заглавие, по краткости да и фонетически соотносимое с «Даром», он подчеркивал центральное положение «Ады» в своем творчестве американского периода (как «Дара» – русского). На самом деле эти книги не столько соприродны одна другой, сколько друг другу антагонистичны. В отличие от «Ады» о «Даре» никто, даже критики, в целом воспринимающие Набокова негативно, никогда не говорили, что он творческая неудача. И никому в голову не могло прийти, что это роман, обошедшийся без идей.
Неудачей оказался не «Дар», а попытки его продолжения.
Сохранились тетради и записные книжки с наметками сцен, которые должны были составить основные эпизоды рассказа по прошествии примерно пятнадцати лет после той счастливой ночи, когда Зина и Федор идут в дом, наконец-то принадлежащий им одним (и неизвестно, как туда попадут: ключей нет). Теперь у них квартира в Париже, однако она в последней главе опустеет. Зина погибла, сбитая машиной, как случилось с героиней рассказа «Катастрофа», тоже угодившей под колеса, когда она выходила из автобуса.
Есть разные мнения о том, к какому времени относятся эти наброски, но ясно, что все они сделаны Набоковым уже во Франции. Самый ранний, если исходить из хронологии действия, по своему содержанию ясно говорит, когда это писалось: в нем племянник Щеголева, отчима Зины, – некто Кострицкий – является к сводной кузине с целью перехватить денег и произносит длинные речи, пересыпанные пропагандистскими штампами из лексикона нацизма. Федору эти словечки буквально режут слух, он, мечтая выставить гостя за дверь, грубит, ссорится с Зиной и потом ему досадно на себя.
Похоже, из него не вышел большой писатель, как предрекал Кончеев. Однако одно осталось неизменным: верность Пушкину как высшему мерилу в литературе, которая для него и есть истинная жизнь. Федор занят окончанием «Русалки». Этим же через два-три года будет занят сам Набоков, испытывавший к утопленницам – наподобие той бросившейся в Сену незнакомки, которой посвящено его стихотворение с французским заглавием, – особый интерес, питаемый неослабевавшим стремлением заглянуть за роковую черту, в «потусторонность». Напечатанное Набоковым в 1942 году окончание пушкинской драматической поэмы – оно написано белым ямбом, как и «Русалка», – строится как разговор русалочки с князем, которого она убеждает, что он ее отец и поэтому должен воссоединиться с некогда им соблазненной дочерью мельника, тоже бросившись в Днепр. У Федора такая развязка представлена не как отмщение Царицы, а как самоубийство князя, изведенного муками совести, причем он не утопился, а повесился. И вот этот текст Федор под завывание сирен читает в последней главе Кончееву.
Когда в Париже стали выть сирены воздушной тревоги, Ходасевича уже не было в живых – его похоронили полутора месяцами ранее. Вероятно, сирены в этом отрывке понадобились только для того, чтобы вызвать ассоциации с мифическими морскими божествами. А вот Кончеев, слушающий повесть о днепровских сиренах, воспринимается как трудно объяснимая жестокость со стороны Набокова, только что напечатавшего проникновенную статью об умершем Ходасевиче. Ведь как раз с «Русалкой» связан, пожалуй, самый неприятный, конфузный эпизод за всю его литературную жизнь. Увлекшись биографическими трактовками художественных текстов, Ходасевич в книжке «Поэтическое хозяйство Пушкина», написанной еще в России, доказывал, что сюжет «Русалки» основан на реальном эпизоде молодости ее автора, а героиней была крестьянка, жертва барского сладострастия. Пушкинисты тут же подвергли эту версию сокрушительной критике, доказав полную ее фантастичность. Может быть, еще и память об этой неудаче заставила самолюбивого Ходасевича отказаться от много лет вынашиваемой мысли о пушкинской биографии, которой от него ждали к юбилею 1937 года.
По отношению к памяти Ходасевича подобное напоминание о «Русалке» было бы бестактностью, появись второй том «Дара» сразу вслед за окончанием неполной публикации первого – в ту первую военную осень. Однако сама тема, соотнесенная с поэмой Пушкина, вскоре Набоковым дописанной: русалка, «потусторонность», преодоленная или непреодолимая утрата – как раз в ту пору, когда создан набросок последней главы «Дара», стала обозначаться как доминирующая в его творчестве. Она присутствует и во фрагментах неоконченного русского романа, которые впоследствии будут использованы для «Bend Sinister», книги, созданной уже в Америке. Она существенна для «Истинной жизни Себастьяна Найта», первой его большой книги, написанной по-английски.
Видимо, приоритет именно этих мотивов каким-то образом связан у Набокова с его вызывающим отказом от идей – всяких идей, поскольку любая из них деформирует художественное переживание и воплощение мира, которое и самодостаточно, и самоценно. Этот эстетизм, кажется, самим Набоковым ощущался как несостоятельный, когда жизнь заставляла впрямую сталкиваться с катастрофическими ситуациями и с теми фундаментальными категориями человеческого существования, которые рано или поздно предстают перед каждым, – когда, говоря словами нелюбимого им Пастернака, происходила «гибель всерьез». И вот тут читатель Набокова, если, конечно, он внимательно следил за всеми зигзагами мысли этого автора, вдруг чувствовал, что осмеянная, отвергнутая им мистико-философская настроенность, которая царила в «Зеленой лампе», передалась самому насмешнику. Но только так его и не побудила сделать следующий логичный шаг: на языке Гиппиус этот шаг назывался неудовлетворенностью ни «формами страсти, ни формами жизни» и желанием Бога «не только в том, что есть, но в том, что будет».
Набоковское ощущение мира не создавало ни стимула, ни предпосылок для подобного желания. Хотя неудовлетворенность – та, о которой Гиппиус говорит в своих дневниках начала века, а потом опять, сорок лет спустя, – переживалась Набоковым ничуть не менее сильно. Оставаясь неутоленным, это чувство порождало состояние душевной пустоты, когда не способен был выручить и самый яркий художественный дар, то чувство, которое знакомо Федору из неосуществленного второго тома.
Довольно большой эпизод черновой рукописи представляет собою его рассказ о встречах с парижской проституткой по имени Ивонна (а он для нее – Иван). У них было два свидания, пока Зина находилась на Лазурном Берегу, – ее звонок оттуда сорвал третью встречу. Год спустя Федор приходит на тот же перекресток, где они познакомились. Разобраться в мотивах своих действий ему непросто: конечно, тут влечение, однако описываемая ситуация сродни пошлым романам о супружеских изменах и соскальзывает в порнографию, а против этого восстает его художественный вкус. И убедившись, что Зина перестала для него быть вдохновеньем, презирая себя за низость, но не в состоянии с собою справиться, Федор находит единственную защиту от чувства стыда в том, что эстетизирует свое более чем тривиальное поведение или старается смотреть на эту историю с ее непритязательными подробностями иронически: как будто дело происходит не с ним самим, а с кем-то из литературных героев, которому надо подобрать аналогию из того запаса, что накоплен русской классикой. Он даже произносит похвалу пародии, выручившей его в обстоятельствах, которые компрометировали Федора в собственных глазах.
Однако подобное развитие сюжета само воспринимается как пародия ценителями «Дара», которые должны быть благодарны Набокову и за то, что он не написал продолжения.
* * *
Правда, будь оно все же написано, очень проблематично, что книга увидела бы свет. К концу 1938 года положение русской культуры во Франции стало критическим.
До эмигрантов, в сущности, никому уже не было дела. Все, кроме политиков, понимали, что Мюнхен, где для умиротворения Гитлера согласились на оккупацию Чехословакии, – это только отсрочка, которая не будет длительной. Без труда предвидя ход ближайших событий, многие, не исключая Набоковых, делали все возможное, чтобы обзавестись выездной французской визой – это было очень трудно – и, если повезет, получить американскую. В США пытался как-то помочь академик Ростовцев. Писатель Марк Алданов с готовностью уступил Набокову предложенное ему место лектора по русской литературе, но речь шла только о летней школе в Калифорнии – два месяца, не больше, и то через год-другой. Историк Михаил Карпович, с которым Набоков познакомился в одно из своих посещений Праги, предпринимал энергичные усилия с целью организовать приглашение на работу – в провинции и хотя бы преподавателем французского языка. Из этого тоже ничего не вышло, но Карпович написал Александре Толстой, младшей дочери писателя, возглавившей в Америке Толстовский фонд, который помог тысячам русских перебраться за океан и освоиться в первые месяцы новой жизни. Александра Львовна обратилась к Сергею Кусевицкому, дирижеру Бостонского симфонического оркестра. Его поручительство сильно облегчило дело в переговорах с чиновниками американского ведомства иммиграции.
Эти переговоры необходимо было торопить (они увенчались получением въездных виз уже после того, как началась война). Существовать дальше во Франции на литературные заработки было немыслимо. Большие надежды возлагались на американское издание «Смеха во мраке», англоязычной версии романа «Камера обскура», появившееся весной 1938-го в Нью-Йорке, однако оно не принесло ни известности, ни денег. Не выручил и французский перевод «Отчаяния». Он обратил на себя внимание молодого, но уже очень модного писателя Жана Поля Сартра, в скором будущем – властителя умов европейской интеллигенции. Посвятив книге несколько страниц в своей постоянной рубрике во влиятельном журнале «Эроп», Сартр признал одаренность автора, однако роман оценил пренебрежительно, счел бледным подражанием «Подростку» Достоевского и пустился в рассуждения о том, как губительна оторванность от почвы: «жертвы войны и эмиграции» не чувствуют, подобно Набокову, озабоченности запросами общества, потому что никакому обществу не принадлежат, а оттого их произведения разъедены ядом непричастности и цинизма.
Были основания расценить эту критику как оскорбительную, и она не осталась без ответа. Ровно через десять лет Набоков написал статью о романе Сартра «Тошнота», которым публика зачитывалась как раз в ту пору, когда по-французски появилось его «Отчаяние». Он назвал этот роман довольно беспомощным с философской стороны, а со стороны литературной – просто несостоятельным, как обычно случается, когда авторы тянутся за корифеем слезливой мелодрамы Достоевским. Сартр через запятую упомянут и в послесловии к русскому переводу «Лолиты»: там сказано, что он и Фолкнер – «баловни западной буржуазии». Набоков к этому сонму не принадлежал никогда.
Французские друзья Набоковых Поль и Люси Леон зимой 39-го устроили обед, на который был приглашен и Джеймс Джойс. Это была уже вторая встреча Набокова с прославленным ирландцем, автором полузапретного «Улисса» – культового произведения для всей литературы европейского авангарда. Джойс давно жил в Париже (с началом войны он перебрался в Цюрих, где через два года умер) и полтора десятка лет был занят «Поминками по Финнегану»: герметическим текстом в многие сотни страниц, о котором Набоков, всегда подчеркивавший, что Джойса он считает великим писателем современности, тем не менее отзывался по меньшей мере со скепсисом – утомительный словесный маскарад, бесконечные и не всегда остроумные каламбуры, в которых тонет мысль, если она вообще присутствовала. Эта фраза из письма жене, датированного 1936 годом, не раз вспомнится читателям его собственной «Ады», завершенной три десятка лет спустя. «Поминки по Финнегану» Набоков в своей лекции о Джойсе назвал «одной из величайших неудач в литературе» (а вот «Аду» находил своим эпохальным свершением).
Джойс присутствовал на набоковском вечере в феврале 1937-го. Это вышло случайно, его уговорили прийти, поскольку должна была читать одна ярко дебютировавшая писательница венгерского происхождения, которая заболела и не появилась на эстраде. Зал был набит венграми: болельщиками футбольной команды и ее игроками, пришедшими поддержать соотечественницу. Джойс невозмутимо сидел во втором ряду, поблескивая очками. Рядом расположились Бунин, Керенский. Не зная русского, Джойс не понял из читаемого ничего.
Через два года за столом у Леонов разговора опять не вышло. Кроме Набоковых, присутствовал американский дадаист Юджин Джолас, известный своей приверженностью литературным провокациям и скандалам. Набоков держался скованно – хозяйка салона решила, что рядом с Джойсом он оробел. На самом деле у них просто не нашлось общей темы. Джойсу зачем-то надо было знать, как готовят русский мед – тот, что упомянут Пушкиным («мед-пиво пил»). На прощанье он подарил Набокову маленькую книгу, фрагмент «Поминок по Финнегану». Как назло, «Смех во мраке» Набоков с собой не захватил.
Впоследствии, прочитав в мемуарах Люси Леон о своей якобы робости перед Джойсом, он в интервью заметил, что это чепуха, потому что уже и тогда для него не было тайной, как много им сделано для литературы. «Улисс» был ему известен с кембриджских времен и, видимо, основательно перечитывался: композиционные особенности, архитектурное построение этого романа и некоторые его сквозные мотивы узнаваемо варьируются в произведениях самого Набокова, начиная с «Отчаяния». Лекция о Джойсе, вошедшая в посмертно опубликованный том лекций по западной литературе (1980), особенно большое внимание уделяет джойсовскому приему синхронизации: «пути персонажей пересекаются вновь и вновь в чрезвычайно замысловатом контрапункте», и сцены, разделенные десятками страниц, образуют перекличку, даже если в развитии действия они впрямую не соотнесены. Сам Набоков еще в 30-е годы изобрел понятие «космическая синхронизация» – оно особенно уместно, когда речь идет о «Соглядатае» и примыкающих к нему рассказах, где пути пересекаются в «потусторонности» и создаваемый контрапункт приобретает мистическую символичность. Сложно сказать, до какой степени эти произведения, написанные главным образом в начале 30-х годов, окрашены впечатлениями от Джойса. Скорее всего не следовало бы отыскивать синхронизацию в том, что книга «Соглядатай» была издана за четыре месяца до того обеда у Леонов, когда Джойс сидел за столом рядом с ее автором, – тут простое совпадение. Хотя фрагменты нового романа, которым Набоков был занят в ту пору, как раз заставляют постоянно вспоминать о «космической синхронизации» и о сборнике «Соглядатай», где впервые использован этот повествовательный ход.
Однако с этими фрагментами никто тогда не был знаком, а то, что Набоков публиковал (преимущественно в новом журнале «Русские записки», который продержался недолго, только два года), было литературой совсем другого характера. Он напечатал в «Русских записках» две пьесы – не миниатюры, как прежде, а большие трехактные пьесы, которые рассчитаны на десяток актеров и требуют изобретательного режиссерского решения, так как созданы не для чтения, а для театральной постановки. На сцену попала только одна из них, «Событие», включенная в репертуар парижского Русского театра, где 4 марта 1938 года состоялась премьера (спектакль в режиссуре Юрия Анненкова, известного художника, театрального деятеля, а также писателя, автора превосходной мемуарной книги «Дневник моих встреч», прошел четыре раза; были также постановки в Праге, Варшаве, Белграде, а потом и в США). Предполагалось, что тот же Анненков возьмется и за вторую пьесу – «Изобретение Вальса», но объявленная на 10 декабря 1938-го премьера не состоялась. Режиссер поссорился с дирекцией, а заменить его было некем.
Публика премьеры – в основном «обер-прокуроры», как выразился Фондаминский, как раз и уговоривший Набокова взяться за пьесу, – оказала «Событию» ледяной прием, а на следующий день в «Последних новостях» появилась разгромная рецензия. Однако потом дело пошло лучше. На втором спектакле уже были вызовы. Написавший об этом спектакле Адамович вспомнил провал «Чайки» в Александринском театре, надеясь, что история не повторится. Он же первым указал на литературные истоки этой «драматической комедии», как определил свой жанр автор, – на Гоголя. Прежде всего на «Ревизора».
Между этими двумя пьесами и правда немало общего: и там, и здесь ждут, что случится что-то ужасное, и в обоих случаях оказывается – ужас внушен некой фантасмагорией, помрачением ума. Комические ситуации, возникающие из этих ожиданий, и там, и здесь оттенены настолько сильным страхом героев, что сквозь бурлеск начинает ясно проступать трагедийность. У Гоголя финал – немая сцена при известии, что настоящий ревизор все-таки явился, а в «Событии» выясняется вздорность предчувствий катастрофы, которые преследовали героя, пошловатого художника-портретиста со смешной фамилией Трощейкин. Узнав, что из тюрьмы досрочно выпущен однажды в него уже стрелявший Барбашин, возлюбленный его жены, Трощейкин нанимает агента-охранника и думает только о том, как бы поскорее сбежать из города, где он неспокоен за свою жизнь. Но оказывается, что, запугав его до полусмерти, враг удовлетворился такой местью и сам навсегда уехал за границу. Жизнь возвращается в привычную колею: у жены любовник, которого она, впрочем, презирает, Трощейкин, хорошо обо всем осведомленный, делает вид, что в семье полное благополучие, и малюет холст за холстом. Теща-писательница вдохновенно творит какую-то декадентскую чепуху под заглавием «Озаренные Озера». Патетический возглас Трощейкина: «Наш последний день…» его жена завершает трезвой, точной констатацией – «обратился в фантастический фарс».
И Адамович, и Ходасевич, писавший о «Событии» дважды, отмечали, что сращение ужаса и фарса – гоголевский ход. Есть и еще один классический образец, с которым перекликается пьеса. Он указан в самом ее начале, когда Трощейкин констатирует, что «мы разлагаемся в захолустной обстановке, как три сестры». И дальше будут постоянно звучать чеховские отзвуки: действие происходит в день именин, на которые, как в первом акте «Трех сестер», собирается пестрая компания; пружина сюжета – приближающаяся кровавая драма, и причина ее та, что Барбашин чувствует себя оскорбленным, так как, отвергнув его, Любовь вышла за Трощейкина; о своей связи она говорит словами Чебутыкина про Наташу – «романчик»; даже упоминается семейство по фамилии Станиславские. В ту пору взгляд на Чехова – практически никем не оспаривавшийся, – был именно тот, который утверждал своими постановками Художественный театр: драма несостоявшихся судеб, лиризм, поэзия, полутона. Набоков ощутил и другое: присутствующий в чеховских пьесах элемент трагикомедии, тень гротеска, распознаваемую даже в тех эпизодах, когда близка драматическая кульминация. Для него между «Тремя сестрами» и «Ревизором» нет непреодолимого жанрового различия. Свое «Событие» он построил так, что в нем, по слову Ходасевича, должно было соблюдаться «равновесие между очень мрачным смыслом пьесы и ее подчеркнуто комедийным стилем».
Ходасевич считал, что это не вполне удалось, и был прав. Когда персонажи впрямую уподобляются, как у Гоголя, «свиным рылам», рушится, не выдержав такой степени фарсового заострения, чеховский сюжет, который отчетливо прослеживался в тех сценах, где говорилось об умершем в младенчестве ребенке, об эгоизме Трощейкина и о том, что Любовь считает свою жизнь погубленной. Постановщик «События» Ю. Анненков особо ценил в пьесе ее «жизненную правдивость», обусловленную тем, что она представляет собой переплетение «реальности с фантастикой», но это единство все-таки оказалось недостаточно органичным. Видимо, почувствовав, что сделать его по-настоящему естественным он не смог, Набоков во второй своей большой пьесе отказался от такой стилистики и предпочел беспримесный фантастический гротеск.
Такого решения требовал сам сюжет. В центре действия тут находится не то гениальный, не то безумный изобретатель по фамилии Вальс. Он придумал адскую машину, которая дает своему обладателю власть над всем миром: любое неповиновение – и лишь тучи пыли остаются от цветущих городов. Машинка называется телемор, и ею можно управлять по радио, с дистанции. Едва ли Набоков был в курсе новейших достижений военной техники, но сама тема к 1938 году приобрела острую злободневность. Деяния Вальса, казавшиеся сказочными, – взрывы, уничтожающие сотни тысяч людей, – вряд ли показались бы такой уж выдумкой тем, кому вскоре предстояло пережить ужасы Второй мировой войны.
Пьеса, где на протяжении всех трех актов звучат ультиматумы, подкрепляемые устрашающим воздействием, а герой из «маленького человека», обиженного жизнью, превращается в диктатора, чьим капризам приходится подчиняться, чтобы выжить, отчасти напоминает «Истребление тиранов», написанное чуть раньше. Несомненно, она тоже была отголоском политических событий конца 30-х годов. Однако актуальные проблемы плохо сочетались с особенностями дарования Набокова.
Он старался построить действие так, чтобы драма не напоминала памфлет, и с этой целью ввел персонажа по имени Сон. Это репортер и доверенное лицо Вальса, когда, изгнав президента и министров, тот забирает в свои руки всю власть над державой где-то в Европе. Но это и сон в метафорическом значении слова – мучительная греза, которая подменила собой более или менее благополучную реальность, скверная фантазия, ставшая будничностью.
В английском переводе этот персонаж носит имя Виола – прямое указание на «Двенадцатую ночь» Шекспира, где явь и сон неразличимы, а обыденность расцвечена яркой выдумкой и возникает ощущение праздничной феерии. В набоковской пьесе Сон берет на себя функции хитроумной Виолы, которая верит в неотвратимое торжество любви и энергично его приближает. Крах Вальса, под конец действия отправленного в сумасшедший дом (а гора, будто бы им взорванная, все так же красуется на горизонте), также неотвратим, поскольку неразделенной остается овладевшая им любовная страсть. Сон развеялся, завершение благополучно – по крайней мере, внешне. Однако финал слишком явно противоречит всей логике действия.
Адамович назвал эту пьесу поверхностным подражанием Блоку, автору «Балаганчика», и определил ее как «банально-утопическую». Это слишком суровый суд, хотя драма и впрямь оказалась не слишком удачной. Ее неуспех был воспринят автором как еще одно свидетельство, что больше ничто его не удерживает в Европе, где вероятность реальных подтверждений сюжета, использованного в «Изобретении Вальса», становилась все несомненнее буквально с каждым месяцем. В столе лежал роман, написанный Набоковым уже по-английски, – явный знак, что свое будущее он определил.
Поездка в Англию летом 1939 года закончилась ничем – работы не было. Все надежды отныне сопрягались с Америкой. Зима 40-го года прошла в хлопотах, которые стоили нервов, и немалых. Уже в Америке Набоков напишет новеллу, озаглавленную по строке из «Отелло» – «Что как-то раз в Алеппо…». Сюжет ее типично набоковский, построенный на обыгрывании реминисценций из классики – ревность, мучительные предположения и догадки, действительность, до мелочей точно повторяющая литературу, если литература творение гения. Но подробности, которыми уснащена эта история нежданного любовного увлечения, поспешного брака, а затем совместного бегства из Парижа, к которому приближаются «бойня и боль», – с надеждой добраться до «серого заокеанского рая», – достоверны, как не так уж часто бывает в прозе Набокова, особенно в англоязычной.
Описывается свадебное путешествие героев, когда неразбериха разлучает их, сводит и вновь разлучает, так что под конец у В. такое чувство, что вообще не было ни этого брака, ни той, кого он считал женой, а был только приступ горячки, и пусть теперь кто-то с сильным пером опишет весь этот кошмар, точно бы изгоняя бесов. Все словно обезумели, спасаясь от «засунутого в сапоги и перетянутого ремнем идиота», и, «раздавленные и смятые в свалке апокалиптического исхода», чувствовали, как наваливается на них «ком первородного ужаса», который В. все еще иной раз ощущает даже в зеленой пустоте Центрального парка посреди Манхэттена. Но больше всего из тогдашнего ужаса запомнились ему липкие пальцы консулов, сортирующих человеческие жизни, «мерзостное месиво из огрызающихся чиновников в крысиных бакенбардах и трухлявых связок архивных бумаг», которые перерывали часами, прежде чем объявить, что счастливчику выездная виза дана, а невезучему в ней отказано бесповоротно. Запомнились фиолетовые чернила, которые могли начертать спасение, а могли – и смертный приговор, и взятки, подсовываемые под промокательную бумагу цвета мертвечины, и переклеивание скверных фотографий с бланка на бланк.
Все это было пережито Набоковым последней его зимой в Париже. Он был вымотан, издерган, испытал отчаяние и до последней минуты не верил, что еврейские благотворительные организации, взявшие на себя заботы о переезде его семьи в США, – оказывается, не забылись выступления Владимира Дмитриевича, обличающие погромы, – смогут проломить бюрократическую стену. Но все-таки это удалось.
Писать в ту пору он мог лишь урывками. И тем не менее в чемодане, отправившемся со своим владельцем за океан, лежали две рукописи, одной из которых была суждена большая роль в американской судьбе Набокова. Она представляла собой что-то вроде раннего варианта «Лолиты» – книги, принесшей своему автору мировую славу.








