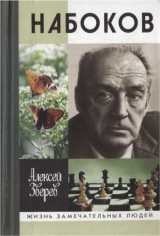
Текст книги "Набоков"
Автор книги: Алексей Зверев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
У Драйера – большой магазин, где «только мужские вещи, но зато – все, все – галстуки, шляпы, спортивные принадлежности». Франц станет там приказчиком с перспективой (правда, не очень определенной) когда-нибудь сравняться с самим господином Пифке, старшим продавцом, «настоящее дело которого было разгуливать по магазину, торжественно и учтиво устраивая там и сям свидание между покупателем и приказчиком». Попечением проходимца Яхмана Пиннеберг тоже получает место продавца в магазине мужских вещей, хотя напрасно так уж радуется – это ненадолго. Есть в «Маленьком человеке» и полный аналог Пифке: у Фаллады старшего продавца зовут Гейлбут. О нем, истинном виртуозе, когда нужно всунуть клиентам вещь вовсе им не по карману, известно только, что одиночество ему скрашивают встречи общества «Культура нагого тела», членом которого он состоит.
Сцена посещения этого общества – Гейлбут решил, что для Пиннеберга, у которого рожает жена, такая встряска будет как раз впору, – написана с присущим Фалладе блеском фельетониста, который не упустит ни одной подробности, если она выразительна и смешна. Ни задушевных разговоров в кабинке для переодевания, где собеседники, Гейлбут и его дама, сидят нагишом. Ни голых тел, столпившихся перед трамплином в бассейне, – дородные матроны производят особенно фантастическое впечатление. Ни агента по продаже ковров, затесавшегося в это общество с корыстной мыслью: а вдруг удастся навязать свой товар сочленам? Жутковатая картина, от которой у Пиннеберга мурашки бегают по спине. Но пятью страницами ниже мы видим героя ошалевшим от счастья – он только что стал отцом. И в этом соединении пугающего гротеска с чуточку сентиментальным жизнелюбием весь Фаллада. На своих персонажей он смотрит иронично, а на окружающий их мир – нередко с насмешкой, и даже едкой, но ничто не способно лишить его веры в замечательные свойства «простого сердца» или умерить пылкое сострадание маленьким людям, которых преследуют напасти и невзгоды.
У Сирина на авансцене, в сущности, точно такой же «маленький человек». Понаблюдав за Францем в его светленькой комнатке, где на стене висит женщина в одних чулках, а другая стена занята зеркалом с флюсом, и все время пахнет потом, и валяются на полу подштанники с отлетевшими пуговицами, толковый социолог сразу бы определил, что жилец относится к категории бедствующих и отверженных – тем более если сравнить его жилище с особняком Драйеров, где царит безвкусная, но роскошь. Впрочем, социологу было бы лучше всего удовольствоваться внешним наблюдением, потому что Франц описан так, что не возникнет малейшего повода для симпатии или умилений. Есть сцена, когда он вместе с Драйерами отправляется в мюзик-холл, в ней много общего с посещением кружка нудистов у Фаллады: вплоть до зеленой воды бассейна, где плещется полураздетая девица, чья обязанность – целовать в уста тюленя, который сигает по доске, будто смазанный салом. Но там герой весь в мыслях о жене, которая сейчас мучается схватками. А вот Франц в своей тарелке среди этих шимпанзе в человеческом платье и клоунов в ежеминутно спадающих штанах. И, наблюдая номер, обозначенный как «Эластичная продукция братьев Челли», он думает о том, что своя прелесть заключена в неведении Драйера, который ничего не подозревает, а оплачивает все, и даже ту комнатку в пансионе, где так часто перед ужином проводит часок без малого его жена.
Эта «эластичная продукция» мелькнула в программке не по капризу автора. Вскоре читателю будут представлены дивные образцы такой продукции: бледный мужчина в смокинге, бронзоватый юноша с ракеткой для тенниса, солидный господин с портфелем под мышкой – движущиеся манекены, ожившие электрические лунатики, последнее откровение дерзновенного изобретательского ума. Драйер, которому были продемонстрированы первые разработки, потрясен этой «гибкой системой суставов и мускулов», которые приводятся в действие батареями, этим гуттаперчевым веществом, что кажется живой плотью. Вообразив себе подобия человеческого тела («с мягкими плечами, с гибким корпусом, с выразительным лицом»), которые расхаживают за витриной его магазина, он не в состоянии сдержать восторга, хотя тут же начинает прикидывать, какой барыш принесла бы своевременная продажа потрясающей новинки. Он, со словарем читающий английские книжки, – вероятно, и модного тогда Бернарда Шоу, – уже видит себя в качестве пожилого Пигмалиона, которого окружает «дюжина электрических Галатей». И пройдет это наваждение только когда – пусть Драйер еще об этом не узнал – на смертном ложе окажется та, кого он, превративший ее из бедной провинциальной барышни в супругу миллионера, мог бы, с долей фантазии, вправду счесть собственного изготовления статуей, которая внушила скульптору страстную любовь. Манекены, которых демонстрируют покупателю-американцу, вдруг станут ему неприятны своими однообразными движениями, приторностью сосредоточенных лиц, словом, скукой, что прежде казалась волшебством.
Ему, разумеется, было бы тяжело примириться с мыслью, что точно таким же манекеном – гомункулусом, курьезом, куклой вроде тех, какими забиты подсобные помещения его магазина, пока другие куклы, в пиджаках, с повязанными галстуками, красуются в торговых залах, – предстает у Сирина он сам, как и Марта, и Франц, и весь тот паноптикум, что собрался у Драйеров отпраздновать Рождество. Куклой кланялся и вертелся за прилавком облагодетельствованный им племянник, этот Валет, не желающий вечно оставаться в подчинении у Короля, а ночью мертвой куклой валился в постель, не зная, спит он или бодрствует. Кукольное существование ведет Дама, та, для кого невозможно ничто «не предвиденное ею, не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни». Автоматически, как куклы, дергаемые за веревочку невидимым актером, Валет и Дама любят друг друга, верней, трижды за неделю выполняют ритуал: «В четверть восьмого… он, запыхавшись, влетал к себе в комнату. Через несколько минут являлась Марта. В четверть девятого она уходила. А в без четверти девять Франц отправлялся ужинать к дяде». Днем он барабанил пальцами о прилавок, ставший немой клавиатурой, на которой репетировалась вечерняя процедура раздевания любовницы.
Актер, управляющий этим кукольным вертепом, – или же игрок, у которого на руках карты, легко рушащие любую комбинацию с королем, дамой и валетом, – носит в романе знаковое имя. Он, иллюзионист и фокусник, притворившийся серым старичком в домашних сапогах на пряжках, зовется Менетекелфарес, словно бы этого берлинского обывателя можно было увидеть за пиршеством у Валтасара, когда три слова, означающих «сочтено, взвешено, разделено», огненными буквами выступили на стене. К старичку, кстати, Франц перебрался прямиком из номера привокзальной гостиницы, где жил и тот изобретатель ходячих манекенов, который особенно гордился их эластичностью, их «стилизованной одухотворенностью». Не из его ли мастерской явился в мир и сам Валет, то и дело заставляющий вспоминать Гофмана, будто бы не прочитанного Сириным, но отчего-то все время у него отзывающегося (особенно Гофман, написавший новеллу «Песочный человек», где герой влюбляется в красивую куклу, теряет рассудок, когда Олимпия не преображается в человека, и накладывает на себя руки). Или, может быть, права изобретения принадлежат все-таки старичку-хозяину, который беззвучно шлепает по коридору, пока Валет и Дама обсуждают после утех детали своего плана, заключающегося в убийстве Короля ради последующего безоблачного счастья? Может быть, это он, знающий, что все на свете лишь игра воображения, их всех и выдумал: Франца, и его подругу, и громкоголосого господина, который как-то явился проведать Валета, страшно перепугав Даму, не вовремя вздумавшую облачиться в ночные туфельки, припасенные возлюбленным для сладостных минут.
Эффект сиринского повествования возникает на размытой, ускользающей грани, где сходятся, друг в друга перетекая, живое, но родственное автомату, и механическое, но притворившееся живым. Карточная игра, когда не выигрывает никто, однако ставка, сделанная Дамой, совершенно точно оказывается битой, – собственно, самая пригодная метафора для описания пертурбаций, происходящих в семействе Драйеров вслед за тем, как вывезенный из провинции подслеповатый племянник появляется в Берлине. Мысль о физическом устранении Короля возникает у давно им тяготившейся Дамы после автомобильной аварии, в которой пострадал шофер (а мог бы попасть в морг сам хозяин). Не предчувствуя печальной для нее развязки, Марта принимается строить планы прекрасного будущего: магазин работает, денежки прибывают, и уже не придется слушать по ночам храп заросшего рыжей шерстью супруга (а изредка, по долгу службы, делить с ним ложе, сдерживая отвращение). Вот сел бы он в тот день рядом с водителем… А случается, дохнут от инфлюэнцы, да и «мало ли что вообще бывает: болезни, скажем. Может быть, у него порок сердца?»
Такое чувство, словно она просто раскладывает пасьянс, что-то наподобие «Могилы Наполеона», популярной в те годы у любительниц коротать вечерок с колодой, где и двойки, и тройки. Даме не дано знать, что предназначенная для Наполеона, для Короля могила – влажная, морская могила, как они с Валетом решили перед последней сдачей, перенеся заключительный тур на балтийское побережье. – ждет именно ее, подхватившую летальное воспаление легких в ту лодочную прогулку, когда не умеющий плавать Драйер должен был пойти прямиком на дно, как только в нужном месте, подальше от берега вдруг одновременно встанут, накренив борт, оба гребца. Все бы так и вышло – преферанс непременно получается у твердо выучивших правила, по которым следует раскладывать карты, – однако ею сделан один неверный ход, после которого комбинация погублена непоправимо. И никого при этом не жаль: ни Марту, преспокойно обдумавшую убийство и отсрочившую его только из расчета получить по завещанию еще сто тысяч за манекены, которые Драйер поехал продавать в Берлин, ни Драйера, читающего газету на балконе номера, где только что умерла его жена. Ни Франца, уже примерившегося ущипнуть пышнотелую горничную, но решающего повременить до завтра.
Они двигаются, соприкасаются, взаимодействуют в точности как экспонаты из кунсткамеры, вроде выставленной там (Драйер вместе с обеспокоенным конструктором ходящих манекенов ездил взглянуть) искусственной женщины, что была у почтенного бюргера, ни с того ни с сего совершившего преступление. Женщина умела закрывать стеклянные глаза, нагревалась изнутри, волосы у нее настоящие, но сделана грубовато, «в общем – чепуха». Этот бюргер лишь упомянут и больше не появляется, однако автор уже достиг в своем искусстве той стадии, когда исключены случайные, ничего не значащие мелочи. Бюргер – еще одна мимолетная подробность, которая дополняет, придавая ему законченность, воссоздаваемый социальный пейзаж, он – знаковая фигура берлинской будничности, образующей ауру сюжета и в большой степени определившей его характер. «Король, дама, валет» – берлинский роман не оттого лишь, что действие происходит в немецком мегаполисе, а оттого, что этот мегаполис становится у Сирина олицетворением описываемого времени, и психологии, помеченной этим временем, и созданной им духовной – вернее, бездуховной – среды.
В романе Фаллады Берлин тоже значит очень много: будничный город с вонючими многоквартирными домами-казармами северного района, с безработными, которые часами просиживают на скамейках в Малом Тиргартене, разглядывая клумбы цветущих маргариток, с дешевыми кафе, где по субботам играет духовой оркестр, с кутилами, знающими прелести баров и кабаре, где пляшут красотки в одном передничке. У Фаллады четко просматривается конкретное время событий, он не забывает упомянуть о свастике, намалеванной на стенах общественной уборной поверх нацарапанной карандашом надписи «Сдохни, жид!», и о рисунке, прилепленном к стеклу вагона: толстый еврей, который болтается на виселице. Таких деталей Сирин не использует, ему важен не политический пейзаж, а обобщенный образ цивилизации, для которой история Короля, Дамы и Валета – всего лишь мелкий, банальный эпизод ежедневной хроники, даже не обязательно уголовной.
И поэтому его Берлин напрочь лишен той непритязательной, иной раз с примесью шаржа, но все-таки поэзии, без которой не обходится ни одна книга Фаллады. Сиринский Берлин показан так, как его открывает для себя Франц, который в первый же день по приезде разбил очки, из-за чего только усилилось ощущение какой-то беспросветной серости и скуки, царящей и на этих унылых улицах, под которыми грохочет подземка, и на прославленной Унтер-ден-Линден – липы осыпались и выглядят жидковатыми. Вот что такое этот Берлин: светлоногие женщины на облюбованных проститутками углах, «и черные фигуры, поверявшие друг дружке душные, сладкие тайны в углублениях подъездов… и черный, влажный, нежный асфальт». В сочетании с постоянно маячащими перед читателем манекенами и золочеными болванками, на которые приказчики натягивают штаны и пиджаки, каждый подобный штрих закрепляет ощущение, что описываемый мирок неотличимо схож с пошловатой фотографической открыткой, какие сбывают простофилям, явившимся из своего медвежьего угла на экскурсию по знаменитым проспектам. Или, возможно, с парадизом, пригрезившимся прыщавому юнцу, который вдруг увидел себя «в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах» – а вечером его ждет гологрудая дама, поднимающая рюмку к пунцовым губам.
Чувство всеобщего омертвения (и эмоционального тоже: поддельны переживания, испытываемые героями хотя бы и в наиболее яркие мгновенья их жизни) – самое неотступное из тех, что пробуждают картины набоковского Берлина. Оно, это чувство, преследовало и читателя «Машеньки» с ее картинами черных домов, над которыми нависло небо, «бледное, как миндальное молоко», и слепых стен с механически пляшущими буквами рекламы, и такой же механической любовной схватки, когда окна пансиона подрагивают от грохота несущихся поездов, и косого отсвета витрин, в котором мельтешат куда-то спешащие, словно заведенные, люди. «Король, дама, валет» с заостренным, повторяющимся мотивом манекена, который неотличим от живого теннисиста или коммерсанта, послуживших моделями изобретателю с помощниками – анатомом и скульптором, придает образу Берлина завершенность, заставляя осознать этот город как нечто едва ли не апокалиптическое. Тут вывернуты все понятия и отношения, убита всякая вера, погублена всякая человечность: упомянув в «Защите Лужина» о том, что на вечера в доме невесты героя, эти празднества пошлости, собиралось эмигрантское общество, и в частности, чета Алферовых (она потом встретится чете Лужиных, и супруг, как встарь, будет трясти желтой бородкой, сетуя на холода), Сирин написал истинный финал «Машеньки». Теперь никто бы больше не назвал его новым Тургеневым, доверившись оценке Айхенвальда.
Впрочем, догадаться, что такая оценка некорректна, можно было, уже прочитав историю о короле, даме, валете. Ее действие разворачивалось в середине 20-х годов, однако характер изображения – минимум конкретики, марионетки вместо героев, густо, даже с долей избыточности даваемая атмосфера абсолютной духовной стерильности – позволял легко перемещать события и в другие времена, в другую социальную среду, если сохранялась основная тема: люди, неотличимые от манекенов. Сорок четыре года спустя польский режиссер Ежи Сколимовский снял в Германии фильм по второму сиринскому роману, отдав женскую роль Джине Лоллобриджиде. Он перенес события лет на тридцать вперед; на экране были витрины, вопящие об изобилии, взлетали авиалайнеры, мчались по автобанам красивые машины, словом, представал портрет общества, которое, подразумевая воцарившиеся в нем поклонение вещам и страсть к их приобретению, стали называть потребительским. Персонажи, все трое, выглядели невозможно самодовольными, упивающимися своей жизненной удачей. Марта стала в фильме итальянкой, которая смутно помнит ужасы фашизма и войны; она согласилась выйти за богатого англичанина, попросту ее купившего, и убеждена, что ей немыслимо повезло: какое благоденствие, какая царственная – можно бы добавить: до чего безвкусная – роскошь.
Франц в экранизации оказывается изобретателем искусственной кожи; он пытается увлечь мужа Марты, у которого солидная фирма, своими муляжами и, как ему кажется, точно прокладывает маршрут, ведущий к кошельку преуспевающего родственника через постель его супруги. Свидания происходят в номере грязноватого отеля, который, видимо, напоминает Марте ее полуголодную, ностальгической дымкой овеянную юность. Вернувшись на виллу, она погружается в мир, где сплошные подделки и заменители, которые почти неотличимы от реальных вещей, но все-таки отдают синтетикой. И ею же отдает беззаконная страсть героини, более всего схожей с марионеткой как раз в интимные минуты. А герой ее романа прежде имел обыкновение спать с кожимитовой куклой: метафора, которая кажется резковатой, прямолинейной даже в стихии чистого гротеска, подсказывающей художественные ходы книги.
Тем не менее Сколимовский прочел ее точно, во всем считаясь с волей и логикой автора. Трудно сказать то же самое об откликах русской эмигрантской критики. Сочли, что это рассказ о «буржуазной среде», в котором «раскрывается безысходная мрачная плоскость и безличность человеческого существования». Писали о «бульварно криминальном изгибе сюжета». Отметив «потрясающую зрительскую насыщенность текста», говорили, что все же получилась ужасно холодная книга: все математически просчитано, сплошная схема, к которой автор порой «прилаживает сложные и замысловатые зигзаги». Так высказался о романе критик из Ревеля Н. Андреев, впоследствии крупный специалист по русской истории и археологии. Ему казалось, что своим разбором он сделал комплимент молодому прозаику: как большое достоинство отметил «виртуозную стилизацию под изображаемую среду», а что до простой, банальной развязки, так это «для Сирина естественный путь».
Тон статьи был и правда благожелательный, однако осмысление такое, что им косвенно подтверждалась складывающаяся репутация Сирина как писателя даровитого, только дорожащего лишь внешними эффектами, отделкой, щегольством композиции и равнодушного к треволнениям времени, как и к мукам души. Эта репутация за ним останется надолго. Вряд ли можно назвать ее полностью надуманной – не только старания литературных противников принесли такой результат, – однако и полностью справедливой она не была никогда. По крайней мере, до тех пор, пока Набоков писал по-русски.
* * *
В декабре, через три месяца после публикации второго романа, нелепо погиб Айхенвальд, возвращавшийся домой с вечеринки у Набоковых на Пассауэрштрассе, 12. Кружок, душой которого был этот критик («скромный, близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами», как написал Набоков в одном своем рассказе), распался с его смертью, и усилилось ощущение одиночества, давно знакомое Сирину, – литературного одиночества, потому что в Берлине просто никого не оставалось из людей его круга. Жизнь смягчала мрачные настроения. На последних страницах романа, уже после губительной для Марты морской прогулки, по пляжу мимо Франца проходят, беспечно болтая на незнакомом языке, «проклятый счастливый иностранец… со своей загорелой, прелестной спутницей». Набоковы и правда были в то лето на Балтике. А деньги за газетную публикацию немецкого перевода позволили зимой поехать в Перпиньян, в Восточные Пиренеи, где ожидалась удачная охота на бабочек.
Обосновались в деревушке Ле Булу, у самой испанской границы, и там был начат третий роман – «Защита Лужина». К июню, когда надо было возвращаться в Берлин, книга была на две трети готова. В августе Сирин ее закончил. Осенью 1930-го она вышла отдельным изданием в «Слове» и вызвала отклики, несопоставимые с прежними: теперь, кажется, никто не подвергал сомнению, что впору говорить о значительной литературной величине.
Это был первый действительно крупный успех, рывок вперед, после которого прежде напечатанное, не исключая и оба романа, стали воспринимать – разумеется, несправедливо – только как подготовительную стадию, как пролог, за которым начинается для Сирина настоящая литература. Ее любил и сам автор, вложивший в свою повесть много личного, особенно на первых страницах. Там дорога к станции, гулко и гладко идущая через еловый бор, чтобы пересечь петербургское шоссе и потянуться дальше, «в неизвестность». Там утренние прогулки с француженкой, как две капли воды похожей на ту самую мадмуазель О., что описана в «Других берегах», причем и маршрут примерно такой же: с Лужиным гуляют «по Невскому и кругом, через Набережную, домой». Там Балашовское училище, оно же Тенешевское, и футбол на заднем дворе, и учитель словесности, сам «недурной лирический поэт», и еще многое, что порой отчетливым, а чаще смутным, размытым пятном видится через «особый снег забвения, снег безмолвный и обильный», который «белой мутью застилал воспоминание».
Однако эти лирические наплывы в романе единичны. И почти не слышится проникновенных нот. И заглавный герой совершенно не похож на Ганина из «Машеньки», пусть Лужину тоже отдано кое-что из пережитого автором.
Задача, которая им перед собой поставлена в этой книге, коренным образом отличается от целей, преследуемых Сириным в двух предыдущих. Слово «задача» самое верное, поскольку Лужин гениальный шахматист, который привык все на свете соотносить с дебютами, миттельшпилями и этюдными окончаниями блестяще разыгранных партий. А Набоков к тому времени, когда он принялся за роман, считающийся первым из его шедевров, был довольно опытным шахматным композитором, тонко постигшим искусство непредусмотренных ходов и внешне рискованных атак с жертвами и, вслед им, ошеломительным матовым натиском. С «очаровательной, хрустально-хрупкой комбинацией», вроде проведенной Лужиным в его эпохальной партии против Турати и натолкнувшейся, правда, на веский ответ: «угроза и защита, угроза и защита».
Вот так – «угроза и защита» – в сущности, и построен роман, где, по слову автора в предисловии к английскому изданию 1964 года, есть фатальный узор в биографии героя, идентичный контрнаступлению его соперника за невидимой доской, которое завершилось для Лужина катастрофой.
Жизнь художника, истинная и главная сиринская тема, на взгляд Ходасевича, как раз в «Защите Лужина» впервые заявляет свои права на доминирующее положение, хотя художник, тот, чья фамилия стоит в заглавии, странное существо и странна, а для посторонних просто непостижима его жизнь. Посторонние не сознают, что вся она подчинена приему, который ведет собственную активную жизнь в его сознании, и этот прием – защита: не только и не столько против дебютного начала, обеспечивающего Турати победу за победой, сколько против порядка вещей в мире, потому что этот порядок требует от Лужина невозможного, непосильного. Он требует согласиться с тем, что детство однажды кончается, и бесповоротно. Он требует приспособиться к анонимной субстанции существования, к обезличенному универсуму механических связей и отношений, в котором стерта, уничтожена индивидуальность.
Шахматы для Лужина – разумеется, не профессия, а искусство, пусть многим покажется, что на самом деле они только суррогат творчества, подделка под другую жизнь, где оспорены или, возможно, вовсе отменены непреложные истины, с которыми герой, едва ли отчетливо это осознавая, находится в безысходном конфликте. Свои партии Лужин играет не против пожелтевшего от бессонницы венгра, который напрасно думал, будто нашел в безнадежной позиции ничью, или седовласого англичанина, с достоинством подписывающего капитуляцию, или холодного итальянского виртуоза. Он играет против судьбы, принуждающей принять обыденные правила и мерки, тогда как этот шахматный Паганини – «человек другого измерения, особой формы и окраски, несовместимый ни с кем и ни с чем».
На самом деле он принципиально совместим с другими героями Сирина, с теми, кто грезит, что «времени нет». Что «ничто никогда не изменится». Что все так же, словно не прошли годы и годы, будет тяжело опускаться в кресло тучная француженка с костяными пуговицами на юбке, а лифт на толстом бархатном шнуре будет медленно ползти наверх в том петербургском доме, от которого остались одни стены да попорченные паркеты, а жизнь ушла.
Эта идиллия закончилась в ранней биографии Лужина травмой, грязью, гадостью, которую он смутно почувствовал, хотя и не понял, что за сложности были между отцом, сочинителем назидательных книжек с либеральной начинкой, и матерью, склонной к истерикам, а также теткой, с некоторых пор никогда не переступавшей порог их особняка. Шахматы в первый раз начинают занимать Лужина, когда ему стала необходима защита от пошловатых сюжетов обыденности.
Эта ситуация повторяется на протяжении всего романа. Поэтому бесполезны попытки невесты, затем жены героя приучить его к «нормальной» жизни. С какими-то акварельками вместо бессмертных гамбитов. С солидно обставленной берлинской квартирой, с горничной и чтением вслух ни разу им прежде не прочитанной «Войны и мира», вместо прокуренных шахматных кафе и напряжения за доской, по которой невообразимыми, гениально придуманными ходами передвигаются деревянные фигурки.
«Нормальная» жизнь попросту невозможна для Лужина, потому что он, этот смолоду состарившийся шахматный корифей, который считает только несущественной оболочкой все обиходное бытие, открыл в себе художника, творца приемов, неизвестных никому прежде. И чувствует теперь, что эти приемы освоены – нужны новые, еще более ошеломительные и дерзкие, ибо искусство не терпит повторений. И полностью равнодушен ко всему остальному на свете.
В нем есть что-то уродливое, ведь он привык ценить фантомы – эти «прелестные, незримые шахматные силы» – выше, чем любые радости реальной жизни, и волнение они у него вызывают куда более сильное, чем любые реальные потрясения: допустим, смерть отца или даже собственная женитьба. С каким трудом после сеанса игры вслепую Лужин «вылезал из мира шахматных представлений», как тяжело ему раздваиваться, обитая в будничности, когда в мыслях он все так же передвигает пешек и коней, ведя поединок к победному финалу. Уж, конечно, не ради приза. Ради торжества собственной веры в шахматное «призрачное искусство» как противоядие от докуки и бесцветности жизни.
Мыслей, не относящихся к шахматам, нет в его голове, этом «драгоценном аппарате со сложным, таинственным механизмом». Кто-то считает Лужина вундеркиндом, кто-то – почти невменяемым, хотя невменяемым он становится, оставшись без своего ремесла, стукая пальцем по приобретенной для его забав пишущей машинке и сочиняя бредовое письмецо к милостивой государыне, которой сообщается, что тело найдено, а также найден восклицательный знак. Тут недаром слышатся отголоски «Записок сумасшедшего». Положение гоголевского Поприщина и Лужина сходно, хотя никакой директор департамента не преследует сиринского героя, чья тихая берлинская жизнь с поминутно его опекающей женой и калачами, посылаемыми тещей, могла бы показаться картинкой семейного счастья.
Но он несчастлив – неподдельно и глубоко несчастлив, чего не в состоянии понять никто, кроме Валентинова, его злого демона: не то воспитателя, не то антрепренера. Не то Мефистофеля с ухватками выжиги, не то пошляка с нахрапом.
Этот, по собственному его о себе мнению, «амюзантнейший господин», который похитил юный талант из-под носа папаши, упивающегося либеральной болтовней, носит перстень, украшенный адамовой головой, масонским знаком, говорящим о бренности сущего – оно должно быть отринуто и осуждено. Не так часто Сирин настолько ясно дает читателю понять, что перед ним иносказательные ситуации и фигуры-олицетворения. В изобретателе удивительной мостовой перед Казанским собором, в незаменимом устроителе любительских спектаклей просвечивают черты дьявола, намного менее величественного, чем булгаковский Воланд, однако обладающего магической властью над бедным Лужиным. Это власть торгаша над художником – больным и ущербным, но художником, стоит ему только ощутить «ужас шахматных бездн», ринувшись в «упоительные дебри», – власть циничной расчетливости над бескорыстием, законченной тривиальности над оригинальностью на грани безумия. И проявляется она непременно в изощренном издевательстве вроде валентиновской идеи купить гений Лужина для того, чтобы что-то живое и достоверное появилось в невыносимо топорной истории насильника, бежавшего с каторги и под чужим именем ставшего шахматным чемпионом. Киноконцерн «Веритас», по сценарию Валентинова снимающий эту мелодраму (где есть еще старуха-мать, что рыдает на груди жертвы с мольбами не губить сына, у которого голова пошла кругом при виде барышни, спавшей, раскинувшись, в одном с ним купе), конечно, мог обойтись без «правды факта», обеспечиваемой участием в картине Лужина, а также Турати и других великих игроков. Может быть, сцена турнира по ходу фильма вовсе не предусматривалась, может быть, не было и самого фильма. Тут действуют отнюдь не те законы, по которым складываются отношения в реальной жизни, а чувствуемые Лужиным, хотя и непонятные ему законы необычной, «роковой» комбинации, «замысловатое повторение зафиксированных в детстве ходов», посредством которых искусство начинает, но выигрывает банальность, попахивающая подлостью. И оттого что невозможно переменить течение этой партии, движущейся всегда к одному и тому же исходу, последнюю страницу книги – подоконник в запертой изнутри ванной, разжавшиеся руки, вечность, ожидающая Лужина там, внизу, где распадается на бледные и темные квадраты бездна, – можно предугадать с самого начала.
Еще до того гибельного дня, когда Валентинов, отыскав его берлинский адрес, явился в своем пальто с котиковым воротником шалью и с обаятельной улыбкой на холеном лице, Лужин, за доской всегда ощущавший себя предводителем, в чьей власти судьба этих горбатых и венценосных фигур, начинает испытывать «бессилие перед… медленной, изощренной атакой». Ему кажется, что он словно бы вдруг оказался совершенно голым посреди шестидесяти четырех квадратов, черных и белых, тех, что мелькнут в последний его миг, за которым вечность. И, понимая, что на этот раз защиты не найти, Лужин прибегает к единственному для него выходу: «Нужно выпасть из игры».
Он капитулирует перед «пошлостью равенства», о которой Сирин так часто, с таким отвращением писал в свои берлинские годы. Эта пошлость старалась растворить в себе Лужина и прежде, не без успеха: недаром он, человек экстраординарной одаренности, на протяжении всего романа лишен собственного имени. Открывается оно только в самом последнем абзаце, когда ищут Александра Ивановича, но его нет, а окно ванной вышиблено и льется ледяной воздух. До этой минуты Лужин аноним, некто, «нумер», как именуются люди в антиутопии Замятина «Мы», напечатанной за три года до романа Сирина в пражской «Воле России». Но его безымянность можно понять и по-другому: как нежелание сделаться господином Александром Лужиным, у которого неплохие виды на карьеру, появившиеся вместе с удачным браком. У которого в прошлом – обыкновенная биография петербуржца его поколения: культурный дом с библиотекой, где стоят отцовские книжки для учеников, которых он хочет (не очень приобщившись сам) приобщить к разумному, доброму, вечному, привилегированная гимназия. А там и какое-нибудь солидное занятие, благоустроенная жизнь, которой не получилось исключительно из-за вывихов истории, заставившей грузиться на пароход, увозивший в «благословенную высылку», в «законное изгнание».








