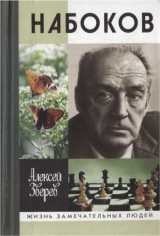
Текст книги "Набоков"
Автор книги: Алексей Зверев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)
Доказательству этого достаточно абсурдного тезиса отданы титанические усилия, а в результате колоссы остались на своих местах, как бы Набоков ни уверял, что у них глиняные ноги. И выяснилось только одно: самому Набокову роман «с тенденцией» – философский, интеллектуальный, моралистический – органически чужд. Хотя впоследствии критики обнаружат у него пропасть идей и даже родственность древним гностическим доктринам, толкующим о единой сущности мира и об эманациях, придающих дуализм всем жизненным явлениям (можно представить, в какой ужас пришел бы Набоков, прочитав о себе что-нибудь в подобном роде!).
Дискредитировать Достоевского он, однако, так и не смог – ни своими уверениями, что это не проза, а набор банальностей, ни парадоксами, ни пародиями (чаще всего сомнительного качества). Ни желчным высокомерием эстета. Ни наигранным непониманием законов, которым подчинено действие в «Преступлении и наказании». Неприязнь ослепляла, и Набоков со своим прославленно безупречным вкусом мог утверждать, что с героями Достоевского, в сущности, ничего не происходит на протяжении всего романа: они под конец остаются теми же, что в начальных главах, в очистительный кризис, который пережит Раскольниковым, не веришь. Или что Сонечка – сентиментальная проститутка, ничего больше. Или что Мышкин – законный потомок Иванушки-дурачка и прародитель «бодрых дебилов» из рассказов Зощенко.
В итоге, потратив столько сил на дезавуацию мнимого гения, Набоков завершает свою баталию с Достоевским примерно так же, как библейский Иаков, который боролся с противником, именуемым Некто. Иаков вышел из схватки с порванной жилой на бедре: не одолев Бога, но, впрочем, и не уступив. Вероятно, среди студентов, наблюдавших ристалище, были такие, кто присудил победу своему педагогу (хотя можно понять и вышедшего из аудитории – нападки Набокова уж слишком однообразны и голословны). Их скорее всего не смущали и комически звучащие утверждения в том роде, что Достоевский неплох как автор детективов с блестками юмора, однако несостоятелен по реальным критериям оценки: как «явление мирового искусства», как настоящий талант. На самом деле писать он не умел, олицетворял претенциозность, пошлость под накидкой глубокомыслия, за которым, если вдуматься, нет ничего, кроме «бесконечного копания в душах людей с комплексами» – теми, что потом особенно интересовали «венского шарлатана», как Набоков раз за разом называет доктора Фрейда, об учении которого он почти ничего не знал.
Несостоятелен, разумеется, оказался не Достоевский, а Набоков в качестве его интерпретатора. Но и высказывая мнения, для любого добросовестного историка литературы совершенно некорректные, он хотя бы отчасти прав в том отношении, что защищает творческие установки, которые обязательны для него самого и для литературы, признающей примерно такие же художественные приоритеты. Для читателей Набокова его лекции, может быть, всего интереснее как раз там, где он особенно субъективен. Высказывая еретические мысли и яростно их защищая, он лишний раз убеждает, что собственные его произведения невозможно оценивать в согласии с теми нормами, что были ему полностью чужды. Невозможно и незачем искать у него философские глубины. Немыслимо и вообразить, что, как у Достоевского, его герои будут вести равноправный диалог с автором. Напрасны ожидания, что из-под его пера выйдут сцены, написанные, как говорится, кровью сердца.
Всего этого Набоков в литературе не признавал, ополчаясь, например, и на Диккенса, которого любил с детства. «Совершенно ясно, – пишет он, приступая к разбору „Холодного дома“, – что меня больше интересует чародей, нежели рассказчик историй или учитель». И дальше Диккенсу сильно достается за стремление превращать свои книги в обвинительные акты против тогдашнего английского общества. За приверженность реформам, откровенное морализаторство, пристрастие к «сентиментальной чуши». Какие-то из этих упреков справедливы, хотя несложно возразить: уберите чувствительность и пафос – перед вами окажется другой писатель, возможно, более совершенный, но другой. А значит, исчезнет и все то, что Набокова в нем восхищало: туман, безумие, канцлерский суд, «дети, их тревоги, незащищенность, их скромные радости».
Однако это реакция литературоведа, который изучает роман викторианской эпохи. А для осваивающих мир Набокова существенно, что он, медленно читая Диккенса, говорит о конструкции прозы и о концепции повествователя, которые нашли отзвук у него самого. Вряд ли хоть один исследователь Диккенса согласится с Набоковым в том, что английский чародей дает «урок стиля, а не сопереживания», но вот о набоковских книгах американского периода сказать это можно – не о всех, так о большинстве. И еще любопытно вот что: ненавистник всякого рода надрывных эффектов, Набоков к середине своей диккенсовской лекции превращается в страстного защитника «чувствительного» в литературе, только не сюсюканья, а «настоящего… направленного сочувствия, с переливами текучих нюансов, с безмерной жалостью выговоренных слов». Как и следовало думать, художественное чутье в конечном счете берет у него верх и над излюбленными теориями относительно сущности литературы.
Десятки раз с кафедры излагается незамысловатая суть этих теорий. Литература обязана быть искусством, и только. Надо «отложить вовсе… социологические, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя». Никаких «зеркал жизни»: созданное художником выражает только его уникальное миропостижение, какие бы общественные и моральные полезности ни пыталась извлечь из его наследия скудоумная критика. Повести Гоголя – отзвук его «ночных кошмаров, населенных выдуманными им, ни на что не похожими существами», и забудьте о Белинском. «Флобер занят тонким дифференцированием человеческой судьбы, а не арифметикой социальной обусловленности». Люди, которых зовут Эмма и Шарль Бовари, Родольф, Леон, та старуха, что получила из рук мэра медаль за многолетнюю беспорочную службу у своих хозяев, Набокову не интересны, хотя, при всей тривиальности их жизни, именно их истории раскрывают перед читателем постигнутую Флобером драму пустоты существования. Интересно Набокову другое – «структуры… тематические линии, стиль, поэзия». И он добавляет: так понимал творчество сам Флобер.
На самом деле последнее утверждение можно было бы оспорить. Мечтая создать «книгу ни о чем», которая держалась бы без всякой «внешней привязи», словно земной шар в атмосфере, Флобер прекрасно понимал, что не напишет ее никогда, потому что это невозможно. А когда таким же способом – структуры, стиль – Набоков пробовал анализировать «Смерть Ивана Ильича» или такую чеховскую повесть, как «В овраге», получалось уж совсем неубедительно. И даже разбор «Превращения», начатый в том же ключе, пришлось сильно корректировать.
Набоков говорил о композиции, о том, как Кафка строит гротескные ситуации, о внутреннем устройстве этого космоса – все как обычно. И вдруг прервал лекцию, чтобы рассказать случай из уголовной хроники (девица вместе с кавалером укокошила собственную мать). А рассказав, назидательно заключил: «В так называемой реальной жизни мы иногда находим большое сходство с ситуацией из рассказов Кафки». Кажется, он и не заметил, что им самим обозначена та «внешняя привязь», важность которой прежде отрицалась с предельной категоричностью.
Однако незачем ловить Набокова на противоречиях, потому что он и не притворялся ни теоретиком, ни историком, который располагает стройной, аргументированной картиной. Обязанности лектора, читавшего обзорный курс русской литературы, заставляли его касаться и тех явлений, которые были глубоко антипатичны Набокову, – вплоть до Горького, получившего ожидаемо жесткую характеристику, и даже до корифеев соцреализма: вот здесь юмор лектора становился убийственным. Обычно он просто приводил примеры, заставлявшие аудиторию изнемогать от хохота, – к примеру, открывал роман Гладкова и зачитывал любовную сцену, сопровождаемую описанием роста производственных показателей.
Что до европейского курса, Набоков был свободен подбирать материал по собственному усмотрению. И подобрал, разумеется, то, что наиболее полно отвечало его взглядам на искусство прозы. Порой довольно сложно объяснить его предпочтения: среди создателей шедевров у него, например, присутствует Джейн Остин, но нет Эмили Бронте. Порой объяснение самоочевидно – выбирается то, что творчески близко самому Набокову. Оттого к выдающимся прозаикам причислен Стивенсон как автор повести «Доктор Джекил и мистер Хайд», построенной на издавна интересовавшем Набокова мотиве двойничества. Но этой чести не удостоился Джозеф Конрад, хотя о его романах, ставших школой мастерства для многих английских и американских писателей от Фолкнера до Грэма Грина, обязательно говорится в академических историях литературы XX века.
Для Набокова, однако, последнее обстоятельство ничего не значило. Он находил такие истории не только недостоверными, а злонамеренно искажающими реальное положение вещей, поскольку возвеличиваются мнимые авторитеты, «колоссы на глиняных ногах», бездарности и мошенники, сумевшие обзавестись звучными именами, – Элиот, Хемингуэй, Сартр, тот же Фолкнер и еще многие. Как ниспровергатель лжекумиров Набоков порою выглядит комично (и гораздо реже – хотя бы в малой степени – убедительно). Когда он стал знаменит и в его честь начали устраивать пышные приемы, Вера Набокова больше всего опасалась, что опять неучтенными останутся его истинные мнения о тех, кто был знаменит не меньше. Скандалы не подобали крупному современному писателю.
И все-таки был свой выигрыш в откровенности, с какой Набоков демонстрировал свое представление об истинных или мнимых литературных ценностях. Его суждения обязательно были подкреплены аргументами, а они брались преимущественно из собственного творческого опыта. Услышав в лекции о Диккенсе, что «форма (структура и стиль) = содержание, почему и как = что», студенты, видимо, воспринимали этот пассаж как неоспоримую истину, хотя автор «Холодного дома» уж наверняка не формулировал бы так резко. В действительности это было твердо выраженное убеждение самого Набокова. Биограф Диккенса примется уточнять и возражать, однако читатель Набокова проникнется благодарностью английскому романисту, который помог ясно определить принцип, последовательно реализованный в таких набоковских книгах, как «Бледный огонь» и «Ада».
Это, в сущности, и составляло главный предмет внимания Набокова, когда он поднимался на кафедру: не авторские идеи и общественные взгляды, а «развитие некой истории, ее перипетии; выбор героев и то, как автор их использует; их взаимосвязь, различные темы, тематические линии и их пересечения; разные сюжетные пертурбации с целью произвести то или иное прямое или косвенное действие». И на самых разных примерах Набоков демонстрировал, как «рассчитанная схема произведения искусства» превращается в художественную ткань с неповторимым рисунком и цветом, когда она соткана действительно великим мастером. Их число было совсем не велико: Толстой, Флобер. И, прежде других, Пруст, с годами, кажется, становившийся особенно нужным Набокову, особенно ему близким. Ведь, говоря его словами, они оба превыше всего ценили в литературе умение «показать нам ту реальность, вдали от которой мы живем и от которой все дальше отходим по мере того, как плотнее и непроницаемее становится то привычное сознание, каким она для нас заменена».
Себя Набоков, естественно, видел в этом же ряду. Разбор написанного теми, кого он признавал корифеями прозы, был для него и размышлением над сделанным им самим. Корнелл сохранил о нем память как о самом ярком преподавателе литературы за всю историю этого университета. Для прочитавших лекции Набокова годы спустя после того, как он покинул Корнелл, они остались лучшим автокомментарием к его художественному наследию.
* * *
Но до прощания с Корнеллом было еще очень далеко. Да Набоков и не мечтал, что наступит день, когда он сможет без остатка посвятить себя тем двум занятиям, которые по-настоящему любил, – энтомологии и творчеству. Для бабочек оставались месяцы каникул, которые они с женой проводили всегда одинаково: садились в машину, чтобы добраться за тысячи миль куда-нибудь в Аризону, Вайоминг или Теллуриду, штат Колорадо, где была поймана никем прежде не описанная голубянка. После того как был закончен первый вариант автобиографии, изданной в 1951 году, творчество, если не считать двух-трех со скрипом написанных рассказов, кажется, прекратилось совсем.
Правда, Набоков работал над переводом «Евгения Онегина» и писал к пушкинскому роману пространнейшие комментарии – в конечном счете выяснится, что это одно из его главных свершений. Но, если иметь в виду художественное творчество, корнеллский период долгое время казался практически бесплодным. О том, что Набоков, кроме вымученных «Сцен из жизни двойного чудовища» и мало для него характерной новеллы «Ланс», был в эти годы занят романом, замысел которого относился еще к его европейской поре, знали всего несколько людей, внушавших ему достаточное доверие. Впрочем, и они затруднились бы хоть бегло охарактеризовать сюжет и художественную идею будущей книги.
В рабочей тетради 6 декабря 1953-го записано: «Окончил „Лолиту“, начатую ровно 5 лет тому назад».
На самом деле она была начата намного раньше. Есть письмо Уилсону от апреля 1947-го, где упоминается «небольшой роман о человеке, питающем страсть к маленьким девочкам, – „Княжество у моря“» (этот отзвук магического стихотворения Эдгара Аллана По «Аннабелль Ли», посвященного памяти Вирджинии, его совсем юной жены, останется на первой странице законченной книги). Долгое время рукопись и называлась по этой строке, в старом переводе К. Бальмонта звучащей чуть по-другому: «Королевство приморской земли». К концу 1953 года рукопись представляла собой 450 перепечатанных на машинке страниц. Можно было убрать со стола тысячи карточек с выписками довольно специфического свойства: научные наблюдения за физическим и психологическим развитием двенадцатилетних школьниц, подробности уголовной хроники, особенно связанные с насилием над детьми. Сюжеты тривиальных фильмов и три-четыре строчки из пошловатых песенок, которые пользуются популярностью у подростков. Правила, установленные для постояльцев мотелей в различных штатах. Химический состав сильнодействующих снотворных. Модификации пистолета системы «кольт».
12 ноября 1951 года Набоков сообщает Паскалю Ковичи, редактору крупного нью-йоркского издательства «Вайкинг»: «Я захвачен романом, где речь идет о проблемах, с которыми столкнулся высокоморальный джентльмен среднего возраста, в высшей степени аморально увлекшись своей падчерицей, девочкой тринадцати лет. Не могу сказать, когда доведу книгу до конца, так как принужден от нее отрываться ради мелочей, чтобы свести концы с концами». Уилсону он тоже жалуется на помехи, мешающие главному делу: «Меня тошнит от преподавания, тошнит от него, тошнит».
Однако «Лолита» состоялась вопреки всем помехам. Впереди была тяжелая – Набоков не строил на этот счет никаких иллюзий – борьба за то, чтобы роман, который ему казался лучшим из всего им написанного, нашел издателя. Ради «Лолиты» Набоков был готов на все, потому что она была его любимым детищем. Когда его спрашивали: допустим, из всего вами сделанного уцелеет всего одна книга, какую вы бы выбрали? – ответ был предсказуем.
Потом, когда борьба триумфально завершится, Набоков в послесловии к американской публикации «Лолиты» с горечью вспомнит не раз звучавший «идиотский упрек в безнравственности». Но ему с самого начала было ясно, что подобных упреков не избежать, как не избежать и той атмосферы скандала, которая сопутствовала «Лолите» все три года между окончанием рукописи и – после всех мытарств, страхов, отказов – ее легальным выходом в свет. Сама история, рассказанная в «Лолите», провоцировала негодующую реакцию пуристов и ханжей, которым и в голову не пришло поинтересоваться, каким образом, с какими творческими целями эта история описана. Довольно было того, что побуждения, в которых откровенно признается повествователь, он же главный герой, на самом деле содержат в себе нечто одиозное.
Вот они, эти мотивы, если отвлечься от поэзии, оставив голую фактологию. «Представьте себе такую историю, – смакуя носящиеся в его скудном воображении непристойные картинки, рассуждает в „Даре“ отчим Зины, пошляк Щеголев, – старый пес, – но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, – знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, – знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, – и конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать – соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И в общем – просчет».
Борис Иванович уверяет, что в такой переплет угодил один его приятель и, возможно, не выдумывает: для того круга, где он вращается, сальности привычное дело, хоть там и любят попутно порассуждать про «трагедию Достоевского». В «Даре» сюжет с дочкой вдовицы остался на периферии действия – просто деталь, дополняющая хронику воспитания Зины Мерц, пока судьба не подарила ей встречу с Федором. Но через два года по завершении «Дара» Набоков вспомнил тот мимолетно мелькнувший эпизод и, вернувшись к нему, написал не то большой рассказ, не то скромного размера повесть «Волшебник», последнее завершенное свое произведение по-русски.
Рукопись затерялась при переезде через океан, и в послесловии к «Лолите» Набоков вспоминает об этой вещи без большой уверенности: сочинена, кажется, осенью 1939-го, в Париже, при затемнениях, тогда же была прочитана двум-трем знакомым из эмигрантской среды. О печатании нечего было и думать. Просмотрев «Волшебника» несколько месяцев спустя, уже в Америке, Набоков остался им недоволен и уничтожил рукопись.
В действительности он ее сохранил. Но, видимо, впрямь о ней не вспоминал, увлеченный «Лолитой». Когда оглушительный успех книги сделал Набокова мировой знаменитостью и Библиотека Конгресса выразила желание приобрести его архив, полезли за старыми чемоданами и «Волшебник» вернулся из небытия. Хотя напечатан был только через девять лет после смерти автора, и сначала по-английски, в переводе его сына.
Предлагая повесть издателю, Набоков назвал ее «пре-Лолитой», однако тут нужны уточнения. Сходство, даже тождество исходной ситуации, которой определен ход действия, вне сомнений, но дальше между черновиком «Лолиты» и ею самой больше различий, чем общности. Повествование в «Волшебнике» ведет не герой, а автор, оставивший герою – «худощавому, сухогубому, со слегка лысеющей головой», словом, подчеркнуто заурядному господину – всего лишь попытки «добиться оправдания вины», которую он постоянно за собой чувствует из-за своей слабости к «маленьким любовницам» (впрочем, остающимся не более чем предметом сладострастных грез). Он все убеждает себя в том, что Гумберту, поведавшему свою одиссею читателю «Лолиты», ясно с самого начала: влечение к девочке (предшественник Гумберта, стареющий бонвиван, в первый раз увидел ее, сидя на скамье городского парка: чуть приоткрытый розовый рот, гладкие лисьи волоски по оголенным предплечьям) – «это не блуд», это пламя, причем единственное. Не похоть, не маномания, а «безнадежная жажда добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать, – все равно что, но только бы войти с нею в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило».
В «Лолите» этот мотив станет одним из преобладающих, а «Волшебник» остался эскизом, и не слишком удавшимся. Только статисткой оказалась юная героиня, возбуждающая жаркие мысли о «ласковых правах будущего отчима», – она бесцветна, как ни старается ее оживить ценитель тонких полудетских ребер и кругленьких мышц пониже узкой спины. А сам этот гурман лишь раб «тайного побуждения, которое было талантливее рассудка», но не могло расколдовывать негу продуманной «эволюцией ласк».
Набоков вспоминал, еще не перечитав затерянную повесть: «Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере бросился под колеса грузовика». События повести изложены точно, и говорят они о болезненной одержимости главного участника. Но кажется, ни о чем больше.
Многое сохранилось без существенных изменений, когда лет десять спустя начала литературную жизнь Ло – Долорес Гейз, та девочка, что «одевала свою уязвимость в броню дешевой наглости и нарочитой скуки». И доводила до настоящего безумия Гумберта, это чудовище пополам с поэтом, растлителя, узнавшего с нею, однако, «любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда» – безупречно честного, когда он говорит о своем чувстве.
Сохранилась женитьба на матери, которую ласкают с мыслью о дочери (правда, в «Волшебнике» до брачных ласк не доходит ввиду того, что перезрелая невеста одной ногой в могиле). Сохранились увлекательные замыслы насильственного устранения основного препятствия: еще до того, как Гумберт загорится идеей убийства супруги, которое можно было бы выдать за смерть от сердечного приступа, настигшего ее на глади озерных вод, несостоявшийся волшебник со страстью разглядывает освещенную витрину аптеки, где, уж конечно, отыщется безотказный яд. Сохранились карамазовские упоения искусительной юной красотой, и не каким-то «изгибом», от которого, думая о Грушеньке – «и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался», – приторной истомой истекает Дмитрий Федорович, а проявлениями куда более наглядными: вспухшие грудки, угловатые сосцы, неясные линии нагого подросткового тела.
Книга о недостойной, о непристойной, но испепеляющей страсти – такой оказалась репутация «Лолиты» еще до того, как она стала доступна публике, взбудораженной ожиданием скверно попахивающей сенсации. Когда препятствия, чинимые цензурой и консервативным общественным мнением, остались позади, сделалось очевидным, что подобные предвкушения, по сути, несостоятельны. В печальной истории, рассказанной Гумбертом, пока он после ареста ожидает в тюрьме разбирательства и приговора за совершенное им убийство счастливого избранника Лолиты, было, разумеется, что-то напоминающее о «бесстыдном бешенстве желаний», которым думал понравиться юной красоте «потомок негров безобразный». Однако пушкинские побуждения, пусть даже сугубо чувственные, не сродни этому швейцарцу, сочиняющему учебник французской литературы для американских студентов. У Гумберта иные вожделения: их объектом являются девочки, еще не до конца сформировавшиеся, но с чувственностью, развитой не по годам: те, кого он обозначает неологизмом «нимфетки» (с легкой руки Набокова это слово вошло теперь во все сколько-нибудь полные словари). Гумберт, ощущающий «взрыв в чреслах» всякий раз, как на его пути появляется такой подросток в легкомысленной юбочке, сулящей «судорогу порочной услады», ищет для своей нимфолепсии оправдания, облеченные в формулы отцветающей романтической лирики. И перо выводит: невозможно противиться «той сказочно-странной грации, той неуловимой, переменчивой, душеубийственной, вкрадчивой прелести», что источает «маленький смертоносный демон», которого наметанный глаз сразу распознает в толпе детей – «по слегка кошачьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов, и еще по другим признакам».
Его исповедь не предназначена ни для чьих глаз, пока не умрут он сам и, многие десятилетия спустя, боготворимая им Лолита – в действительности она пережила своего мучителя всего на месяц. Но когда-нибудь ее прочтут; и, зная, что о нем подумают, Гумберт много раз повторяет, как твердо было его первоначальное решение «щадить чистоту», довольствуясь созерцанием прелестей усыпленного таблетками ребенка и искусственной стимуляцией, тоже – это ему известно по опыту – способной дарить сладостный мед телесного счастья. Он уверяет, что вправду «никогда не был и никогда не мог быть брутальным мерзавцем», но убедительно это доказать ему не удается. Или удается только отчасти: в глазах большинства Гумберт маньяк и садист, как бы ни облагораживал он побуждения, стоящие за его проступками.
«Ставрогин и Беатриче» – так называлась одна из первых действительно глубоких статей о «Лолите», написанная известным польским прозаиком-фантастом Станиславом Лемом. Оставив без внимания набоковские выпады против творчески несостоятельного сочинителя детективных романов с истеричными героями, Лем показал прямую родственность, существующую между «Лолитой» и по крайней мере двумя книгами Достоевского: «Преступлением и наказанием», где Свидригайлов накануне самоубийства видит во сне девочку, встреченную им в гостиничном коридоре и уложенную к себе в постель, а также «Бесами», вернее, исключенной, по требованию редактора «Русского вестника», главой «У Тихона». В этой главе Ставрогин рассказывает, как соблазнил девочку Матрешу, которая потом кончает с собой, и, выслушав наставление старца, призвавшего к покаянию, бежит из обители, ибо Тихон предрек ему новое, еще более страшное преступление. В лекциях, насмешливо разбирая и тот, и другой роман, Набоков, как и следовало ожидать, ни словом не обмолвился об этих двух эпизодах. Он был не из тех, кто признает свою зависимость от предшественников. Тем более таких, как Достоевский, поскольку простое сопоставление – в случаях, если обнаруживается схожий или созвучный мотив, – сразу выявляет истинную меру творческих возможностей Набокова: больших, но не настолько, чтобы решиться на соперничество с гениями.
Однако в «Лолите» (вероятно, сам не вполне сознавая) он в это соперничество втягивается. И достойно его выдерживает, потому что он смог найти новую аранжировку мотива, который прочно ассоциируется с Достоевским. Не забыв в послесловии к роману позлословить насчет «гипсовых кубов», в которых из века в век подается Литература Больших Идей, то есть дребедень с претензиями, Набоков косвенно признал то, что и прежде не составляло тайны ни для почитателей его, ни для критиков, тем более таких проницательных и злых, как Адамович: область идей, к которым, чувствуя их неисчерпаемое содержание, литература возвращается снова и снова, – явно не его область. У Достоевского тоска Дмитрия по Грушеньке с ее «изгибом» выплескивается мыслями о красоте Мадонны и красоте содомской, о том, что для огромного большинства людей в содоме-то и сидит красота, а сердца их – поле битвы дьявола и Бога. И Ставрогин завершает свой рассказ о Матреше пронзительным признанием, что верует в беса – «в личного, не в аллегорию» – и мучается истово, оттого что не в состоянии смириться с «лакейством мысли, лакейством среды, души, развития», которое олицетворяется этим демоном. Набоков мог сколько угодно язвить, характеризуя изображенных Достоевским психопатов, которым без внятных причин приписывал «постфрейдовские комплексы». Но, привыкнув, подобно Флоберу, очень точно рассчитывать любой ход в его последствиях для художественного целого, он безошибочно чувствовал, что попытки вторгнуться в область вечных философских вопросов или заняться аналитикой душевных порывов (по первому впечатлению, необъяснимых, как у Ставрогина, чьи поступки не перестают изумлять окружающих) у него привели бы к плачевным результатам. Зная, что он никак не философ и что ему опасно полагаться на свою способность воссоздания «диалектики души», Набоков пошел самым надежным путем, резко переосмыслив всю ситуацию, которая неотвратимо напоминает о страницах русского гения, так упорно и бессмысленно им дискредитируемого (даже и в тексте романа, где представившиеся Гумберту ласки, «которыми мог бы осыпать Лолиту муж ее матери», тут же вызывают на его губах «усмешечку из Достоевского», забрезжившую, «как далекая и ужасная заря»).
Лем назвал героя «Лолиты» извращенцем и мономаньяком в том смысле, что для него не существует предела ненасытимому наслаждению: в итоге на этом мрачном неистовом костре сжигает себя любовь, которой Гумберт действительно связан с Лолитой. Для Лема отчим, превративший падчерицу в малолетнюю наложницу, – это Ставрогин минус вся связанная с «принцем Гарри» этическая проблематика. Оставленный вне сферы глубочайших духовных вопросов, этот Ставрогин, вопреки всем минутам просветленности, никогда не превратится в Данте, чья душа озарилась светом очистительной и возвышающей любви после встречи с Беатриче, когда она была девятилетней.
Однако в роли Беатриче набоковская нимфетка состоятельна не больше, чем ее опекун в своих притязаниях на статус нового Ставрогина. Размышляя о «нимфолепии», ставшей его судьбой, Гумберт, конечно, вспомнит встречу на флорентийской улице в 1274-м, когда будущей госпоже Портинари действительно сравнялось лишь девять, вспомнит и пожизненную любовь Петрарки к Лауре, для своего успокоения подтасовав даты: в момент знакомства Лаура была не «белокурой нимфеткой двенадцати лет», а девушкой, достигшей восемнадцатилетнего рубежа. Но у Долорес Гейз есть только возрастная общность с великими прообразами. Да Гумберту вовсе и не нужно, чтобы предмет его обожания, безраздельно земного, обладал каким-то сходством с той, которая знаменовала для Данте новую жизнь – постижение бессмертной красоты и вечной истины христианства. Дело в том, что «Гумберт был вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал». Лилит, согласно апокрифам (нашедшим отзвук и в набоковском «Бледном огне»), первая жена Адама, демон с огненным темпераментом. Такой ее видит и Марина Цветаева в стихах 1925 года «Попытка ревности»:
Как живется вам с стотысячной —
Вам, познавшему Лилит?
Познавшему свою Лилит (созвучие имени героини с библейским именем могло бы быть случайностью у любого писателя, но только не у Набокова) жизнь с «стотысячной», которую зовут Рита, была попыткой, предпринятой от отчаяния. Гумберт изначально знал, что из его затеи ничего не выйдет, и не оттого, что даже Валерия, давно им забытая бесцветная парижская жена, навеки отвратившая от всего, что именуется нормальной семейной жизнью, по сравнению с этой потасканной пьянчужкой, показалась бы венцом интеллекта, а жеманная госпожа Гейз, являвшая собой «слабый раствор Марлены Дитрих», и вовсе выглядела бы Гегелем в юбке. Дело не в самой Рите, даже не в том, что она уж никак не нимфетка, дело в Лолите, которую надо было потерять, чтобы с непреложностью открылось: «Я люблю ее больше всего, что когда-либо видел или мог вообразить на этом свете, или мечтал увидеть на том». Лолита стоит перед ним в дверях своей жалкой квартиры где-то на трущобной окраине: потрепанная, увядшая, хоть ей только семнадцать, она «откровенно и неимоверно брюхата», а у Гумберта такое чувство, словно его что-то ожгло, – не воспоминания, которые будоражат чувственность, не жалость, а сознание любви. Кажется, за всю его взрослую жизнь оно впервые настолько отчетливо.








