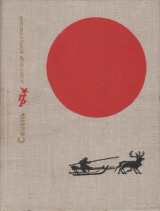
Текст книги "Сечень. Повесть об Иване Бабушкине"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
7
Он бродил вдоль путей и оледенелых окон депо в состоянии смутном и напряженном. С безветрием к городу подкрался редкий для ноября мороз; казалось, выследив своих беглецов, сюда домчала верхоянская стужа. В поблекшее, темнеющее небо, с кровавым подтеком на горизонте, медлительно поднимались сотни дымов.
Бабушкин вернулся в Глазково с рабочими, покинув здание Общественного собрания. Теперь ему вполне открылись затруднения Иркутска: юноша прав – нужны опытные люди. До последней поры Абросимов, вероятно, держался в тени, но Иркутск по разным причинам лишился вожаков, и вперед вышли новички; им не хватает нескольких месяцев, чтобы почувствовать себя крепче в седле. А время наступило трудное даже и для бывалого человека, стихия все еще владеет Иркутском, еще не так сильна революция, как слаб Кутайсов, у него мало штыков и нет к ним вчерашней веры. Новизна положения, несходство с тем, что встречалось ему прежде, пробуждали в Бабушкине наивную жажду помериться силами не с губернскими либеральными златоустами, а с тайной, забившейся покуда в берлогу силой; она не знает замешательства перед кровью народа и только ждет своего часа. И совестно было, что Алексей ходит по пятам, выспрашивает, просит советов, как бедный у богатого, готов жадно и благодарно брать то, что принадлежит не одному Бабушкину, а партии, что было постигнуто им в общей борьбе… Эти мысли и погнали Бабушкина из дымного, нагретого горнами и кострами депо на лютый мороз. Здесь он принадлежал уже не Иркутску, а дороге, убегавшим на запад рельсам.
Спутников своих он застал в депо, Петр Михайлович поспал и отогрелся неподалеку, в доме кочегара; Маша успела предупредить Бабушкина, что старик плох, привезли его сюда на санках, он покорился, когда понял, что быстро до вокзала не дойдет. «Я все тревожилась, как быть с вашим саквояжем: оставить или увезти, если опоздаете?» – «Там добра на пятак, одни белые воротнички». «Отчего вы так привязаны к ним? – спросила Маша. – Я еще в Верхоянске заметила». «Когда с самого детства человека хотят в грязь затолкать, у него вместе с мыслью о свободе появляется желание выглядеть поприличнее, взглянуть этаким интеллигентом из крахмального воротничка, – шутливо ответил Бабушкин. – Целое платье – дорого, а воротнички любому по карману».
Он говорил дружелюбно, иронически к себе, но невольно выходило, что они люди разного сословия и она все-таки из того, для которого недорого всякое платье. Маша вздохнула, мол, бог с вами, и сказала: «Хитрый вы человек, Иван Васильевич. Да уж ладно, скоро расстанемся и не придется мне разгадывать ваши загадки». «Хитрые – помалкивают, – возразил Бабушкин, – а я весь тут. Я упрямый, вероятно, неудобный человек, а хитрости бог не подарил».
Старика устроили в углу на нарах, он лежал на спине, заведя руки под затылок. Прищурился, будто подмигнул Бабушкину:
– Не нашли знакомых?.. Значит, новые знакомства завели, – сказал старик завистливо. – Мне только так и дышится, когда руки подняты, опущу – сердцу больно. Что в городе?
– Комитет у меньшевиков, это все устроенная публика, а наших мало и все такие, кому надо азы зубрить. – Бабушкин присел у него в ногах. – Жаль, не видели вы иркутской улицы!
– Остаться бы мне здесь! Не в дороге околеть, а с толком… все равно не доеду, – хрипло шептал старик, разнимая руки и тут же укладывая их под голову. И будто испугавшись своей мысли, заторопился: – В больницу – ни за что. Уж лучше в теплушке отправиться к праотцам. А может, и к делу поспею? – Взглянул вдруг на Бабушкина строго: – Не скор ли ваш приговор, Иван Васильевич? Что, говоруны здесь так сильны? – Жадно слушал, как Бабушкин в лицах описывал недавнее вече в Общественном собрании, демократов, чтивших присягу государю-императору, революционеров с гильдейскими патентами. – Славно! Славно! – приговаривал старик, шевеля губами, обметанными седым жестким волосом. – Карикатура, а славно: вот как сквозняками повело, затрясло, застучало на Руси святой!.. Ну не славно ли?! Так и сказал: «На что она тебе, революция, любезный»? А меня-то на саночках привезли, – пожаловался он растерянно.

Стало темнеть. У эшелона георгиевских кавалеров поднялась суета, послышался стоголосый хруст снега под сапогами, забе́гали унтера, послышались команды. Теплушку покатили к стрелке, чтоб поставить в хвост поезда: если внезапно подадут паровоз, вагон ссыльных будет на месте. Маша замешкалась и бросилась к двери, когда десятки рук уже катили теплушку.
– Стойте! – крикнула она. – Дайте сойти!
Люди не услышали ее крика, и вагон катился, набирая скорость.
– Послушайте! – сердилась она. – Да остановитесь же!
– Не тревожьтесь, барышня! – крикнул Алексей. – Довезем!
У стрелки бег замедлили, Маша заметила Бабушкина, упиравшегося вместе с другими в теплушку, он решил задвинуть дверь, чтобы сберечь тепло.
– Остановите же, Бабушкин, дайте сойти!
Он покачал головой, медленно двигая в пазах дверь. Маша успела прыгнуть – неловко упала в нечистый снег, быстро поднялась, отстраняя Бабушкина.
– А вы? – спросила перехваченным от злости голосом. – Вы позволили бы, чтобы люди, как рабы, везли вас?!
– Видите, как весело волокут, как на святках.
Маша смотрела в глаза, не давала увильнуть, отшутиться.
– Вы сами прыгнули бы? Не лгите!
– Прыгнул бы, только половчее.
Лязгнули буфера, затихая в отдалении, десятки глаз из-под папах, башлыков и солдатских шапок, надвинутых на уши, угрюмо смотрели на приткнувшуюся к эшелону теплушку и дым, выходивший из ее узкой железной трубы.
– Одни унтера и повыше, – негромко сказал Абросимов.
– Зато быстро покатят! – Алексей во всяком положении умел видеть и выгоду.
Люди в эшелоне одеты добротно – на многих тулупы поверх шинелей и черкесок, башлыки и папахи новые. Изредка серели шинелишки, кто-то пританцовывал, охлопывая себя несуразными рукавицами, натягивал на уши куцую солдатскую ушанку, а то и фуражку. Дымки папирос и махорочных самокруток вились над толпой военных, которая росла.
– Откуда прикатили, енералы? – крикнули ссыльным с перрона.
Они не ответили. Кто-то из солдат спросил без подвоха:
– Из каких мест путь держите, горемычные?
– Издалека, – сказал Бабушкин. – Нас и кони везли, и олени, и собаки.
– Ври больше! – Служивый кивнул на теплушку. – Повезет тебя собака в этом терему!
– А мы на санях, в кибитке – из ссылки.
– Из убивцев, значит! – прояснилось солдату.
– Нет. Нас убить хотели: холодом и нуждой.
– Нашего брата разве этим изведешь!
Маше претило отшучивание товарищей.
– Мы – политические ссыльные! – сказала она с вызовом.
– Цареубийцы! – растолковал кто-то в толпе.
– Ов-ва! – поразился солдат. – Этакого дива мы и в маньчжурах не видали! Ты, что ли, стреляла?
Он выступил вперед, невысокий пожилой солдат в великоватой шапке, которая в мороз оказалась удобной.
– Стреляла! – воскликнула Маша, чувствуя, что вызов этот не к месту, но не умея остановиться.
– В государя? Женское ли дело?! – сокрушался соядат. – Как же ты, бабонька, на чужую кровь покусилась?
– А вы, как вы посмели? – возразила Маша. – В Маньчжурию ехали не землю пахать: убивать.
– При нас командир и батюшка с крестом, мы не своевольно. По разрешению.
– Скольких надо убить, чтобы Георгиевский крест на грудь повесили!
– Даром не дадут! – хвастливо крикнули из толпы.
– И кого убить: может, такого же крестьянина, как вы, только вы пшеницу сеете, а он рис.
– Пашаницу! – передразнили Машу. – У нас и рожь не родит: пашаницу захотела!
– Стреляете слепо, а я знаю своего врага: я метила в палача, кто приказал сечь арестантов, даже женщин.
– Бабу зачем сечь, ее за волоса потаскал и будя!
И полетели выкрики один другого солонее: воображению изголодавшихся в Маньчжурии солдат рисовалась наказанная женская плоть.
– Бабы от вожжей не убудет! И от розог – тоже!
– Она и сеченая – сладкая… Верно?
– А как вас потчуют, барышня? – С перрона спрыгнул разбитной чубатый унтер. – Раздемши или через холстину?
– И тебя шомполом правили?
Маша подняла кулачки в черных варежках, словно защищаясь от толпы, Бабушкин увел ее в сторону, а толпа шумела, смеялась, без удержу выкрикивала свое, охальное.
– Не поймут они вас, сейчас ни за что не поймут, – убеждал он Машу. – Страх смерти миновал, они живы, домой едут, к тому же – особые, избранные…
– Так и я их не боюсь! Слышите, не боюсь! – Она вполовину обернулась к толпе, снова бросая вызов.
– Знаю, чего вы в жизни боитесь, – тихо сказал Бабушкин. – Пощечины! Боитесь, что ударят по лицу.
– А вы? – Неужели святое – для него не свято, и все, чем дорожит человек чести, искажено в нем уловкой, теорией? Глаза Маши впились в него неистово.
– Если нужно будет – снесу. И это снесу.
– Как можно!
– А вот – жив: ко мне их грязь не пристанет.
– Я в тот же день умерла бы! – шепнула она в невольном испуге перед таящейся в ней, уничтожающей и себя и других силой. – А еще я боюсь милости палачей. А вы? Только тот революционер, кто смеется на кресте!
– Я, верно, из тех, кто молчал бы на кресте. – Он неловко повел плечами. – Не на кресте, конечно, а в крайних обстоятельствах.
Тот ли он человек, которого почитал Верхоянск и опасалось запойное уездное начальство; ни в ком не искавший; кажется, тронь кого-нибудь при нем неправдой, и он взорвется даже под угрозой казни? Отчего же теперь он осторожничает, ищет замену словам чести словами подлого здравого смысла? Не оттого ли, что впереди замаячили города России, почудились голоса близких, и он готов смолчать, только бы везли, везли, везли…
Пока они спорили, все вокруг переменилось. Толпа сошлась плотно, унтер-офицеры и солдаты забили перрон, на шпалах тоже появились военные, тесня ссыльных к теплушке. Сумерки, клубящийся от дыхания пар, лица, полузакрытые воротниками и надвинутыми папахами, не сразу позволяли разглядеть в толпе старших офицеров, но одного Абросимов узнал и шепнул Бабушкину:
– Здесь Драгомиров. Полицмейстер.
Стучали вокзальные двери, толпа бурлила, солдаты все больше возвышали голоса, негодовали, что нет паровоза, требовали отправки, грозились разнести вокзал; кто-то поднял над головой дубовый вокзальный стул. Но оказалось, что стул взят не в ярости, не для погрома: поддержанный услужливыми руками, на него встал полицмейстер, оконный свет пролил желтизны на рыжие, в изморози, усы и тяжелый профиль со слезившимся обвислым веком.
– Я старый солдат, всего повидал! – зычно крикнул он. – Если хотите домой, к женам, к детям…
– Давай паровоз! – забушевало вокруг.
– Чего рассусоливать!
– Если хотите домой, перебейте забастовщиков, загоните их в степи к монголам! Вы за Россию голову клали, а они в забастовке; перебейте их, пусть им, не вам придет гибель в Сибири! А вам – открытая дорога домой, на родину, в Россию!
В наступившей тишине послышался голос пожилого солдата:
– Кровью веру не утвердишь. Нешто мы палачи – своих убивать!
Кто рассмеялся на его простодушные слова, кто ругнулся незлобиво, отовсюду понеслись крики:
– Богоотступники!
– Нехристи!
– Изменники престолу и отечеству!
– Они не пускают вас к родным очагам. Задерживают эшелоны, поезда с мукой, обрекают на голод русский край. – Толпа колыхнулась, казалось, те, кто стоял на краю перрона, прыгнут вниз и начнется свалка. – У них и телеграф, и дорога, хотят – дадут паровоз, а не захотят – не допросишься…
Вокруг шныряли подозрительные лица, военные и штатские, – подталкивали ссыльных локтем, теснили плечом, пускали в лицо цигарочный дым. Скалил белые зубы чубатый унтер, держась поближе к Маше.
– К вам пришли инженеры, – продолжал Драгомиров. – Сегодня и они бессильны: забастовка лишила их власти.
– Пущай крест кладут! – высоким голосом завопил пожилой солдат; и он терял снисхождение к забастовке.
Инженеры обнажили головы и осенили себя крестом.
– Орлы! – ободрился полицмейстер. – Государь отпустил вас по домам с почетом, при оружии, неужели вы будете спокойно смотреть на самочинство и разбой!
Толпа недобро качнулась, над перроном взлетела шапка, раздался выстрел и чей-то истошный, лесной, надрывающий нервы крик. С головы Абросимова упал сбитый казачьим офицером малахай, обнажилась седоватая, в редком волосе, голова. «Только бы никто не побежал, не бросился под вагон, – Бабушкин уловил настороженный скрип снега по другую сторону состава. – Нас тут немного, и можно кончить дело прежде, чем услышат в депо и подойдет рабочая дружина». И будто сорванный с места тем же подозрением, Абросимов вспрыгнул на перрон и протиснулся к Драгомирову.
– Дайте и нам повиниться, господин хороший, – сказал он спокойно, хриплым, будто и впрямь повинным голосом, и полицмейстер соскочил со стула. – Я, правда, и без стула длинный, а всякому попу, даже и худородному, амвона хочется.
– Держи! – Снизу ему бросили малахай. – Уши поморозишь!
Абросимов поймал шапку, но надевать не торопился.
– Чего об ушах тужить, если мне голову с плеч сулят! Все верно говорили их благородие: мы задержали три вагона теплых вещей: рабочие, смотрите, в пальтишках мерзнут, а чужого не берут. Шли эти вагоны не в Харбин, не к увечным воинам, а от них. – Зажмурив глаза от боли, он натянул малахай и постоял, тиская уже закрытые уши. – Сил нет терпеть… а хотел услужить офицеру. В Петербург шли эти вагоны и в Нижний: генералы наворовали. Угоняем паровозы? – Он будто задумался, принять ли и эту вину. – В Россию гоним, что под рукой, старье даже – гоним, машинист иной раз на ногах не стоит, а мы велим – и едет, едет, чтоб солдатскому эшелону часу лишнего не оставаться в Иркутске. Это власти боятся маньчжурского солдата в Россию пускать, а нам оно и лучше: пусть едут домой и расскажут правду о войне…
– Вяжи его, братцы! – крикнул чубатый унтер.
– Повяжешь, погоди… – сердито отмахнулся Абросимов. – Я сам на плаху взошел. Скажите на милость, зачем мне, рабочему человеку, в Иркутске вас держать? Вас забастовкой пугают; а она вот – забастовка, стоит голодная, глаз не прячет. Нам не нужны ваши штыки…
– Гоните его, хама! – раздался надменный голос подполковника Коршунова.
Драгомиров воспрял духом: брошенные в толпу слова Коршунова произвели действие, – пала зловещая тишина, поунялась разноголосица, люди подобрались, будто в ожидании приказа.
– Три паровоза! – выкрикнул Абросимов, не теряя и секунды, и выкинул на пальцах то же число. – Прошлой ночью три паровоза стояли на путях. Их угнало начальство; один на станцию Зима и два в Иннокентьевскую, рядом. В Иннокентьевской рота каширцев охраняет депо.
Кому поверить? А что, как правда рядом готовые паровозы и все само собой разрешится без крови? Но зачем же полицмейстер в стужу, на ночь глядя, надрывал глотку, если он мог приказать каширцам привести паровоз?
– И ты положь крест, мужик! – нашел выход солдат: инженеры крестом поддержали генерала, пусть и этот вспомнит о боге.
Абросимов растерялся, не принимал сделки: честное и открытое слово выше божбы.
– Испугался! – крикнул унтер. – Все они христопродавцы!
– На него офицеры страху напустили, – пришел на выручку Бабушкин. – Он и забыл, какой рукой крест кладут. – Абросимов наконец перекрестился. – Пошлите с ним команду и офицера построже, – предложил Бабушкин, уже стоя на перроне рядом с полицмейстером. – Он покажет, где паровоз, а обманет, – делайте с нами, как полицмейстер велит.
Он дело предложил – простое, несомненное, без проигрыша для эшелона. Солдаты приняли его условия, они позволяли все решить миром, а Коршунов и не подозревал, что все сделано иркутским начальством так бездарно и дурно. Подкатила дрезина. Абросимов прихватил с собой машиниста – на случай, если каширцы отпустили домой машинистов. Солдаты смотрели вслед дрезине, прислушивались к затихавшему ее скрежету, к тонкому, визгливому голосу стылых колес, а когда дрезина скрылась за товарным складом, они увидели на стуле человека с веселыми глазами.
– Неужто оттого, что на вас, мужиков, надели мундиры, вы стали другими людьми и вам меньше нужна свобода? – спросил Бабушкин. – Или вы не поняли, чего от вас хотят, зачем везут в Россию, не безоружных, как всех, а при оружии?
– Прежде сроку не митингуй! Будет паровоз – валяй!
– Заткните ему глотку!
Коршунов молчал. Торопить людей теперь опасно, как бы не раскололся поезд, как это уже случалось с другими. Впереди у них восемь – десять дней пути, они увидят ласку начальства и угрюмость страны; вдоволь мяса и хлеба, фронтовую чарку, а от попутных людей – проклятье, брошенное в спину; торопить их не надо.
– А если и народ за оружие возьмется? – размышлял Бабушкин. – Возможно такое? Еще бы невозможно, когда людям невмоготу терпеть. Если народ возьмется за оружие, а вас против него поставят, тогда как? Война! Брат на брата! Как же не спросить себя: хочу я такой войны или не хочу? Вы не жандармы, вас от земли взяли или с фабрики, туда и вернут, не в барские кресла. Как же вы будете целиться в нас, это только палачу легко…
– Уби-и-л-и! – тонкий, бабий вопль раздался позади.
Огибая заиндевелый угол вокзала, на перрон двинулась темная ватага, городской сброд – дворники, лавочники, оставшиеся в эту пору без товара, сахалинцы, пристав в темной шинели и двое в кровь избитых георгиевских кавалеров. Они остановились под окнами вокзального буфета, чтобы солдаты увидели разбитые лица, изодранные гимнастерки под расхристанными шинелями. Узкогрудый солдат с сонными, несмотря на кровь, глазами предался в руки чубатого унтера и повис на нем, а второй, мордастый встрепанный крепыш, порывался говорить.
– Напился… скотина‑а! – Драгомиров взял мордастого за отвороты шинели и тряхнул. – Из какой части?
– Каширского 144‑го пехотного полка рядовой Конобеев… – Он подался к генералу, как к благодетелю, но его держали под руки.
– Кто ж это вас так? – Соболезнуя, Драгомиров вынул из кармана белый платок, приложил его к лицу солдата и отдернул руку, будто ее обожгло.
– В гостинице «Золотой якорь»… – плакался мордастый.
– Тама! Тама! – встрепенулся в руках унтера сонный солдат и, запихнув в рот палец, стал пошатывать зубы, бормоча, что выбили, выбили.
– К девкам ходили?
Драгомиров играл роль так натурально, что Бабушкин не заподозрил умысла, западни, однако же ощутил какую-то опасность; нелепым сделалось его стояние на стуле, и невозможно сойти в толпу, будто он бежит в страхе перед черной городской ватагой.
– Так-то вы храните свою честь и этот благородный крест! – Драгомиров перчаткой накрыл, как оскорбленную святыню, солдатский крест на гимнастерке.
– На нас вины нет, ваше благородие! – Наконец-то и мордастый солдат собрался с мыслями. – Нас туда силком затащили… забастовщики… сицилисты… Убить хотели…
– Кто бил? – не верил Драгомиров. – Не сахалинская ли каторга? – Он лицемерил, все рассчитав наперед. – У забастовщиков дело поважнее: паровозы прятать, солдат домой не пускать.
Багровые с перепоя глаза смотрели тупо: солдат потерялся, – уж не напутал ли он чего? Он уже готов был подтвердить догадку генерала о сахалинцах, но выручил дружок.
– Нешто мы слепые, – сказал он рассудительно. – Каторги от забастовки не отличим? Кулака, что ли, не разглядим, который нам морду кровянит!
– Кто же издевался над вами? Над георгиевскими кавалерами!
– Сицилисты били… чумазые! Кричали: всех, кто японца стрелял, порешим! Егорьевских кавалеров на столбах… развешаем, а не хватит столбов – дерева́ сгодятся!.. – Врал он вдохновенно, прихватывал от усердия лишку.
– Бей забастовку! – Чубатый унтер отпустил солдата, вскинул руку с вороненым пистолетом и пальнул в воздух.
И снова толпа прониклась злобой к невозмутимым людям в худых, не по морозу, пальтишках, шубейках, путейских шинелях, к смутьянам, жестоким к солдату. Внизу, на шпалах, рабочих толкали в спину, в затылок, дожидаясь ответного удара или крика возмущения, чтобы налететь, остервенясь. Чубатый унтер играл, целился в Бабушкина, то в голову, то в грудь, яростно крикнула Маша, чтобы не смели, что это – скотство и позор; ругань и смех заглушили ее голос. Не сразу увидели паровоз, пока он в полусотне саженей не завопил, будто нарочно, чтобы остановить занесенную руку.
На тендере и паровозе кутались от стужи солдаты. Когда маслянисто-темная, в сполохах огня громада подошла вплотную, солдаты увидели Абросимова, выглядывавшего из будки, и караульных каширцев, обрадованных, что их ночная служба кончилась до срока.
– Вот и каширцы! – сказал Абросимов, перегнувшись вниз. – Спросите: кто их поставил сторожить: забастовка или власти?
– Деньги у нас взяли… все… сколько было, – канючил избитый солдат, едва поднимая сонные веки. – Ограбили!..
– Чего врет-то! – лихо закричал каширец в опущенной на светлые вороватые глаза папахе: он повис над толпой у железных перил, спиной к котлу. – Это Конобеева-то ограбили? Вона где твои деньги, пьянь беспамятная. – Каширец вытащил из-за пазухи кошелек. – Как в кабак или в заведение – он мне на сохран отдает…
Вид кошелька разволновал Конобеева, по пьянке уже верившего в собственную ложь, он потянулся рукой и закричал:
– Кинь сюда, Сенька!
Шинель распахнулась от вскинутых навстречу кошельку рук, и Сенька увидел на груди Конобеева Георгиевский крест.
– Ну фармазон! – Рука с кошельком застыла в воздухе. – У кого же ты Егорьевский крест уворовал? Ну не помилует начальство!..
С брезгливостью смотрел подполковник на солдат-самозванцев и, заметив мелькнувшую в дверях спину Драгомирова, смушковую папаху, вдавленную в мех воротника, подумал, что по вислым щекам и тяжелым векам полицмейстера он съездил бы с еще большим удовольствием, чем по рожам каширцев.
Толпу быстро смахнуло с перрона: мороз, которого только что не замечали, теперь всех подгонял к вагонам, в тепло, иной солдат, только что готовый обрушить удар на ссыльного, смотрел теперь виновато, отшучивался, уходя, норовил дружески хлопнуть ссыльного по плечу.
Утихомирилась и теплушка; только Маша, с ее непрощением обид, с презрением к стаду, металась, приоткрывая дверь, поглядывая, не подняли ли семафор. Оглядывала пустынный перрон, упавший под окно стул, караульных у вагонов, Бабушкина, Михаила и иркутских рабочих. Еще и еще раз подивилась она странной слабости Бабушкина, назойливости, с какой он доискивается путей к встречным людям; его упованию на слова, тактику, как будто в эту жизнь можно внести порядок и план. И в том, что разыгралось только что на перроне, во внезапном избавлении от погрома, Маша видела только слепой случай, счастливое стечение обстоятельств, пощаду судьбы. И оттого ей странен был этот человек, и то, как, смеясь, он втолковывал что-то Абросимову и что-то чертил на снегу.
Отойдя в глубь теплушки, Маша ждала скрипа шагов за тонкой вагонкой, грохота двери в пазах – ждала возвращения Бабушкина. Разве их пути не разойдутся по приезде в Москву или в Питер? Отчего, кляня себя, она чувствует в нем брата, отчего ей близка эта неугомонная, упрямая душа? В Верхоянске время текло медленно, и она поражалась, видя, как он и там не унимается, будоражит ссыльных; раздражалась на его характер, видя в нем не только силу, но и слабость, страх одиночества, желание раствориться в толпе. Разве жизнь не есть постоянное подвижническое замыкание на самом себе, не подвластное ничему со стороны сжатие пружины воли и мысли, сжатие до предела, когда взрыв делается неизбежным. Вот тогда-то личность и проламывает стену преступного правопорядка, и, если брешь достаточно велика, в нее устремляются тысячи людей, неспособных сами по себе начать что-либо. Но бывали часы, когда сердце Маши падало в слабости, в безотчетной тоске, и этот человек, молча конопативший лодку перед паводком на Яне или уходивший в тайгу с одолженным ружьем за плечами, казался ей самым сильным из всех, кого судьба загнала в Верхоянск. И желанным делалось в нем вдруг все – быстрый, будто свысока, взгляд на споривших с ним людей, нетерпеливый жест, грубые руки, со следами вара, в порезах и ссадинах, руки плотника, которые он клал на стол перед собой.
С тревогой думала Маша о том, как она станет врачевать Бабушкина, захворай он вдруг, будет ли он слушаться ее, или и на этот случай у него достанет упрямства, насмешки, своеволия, домашних премудростей, вынесенных из вологодского леса? Но он не болел, обтирался снегом, купался в Яне, когда уже никто этого не делал, одевался тепло, а если и прихварывал, то, верно, как-то обходился, перемогался, только краснота вокруг глаз проступала сильнее обычного.
Теплушка не выбирала дорожного артельного или старосту, но трудно было не видеть, что люди смотрят на Бабушкина как на старшого. Так будет и в пути, думала Маша, на сибирских станциях и за Уралом, – он первым будет уходить из вагона, чего-то добиваться для всех и последним, на паровозный гудок, вспрыгивать в теплушку. И будто в подтверждение раздался крик паровоза, а следом быстрые шаги, дверь отъехала в пазах, быстро забрались внутрь Бабушкин и Михаил. Бабушкин взял с нар саквояж, склонился над стариком и обнял его.
– Не вставайте: руку! – сказал он. – Счастливого вам пути!
– Жаль расставаться, – вздохнул старик, – но вы меня не удивили, к тому шло.
– Невозможно иначе, – повинился Бабушкин. – До свидания, товарищи! – На долгое прощание не оставалось времени.
Лицо Маши побледнело, как это случалось с ней не от беды, а от обиды, темные глаза загорелись угольной жаркой чернотой.
– Оставались бы в Якутске, Бабушкин! – сказала она. – Ведь и там митинговали!
– Здесь другое, – ответил он серьезно, уже от двери. – Сейчас в России нет места, где я нужен больше. Прощайте!
Бабушкин спрыгнул вниз, и Маша следом, встала рядом, растерянная.
– Научилась прыгать. – Она оперлась о руку Бабушкина. – С неподвижного вагона. – У ступеней соседнего вагона докуривали папиросы двое казачьих офицеров. – Загоняли собак и лошадей… Все вперед, вперед, в Петербург! – говорила она, волнуясь. – А теперь – остаетесь. Что это? Страх, что не угодите им? – она кивнула на стоявших неподалеку Абросимова и Алексея.
– Страх! Страх, что опоздаю в Петербург и там все сделается без меня. Страх, что здесь канун восстания, а я проболтаюсь транзитным. И расчет! – сказал он сердито.
– Какой уж тут расчет! – не поверила Маша.
– Что я им нужен.
– Поцелуйте мне руку. Это не страшно. Поцелуйте, на счастье… Мы ведь больше не свидимся.
Белая рука поднялась к его лицу, высоко, снисходя к его неопытности. А он стоял, теряясь, не зная, как поступить. Может, он и целовал руку Паши, палец за пальцем, не замечая, что целует руки, кто знает? Но целовать чужую руку, когда сердце не попросило?.. Он неуклюже подался к Маше и поцеловал ее в лоб.
– Прощайте, Маша. Будьте горды и счастливы. – Поезд тронулся, и, помогая Маше подняться в вагон, все быстрее шагая за поездом, он говорил: – Одно меня мучает… вы знаете: жена, мать. Возьмите адрес, если Петр Михайлович не доедет… непременно возьмите… Я хочу, чтобы они жили свободными, не унижались, не страдали до самой смерти…
Трудно бежать, ветер забивал дыхание, за теплушкой вихрился поднятый поездом снег. Позади – товарищи, оставленный у рельса саквояж. Бабушкин долго брел вперед, не спуская глаз с темного, расплывающегося в ночи торца теплушки. И когда снег все затянул пеленой, в ней стали роиться знакомые тени, и до его слуха снова, как тогда в розвальнях Катерины, донесся ласковый голос Паши: «Жизнь-то у нас одна, Ваня… второй не будет… а я все жду тебя». Он остановился, пораженный простой этой мыслью, звуками родного голоса, и неслышно, смятенным движением губ ответил жене: «Потерпи, душа моя, я еду к тебе… Не сердись, что остался… я и здесь – к тебе лечу, всякий мой шаг – к тебе…»








