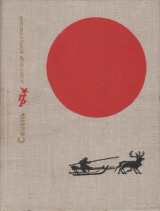
Текст книги "Сечень. Повесть об Иване Бабушкине"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Близился антракт, и проход заняли ряженые. Среди них женщина в бумажном балахоне из газетных полос поверх длинного, до пят, платья. Газетные полосы в белых прямоугольниках, в руках женщины бутафорские, аршинного размаха, ножницы, на спине надпись – цензура. На старьевщике, торгующем царскими регалиями, ветхий пиджак поверх мундира прапорщика. В Общественном собрании их проводили овациями, газеты похвалили, подлили масла в огонь, и арена издалека показалась им легкой, а в цирке, перед лицом публики их смелость вдруг испарилась. Показалось предерзостным, безрассудным выйти на народ с тем, что так легко сошло с рук в малом зальце, среди своих, на домашних почти подмостках. Комнатное поругание вчерашних святынь, кухонное робеспьерство на миру обретают силу политического покушения, духовного терроризма, наказуемого не меньше, чем перехваченная телеграмма государя императора.
Первое отделение заканчивал атлет Ганек по прозвищу Железный Кулак, он ушел за кулисы, неся в поднятых руках две фальшивые лакированные гири, за ним проследовали клоун и господин Серж. Маскарад замешкался, любители, робея, подталкивали друг друга, и публика начала подниматься с мест. Тогда, подобрав подол, на арену выбежала молодая женщина в рубище цензуры и сильным контральто объявила о прибытии любителей.
Бабушкин проскользнул вдоль барьера к Алексею и Жмуркиной. В первых рядах стулья с подлокотниками, и, привалясь к спинке, он почувствовал вдруг, как устал.
– Мы вас зовем, – сказала Жмуркина, – отчего не шли?
Бабушкин пожал плечами. Сунул руки под мышки, под распахнутые полы полушубка, с новой позиции озирал цирк, крохотный оркестр над проходом, кумачовую, арбузной свежести, ленту в опояс оркестра: «Революционный привет матросам «Прута»». Сменились музыканты: площадку заняли кантонисты, вихрастый капельмейстер в шинели воздел руки, и грянула «Марсельеза».
– Отвык от праздников. – Запоздало пришло ощущение, что он обидел Жмуркину, не отозвался ее радушию. – Антон задержится: сегодня уйма народа – из станиц, из наслегов стали ездить. Треть посетителей – иногородние.
По опилкам арены вышагивал старьевщик в рваном и заляпанном киноварью сюртуке и подвязанных бечевкой штиблетах. В руке плакат: «Распродажа за ненадобностью», в другой – скипетр и бутафорская корона, оклеенная золотой фольгой. Все на нем болталось, позванивало: ордена в неподходящих местах, держава через плечо в связке с черепом. Цирк грохотал, аплодировал, свистел, видел лихое актерство там, где была робость и заплетающиеся, роющие опилки, ноги.
– Снилось вам в верхоянской глуши такое? – спросила Таня.
Бабушкин кивнул:
– Ну ладно – снилось, а думать не смели.
– Думал.
– Алеша! – Жмуркина подтолкнула Лебедева, захваченного маскарадом: желтые, рысьей посадки глаза горели восторгом. – Ваш Бабушкин – хвастун, барон Мюнхгаузен!
Ободренный старьевщик пошел третий круг, шел свободнее, подпрыгивая, фиглярствуя, – казалось, царские регалии полетят во все стороны.
– Каждый второй за хлебом к нам едет, – сказал Бабушкин. – Из четырех – трое за хлебом, – поправился он. – Спрашивают, можно ли брать кабинетские земли и весной пахать на этой земле, дадим ли хлеб, чтобы не подохнуть до весны?
– Не наша была власть, не мы довели до голода!
– Это был ответ, пока мы в подполье; а возьмем власть – обязаны накормить. Хлеба ничто не заменит.
Как ни повеселил публику старьевщик, а «черную сотню», двух ражих молодцов с кистенями и гирьками, приняли еще горячее: Петербург – далеко, а это – товар здешний, сарацины частного пристава Щеглова.
– Разве мы не добудем муки? Разве товарищи из России не откликнутся нашей нужде?
– Если дорога будет наша – пришлют. Для этого надо, чтобы восстание и здесь, и в Иркутске, и в Омске…
– Сейчас вы начнете клясть всех, что забыли об Иркутске! – Она повеселела. – Оглядитесь: ну что вам еще нужно для счастья!
– Я счастлив, – сказал он серьезно.
– Еще никто не говорил об этом так мрачно!
– Я не верю предчувствиям, но знаю, что сроки кончаются, какие-то важные сроки подходят к концу. Никто больше не может ждать – ни мы, ни они. – Синие глубокие глаза Жмуркиной отозвались ему пониманием и тревогой, и он пожалел о своих словах: не надо и самой малой тяжести перекладывать на ее плечи. – А мне что нужно? – Он опустил веки и сказал блаженно: – Хотя бы на минуту, сюда, рядом с нами, Пашу… – До шепота понизил голос: – К руке не прикоснулся бы… только увидеть, что жива, и она пусть меня веселым увидит. Вот я какой нахал!..
– Долго терпели, теперь скоро… – Для нее тоже исчезла арена, бравурная музыка и хохочущие вокруг люди. – Мы с Антоном знаем о вашей беде… – шепнула она. – Вы молчите, и мы не хотели трогать. Знали, знали! – повторила она, отвечая его растерянному взгляду и ошеломлению. – Вся ссылка знала, не мы одни. Нам с Антоном иной раз счастья своего совестно: за что нам столько!
– Глупости, Жмуркина! – нахмурился он.
– А наш-то, дурачок… Мы с отцом ему будто не нужны… – Ее понесло, радость мешалась с несуществующей виной. – С кем ни оставь – останется, не заплачет. С хозяйкой, с бабкой соседской, с приставом оставь – не пикнет!..
Шелестела бумага на балахоне цензуры, белели вытравленные ею листки, но губительное ее назначение было открыто немногим, и Бабушкин подумал, что в его жизни, в судьбе написанных им строк цензура не значила ровно ничего. Курьеры не везли их бумаг цензорам – и прокламации в Питере, и ночные оттиски екатеринославских листовок, и то, что он писал для «Искры», переправляя далеко, через десятки заслонов. И, сидя в читинском цирке, он испытал вдруг удовлетворение, что в продолжение всей жизни не вступал с цензурой в торги с переторжками, не искал ее милостей, не прокрадывался мимо, таясь, не улыбался ей фальшиво или принужденно. Пусть другие поступали иначе, мудрее в интересах легальности, когда она шла на пользу, помогала политическому просвещению, пусть и это было частью принятой тактики, – он в этот час испытал наивное, до тщеславия, до ребячества, удовлетворение, что всегда дрался в тех грозных и глухих пределах, где цензуру не берут в расчет.
Не сразу заметили в публике, что в глубине прохода собралась толпа; человек, шедший впереди, снял шапку с облысевшей головы. Сзади напирали, толпа из-за кулис прибывала, наружные двери были настежь, в цирк хлынул холодный воздух и заклубился пар, а люди все дальше подвигались к арене, перешагивали барьер, вступали на нее. Теперь Курнатовского, и Костюшко, и матросов с транспорта «Прут» было видно всем, публика поднялась, и кантонисты снова заиграли «Марсельезу».
Курнатовский оглянулся на оркестр. Открытая голова зябла, но он не надевал шапки, как и стриженные каторжной серой стрижкой матросы. Он пожал руку Бабушкину – Иван Васильевич уже был рядом с ним, – и в глубине его усталых глаз, во всем его исхудавшем, носатом лице Бабушкин ощутил тяжесть и какую-то новую заботу. Что-то перебило полноту радости, удовлетворения тем, что матросы на свободе, что он, недавний кандальный, заставил нерчинскую каторгу подчиниться революции, отдать ей ключи от акатуевской тюрьмы.
Из-за кулис выкатили подставку, на которой недавно топтался медведь, Курнатовский поднялся на эту трибунку, смолк оркестр, и притих цирк. Говоря с толпой, он переставал горбиться, покатые, присогнутые годами плечи распрямлялись, сократовской лепки голова чуть запрокидывалась, делалась отчетливо-красивой. Суховатое лицо, в котором странным образом соединились затворник-интеллигент и скуластый мужик, нежность и простодушие взгляда – с пронизывающим умом и волей. Бабушкин жадно слушал его речи на митингах; спокойные, словно бы домашние, порой тихие настолько, что казалось – кто подальше, не услышат, но слышали, потому что слово жило в нем, в том, как он оглядывал толпу, будто искал кого-то, искал, искал и не находил, а найти непременно надо.
– Нам, рабочим, ничто не дается даром, – он не открывал митинг, а продолжал давний разговор. – Мы владеем только тем, что завоевали в борьбе. Сегодня у нас праздник: вышли на волю матросы с транспорта «Прут», они с нами на земле, которую мы хотим сделать свободной. – Стоголосый гул потряс цирк. – Стены нерчинской каторги не рухнули, стоят – это мы помним. Мы только взяли ключи Акатуя и открыли замки, за которыми томились наши товарищи. Они стоили наших забот: когда восстал «Потемкин», именно они поспешили в Одессу на помощь броненосцу. Но было поздно, царизм подавил восстание, и «Прут» остался на одесском рейде один. Один! Без угля, без надежды уйти, но с твердостью в сердце, с красным знаменем над палубой. Они держались долго, вы знаете. Четырех вожаков казнили, а им другая казнь – бессрочная каторга, смерть в подземельях Акатуя. Но революция не бросает своих братьев на произвол тюремщиков, революция освободила их – последних заложников нерчинской каторги, и мы приветствуем их как братьев по классу. Время не ждет, власти переходят в наступление, и хотя сегодня у нас праздник, мы говорим: время праздника не пришло – настал час кровавой борьбы. Восстали рабочие Москвы, на улицах города, на Пресне льется кровь наших братьев. Только что получено сообщение из Красноярска: рабочие и солдаты железнодорожного батальона осаждены в красноярских мастерских, их хотят уничтожить только за то, что они перешли на сторону народа. Царским указом Сибирь объявлена на военном положении, а вы знаете, товарищи, что это значит…
Чья-то рука легла на плечо Бабушкина: Костюшко позвал его за собой. Придерживая пенсне рукой, Антон быстро продвигался за кулисы, шел, наклонив голову в черной папахе. Тревога сквозила в распахнутых настежь дверях, в безлунной, вьюжной площади за ними, в гудении ветра.
Они вышли наружу. Антон снял пенсне и, близоруко щурясь, разглядывал Бабушкина. Сразу не заговорил: помешали покидавшие цирк люди в неуклюжих шубах – долговязый клоун и огромные, как два ковыляющих моржа, супруги Серж. В отдалении, почти скрытый снегопадом и словно гонимый ветром, пересек площадь патрульный отряд.
– Чего молчишь?
– Для одного вечера новостей много. – Антон стоял лицом к ветру: колючий снег цеплялся за густые ресницы, оседал на усах. – Из Москвы в Сибирь отправлены эшелоны карателей. Во главе какой-то пруссак-генерал: полномочия – крайние.
– Еще ему надо пробиться через страну и Сибирь.
– С бронированными вагонами и горными пушками легче пробиваться. И еще новость: Харбин отправляет – частью Холщевникову, частью Кутайсову – транспорт оружия, около сорока вагонов. Транспорт выйдет под охраной казаков.
– Я попрошу комитет поручить транспорт мне, – сказал Бабушкин.
15
Полторы версты не доехали до Карымской, вышли из вагона, и местный телеграфист повел отряд в обход поселка к темному кирпичному зданию мастерских.
Время для них мучительно замедлилось, замерло у глухих, слюдяно поблескивавших окон, у ворот, за которыми тишина, словно там не рельсовые пути, а безмолвная тысячеверстная тайга. Потом где-то высоко, невидимый из мастерских, вышел молодой месяц, и внутрь просочился голубоватый свет, отразился в напряженных лицах, в вороненой стали винтовок. Бабушкин вышагивал по земляному полу, тянулся к часам в кармане жилета и не брал их, сознавал, что рано, – на станционном окошке, где телеграф, выставят зажженный фонарь, как только харбинский транспорт минует соседнюю станцию.
Рано. Пока рано. Но и опоздать транспорту невозможно, Харбин все рассчитал верно; к Чите, на станцию Чита-Дальняя, тяжелые вагоны должны подойти в чуткой утренней ясности забайкальского нагорья, подкатить победно, с охраной на тормозных площадках и с пулеметными расчетами. Харбинцы предпочтут миновать Карымскую ночью, за ней не числится крамолы: станционное начальство здесь старое, до этой поры станция не мелькала в донесениях полковника Бырдина, начальника жандармско-полицейского управления Забайкальской железной дороги.
С Бабушкиным здесь, на верстаках, на железных клепаных ящиках, на деревянных скамьях и груде ветоши в углу, двадцать семь человек, не одни читинцы, есть и приезжие, они прибыли в Читу за оружием и теперь могли взять его, но не со складов, а в бою: Бялых – слесарь со станции Слюдянка и трое телеграфистов с Мысовой – Савин, Клюшников и Ермолаев. В депо укрылся второй отряд, во главе с Воиновым, недавним солдатом, кузнецом красноярских мастерских, человеком нетерпеливым, резким, с виду даже свирепым. Бабушкин пригляделся к нему накануне, на заседании комитета; Воинов, казалось, тяготился спокойствием и обстоятельностью Курнатовского, острословием Антона Костюшко, ерзал, покашливал, словно понукал комитетчиков. Бабушкин даже заколебался; достанет ли этому бородачу выдержки на карымскую операцию, не поспешит ли он открыть огонь?
Комитет собрался 9 января после многотысячного митинга и вооруженной манифестации рабочих и солдат резервного железнодорожного батальона: отныне революция не прощала и часа промедления. Восстание в Москве на Пресне подавлено с небывалой жестокостью. Как смерч, захватывая сотни причастных к революции и ни в чем не повинных людей, пронеслись по Самаро-Златоустовской дороге эшелоны Меллера-Закомельского; уже его роты чинили расправу в Сибири, вешая и расстреливая, бросая под шомпола за участие в митингах, за непокорство во взгляде, за молчаливое выражение несломленного достоинства. Вокзальные помещения, кассовые залы, пакгаузы, превращенные в покойницкие; пытки в пути, в тюремных вагонах, тела, сброшенные в снег на ходу, с мостов – на ледяные ложа сибирских рек, на матерый лед-просинек, которого не проламывал, падая, ни живой, ни мертвый. Барон уже плавал в крови, а вдогонку ему Петербург слал телеграммы, требуя ужесточения мер. Словно опасаясь, что карателям прискучит убивать, министр внутренних дел Дурново настаивал, «чтобы никто из арестованных не был освобожден», и поощрительно, для примера, сообщал, «что варшавский генерал-губернатор, руководствуясь ст. 12 Правил о местностях, объявленных на военном положении, подверг смертной казни расстрелянием одиннадцать лиц». Дурново жаждал единственной кары для революционеров – смертной казни «независимо от силы улик против отдельных привлеченных лиц», терпеливо втолковывал, что «особенно заслуживают кары телеграфисты и инженеры», и так как «никто ареста не боится, необходимо избегать арестов и истреблять мятежников на месте». А с востока, из-за спины, для Читы и Сибири вставала новая угроза, близкая, будто уже можно расслышать стук вагонных колес, другого карателя, генерала-харбинца Ренненкампфа. В своем воззвании он обвинял стачечников, что они «поставили Россию и армию в безвыходное положение, попрали свободу народа и не допускают провести в жизнь государства начала, возвещенные в высочайшем манифесте 17 октября… Непоколебимо преданный, как и вся армия, государю и России, – возвещал Ренненкампф, – я не остановлюсь ни перед какими партиями, чтобы помочь родине сбросить с себя иго анархии», и звал «встать рядом с ним всех, кто любит Россию». Ренненкампфу незамедлительно ответили рабочие Читы – комитет РСДРП отказался вступать в переписку с генералом волчьей стаи, как назвали его рабочие. 9 января на заседании комитета было решено издать листовкой ответ железнодорожных рабочих: «Мы объявляем вам, г. Ренненкампф, что вы напрасно присваиваете себе роль спасителя отечества… Вам не важна ни судьба армии… ни гибель невинных людей, ни счастье родины, – вам важно сохранение старого бесправного режима, в котором паразиты и бездарности, подобные вам, легко достигали высших постов и бесконтрольно распоряжались судьбами миллионов людей и народными средствами. Не лгите же: вы не спаситель родины от анархии, а только простой палач в руках реакции…»
Война объявлена. Взятие оружия на Карымской становилось ключевой операцией: можно будет довооружить Забайкалье, дать винтовки и патроны Иркутску, Иннокентьевской, Зиме, обеспечить пироксилином боевые группы для взрыва поездов Меллера-Закомельского и Ренненкампфа. Минное дело знали матросы-минеры с транспорта «Прут» – один из них уже направился в Нерчинск, а на запад, получив груз пироксилина, выедут два минера «Прута» с рабочими-дружинниками Зозулей, Чаплынским, Силаевым, Гайдуковым-Таежником, братьями Авиловыми, Кормилкиным и Хавским. Меллера-Закомельского необходимо задержать западнее Иркутска. Он прикроет Забайкалье от Меллера-Закомельского, Чита защитит Иркутск от Ренненкампфа. Они станут спина к спине, Иркутск и Чита, и поле боя откроется взгляду все, и руки будут свободны для удара, только бы Карымская дала оружие в рабочие руки.
На заседание комитета РСДРП пришли и вожаки сепаратистов, все еще именовавших себя социал-демократами, во главе с Усольцевым – молодым человеком с голубыми одержимыми глазами и страстной, отрывистой речью. Он хорошо работал до начала декабря, пока мыслью его не завладела идея отдельной не только от России, но и от Сибири Забайкальской республики. Узнав, что в их распоряжении может оказаться около тысячи пудов пироксилиновых шашек, сепаратисты воодушевились, их план обретал реальность. «Пора оставить эту хибару, – сказал Усольцев, с презрением оглядывая приютившие комитет стены дома купца Шериха, низкий потолок, лампу под матовым, засиженным мухами абажуром. – Унизительный пережиток подпольщины, – настаивал Убсольцев. – Перейти в городскую думу. Легализовать партийный аппарат. Объявить Забайкальскую республику!» «Можем и президента выбрать, однако, – насмешливо ввернул бурят Дамдинов. – Франция выбирает президента, а чем мы хуже!» «Если придут каратели, – сказал Курнатовский, – легальный аппарат будет выдан им с головой». «Сюда не ступит нога карателей! – воскликнул Усольцев. – Вот наша программа: первое – ни одной винтовки за пределы области. Тут мечтают о российской революции, а оружие хотят увезти в Иркутск, в Красноярск…» «Бабушкин отдал себя общему делу, – возмутилась Жмуркина. – Не Иркутску, а революции!» «Я привык, – сказал Бабушкин, не горячась, – верхоянский исправник не доверял мне, ротмистр Кременецкий считал питерской чумой, иркутские меньшевики – варягом; c чего бы забайкальским полуэсерам жаловать меня!» «Неужто ты веришь в победу революции на клочке земли?» – спросил Усольцева Воинов: что-то привлекало его в одержимости забайкальца. «Клочок-то с Европу!» – крикнул Усольцев. Курнатовский поднялся, спор тяготил его. «Забайкалье велико, – согласился он. – Пустоши, горы, тайга, ссыльные пределы. Жизнь вдоль чугунки, в Чите и еще на десятке станций. Можем, если позволило бы время, набрать двенадцать – пятнадцать тысяч сознательных бойцов – много! И все-таки – мало: самодержавие раздавит нас. Сегодня все упростилось: мы должны быть в Иркутске раньше, чем Меллер-Закомельский, – вооруженный, восставший Иркутск станет заслоном Забайкалья с запада». «Есть заслон надежнее! – Усольцев сожалел об их слепоте, страдал от несогласия, когда все так очевидно. – На Байкале мы обрушиваем скалы, заваливаем Кругобайкальскую дорогу. На востоке взрываем Хинганский тоннель. Конные дороги, перевалы – все перекрыто. Казаки с нами. Забайкальская республика призовет к восстанию всю Россию». «В деревнях люди умирают с голоду! – Жмуркина едва дослушала Усольцева: в мягких чертах его лица, в воодушевленных глазах ей открылась оскорбительная жестокость. – Скоро и в Чите повальный голод, а мы закроем дорогу?!» «В Маньчжурии еще сотни тысяч солдат, – Воинов опередил Усольцева, не дал возразить Жмуркиной. – Они исстрадались в окопах, а мы? Братья! – презрительно потянул он слово. – Мы взорвем перед ними тоннель, подыхай, мол, как знаешь!» «Тогда-то они и станут революционной силой, – воскликнул Усольцев. – Поднимут бунт!» «Только против кого бунт? – спросил Курнатовский. – Их обманывают, им говорят, что отъезду мешаем мы, но теперь солдат убеждается, что это ложь. А если обрушить Хинганский тоннель, ложь станет правдой, и солдатский бунт будет против нас». «Победит революция, – упорствовал Усольцев, – и мы устроим справедливый мир, накормим, залечим раны…» «Сама революция должна быть справедливой, Усольцев, – помрачнел Бабушкин. – Кто думает иначе, должен убраться с дороги к черту!.. – Он видел, как побледнел Усольцев, сцепил пальцы и хрустнул суставами, будто через силу осаживая себя. – Только преступники могут задерживать солдат в Маньчжурии…»
Как возникает в революционере волчья, мещанская неприязнь к людям пришлым, недоумевал Бабушкин, похаживая в полутьме карымской мастерской. Ведь жизнь революционера – борьба и скитания, подполье, не знающее покоя и долгой оседлости в одном городе. Жизнь революционера – зоркость, трезвая пристальность, но и доверие; конспирация, но и жажда быть братом и тому, кого ты только вчера узнал. Эта жизнь не позволяет съесть пуд соли – на пуд соли недостанет мятежного, короткого века революционера, – щепотки ее должно хватить. Ему хватало и немногих дней, чтобы уйти в чужую жизнь, почувствовать себя среди своих, вровень с ними. Чужое наречие, непривычный говор, острые, жалящие щелки глаз бурята Дамдинова, гордая молчаливость якутов, родной голос, так славно выпевающий сичень, сичень, будто жаль расставаться с протяженным и таинственным смыслом этого слова, жизнь, жизнь, ее нечаянные богатства, внезапность встреч, новые, прибывающие откуда-то силы – как можно хмуриться на это раздолье, на вечную новизну и в ложной гордыне видеть только один край и один на долгие годы круг людей?
И сегодня – сечень, крутой, забайкальский; январская ночь, тронутая дерзкой и таинственной голубизной молодого месяца. Сечень покатился к середке, а ему только что минуло 33 года. Он не вспомнил бы об этом, если бы не мысль о Паше, о том, как она мечтала отпраздновать его день вместе и как всякий раз между ними в эту пору вставали жандармы и тюремщики. И только теперь, на пятый год супружества, революция освободила их и между ними только пространство: тысячи верст тайги, Барабинские степи, Урал, клепаные грохочущие мосты, окаменевшие реки, города, города. Свободен он, свободна и Паша – он верил в это непоколебимо, свободна и ждет его вместе с матерью в Петербурге, и еще отзвенит их праздник, их встреча, хотя им пока и не дотянуться друг до друга. Только бы все добром обошлось на Карымской, и он помчится в Иркутск; не с одним Алексеем. Поедет Бялых, трое мысовских телеграфистов и Воинов, а через сутки вдогонку им в Иркутск отправится и Курнатовский. Воинова в Иркутске можно поставить во главе рабочего полка. И сухолицый Савин с Мысовой, умный и осмотрительный, нужен Иркутску, его земляки – Ермолаев и Клюшников – признают главенство Савина. Бялых – молод, в больших зеленоватых глазах грусть и улыбка так часто меняются, что и не уследишь, у него конопатое лицо и по-детски щербатый, некрасивый рот, а в плечах, в вытянутых вдоль тела руках – тяжесть и сила.
– Э-э-эх, задымить бы, завить горе колечками! – послышался тоскующий голос Клюшникова: он в толк не возьмет, почему бы не задымить?
Неподалеку Бялых тихо напевал песню, которой никто еще, кажется, не слыхивал: слова ее принесли газеты, гитарист Бялых схватил их на лету, путался еще в строках. «От павших твердынь Порт-Артура…»
– Мне бы такую придумать! – сказал Бялых, вздохнув. – Одну придумать – и на погост не страшно.
– Не стоит песня жизни, – возразил Савин.
– Никакая? – Бялых сомневался, он решал эту сложность не умом, а сердцем, неосознанной жаждой гармонии.
– Самая лучшая не стоит.
– А век у нее долгий, – мягко возразил Бялых. – Человека нет, а она живет.
Бабушкин прошел к воротам; в их створе свет луны открыл щель, видны перекрестья рельсов, кажется, что они лежат как попало и харбинскому поезду не подойти в вокзалу.
Песня или жизнь человеческая?
Хорошо, что не окликнули его, не спросили: кто прав, Савин или Бялых? Холодной мыслью он с Савиным: жизнь отдаешь за что-то повесомее песен. Но и Бялых не лгал, видно, песня для него в другой цене, она для него и есть жизнь. Выходит, и в тридцать три года человек не все знает; не всему хозяин разум, есть и сердце, а он привык осаживать сердце, жертвовать для дела нуждой сердца, тоской, его близкой радостью. Сила это или слабость? Прав ли Савин, или правда Бялых выше?
– Иван Васильевич! – Взволнованный шепот вывел его из раздумья. – Фонарь на окне!
Теперь ждать недолго; через полчаса закричит паровоз, остановленный у дальнего семафора. Хорошо бы Карымскую укрыла пурга, в прозрачном воздухе нагорья, в заснеженном пространстве свет месяца обнажает все вокруг: фонарные столбы с погашенными огнями, трубы над вокзалом в кружевных, из жести, коронах, перрон, пакгаузы и кирпичную водокачку.
Большую часть пути Коршунов проделал на паровозе. Карымскую он пройдет без остановки, до Читы никто не осмелится посягнуть на его груз: отряда казаков и четырех пулеметов достаточно, чтобы рассеять любой местный отряд. Если бы ему еще две отборные роты и пяток пулеметов, он преподнес бы невиданный подарок и Ренненкампфу и самому государю – прошелся бы карой небесной, судом испепеляющим от Харбина до Читы. Они заикнулся об этом в ночном прощальном разговоре с Надаровым, и в того будто дьявол вселился: он обругал Коршунова, обозвал карьеристом, усомнился, можно ли ему доверить и транспорт оружия. Ренненкампф и Меллер-Закомельский назначены волею государя, на них он возложил высокую миссию сломить упорство социал-демократов, и вдруг вперед, как пес, задравший ногу, выскочит безвестный подполковник, доморощенный стратег, смешает карты, поднимет бунтовщиков на сопротивление, которого потом не сломить и баронам. Этакая хлестаковщина на крови! Коршунову надлежит доставить в Читу оружие и передать его в руки Сычевского и Холщевникова, и только по исполнении этого приказа Харбин и Петербург будут судить о мере его успеха. Надаров напомнил ему о недавней его неудаче: два лишних дня в Чите в ожидании поезда на Харбин дорого обошлись Коршунову – переданное им устно монаршее повеление до последней запятой совпало с расшифрованным текстом телеграммы, уже полученной дважды: через Владивосток и через гиринского дзянь-дзюня. Голодный подвиг Коршунова не стоил теперь и ломаного гроша. Правда, он доложил о замеченных им силах бунтовщиков, о комитетских вожаках, о подлых газетных перьях – в Харбине снова подвизался генерал Бебель, чтобы оправдать свое ничтожество, он рассказывает небылицы о силе стачки, о легких пушках на читинском перроне, нацеленных на его салон-вагон. Пусть слушают его, пусть трясутся и закрываются тройной броней, пусть медлят и пускают в генеральские штаны нечистый воздух – не оттого ли Ренненкампф стирает подошвы о каждый перрон, тратит сутки на расстрел кучки забастовщиков, не стоящих и четверти часа транзитного генеральского времени! Всю дорогу от станции Маньчжурия до Карымской Коршунов, пригревшись на паровозе, закрываясь рукой от пышущей жаром топки, колебался, послушаться ли зова сердца, потешить душу или строго исполнить приказ Надарова. Он охотно сделал бы свое святое дело, как сделал его в тайге за Красноярском. К японцам он, в сущности, не испытывал чувств – распалял в себе нелюбовь, но они не были для него вполне людьми, а значит, и достойным противником; в тайге же он обрек смерти вожаков бунта, пусть взвод, но взвод отборный, каждый из них повел бы за собой полк вооруженной рвани.
Оборачиваясь к тендеру, он видел красные, обожженные морозом лица двух казаков, которые служат ревностно, не сводят глаз с него, с машиниста Пахомыча, с молодого кочегара. После Карымской он отошлет казаков в теплушку; Пахомыч – человек несуетный, верный, хватило бы только у него сил простоять у машины долгую зимнюю ночь до Читы. Самому Коршунову в теплушке неуютно, при нем казаки стеснены, примолкают, делается вдруг слышным гудение раскаленной чугунной печи, степные, размашистые удары даурского ветра о вагонку. На паровозе покойно, здесь ты ближе к цели, ты хозяин мчащегося в ночи грозного арсенала, которому, быть может, суждено войти в историю, повернуть судьбу несчастной Сибири. Пахомыч умеет и помолчать просто, с достоинством, и порассказать о чугунке в Сибири и Забайкалье, о том, как он начинал еще на Самаро-Златоустовской дороге, как ему в охотку стала горемычная Сибирь и, следом за рельсами, двигался и он по виноватому краю, опасался найти здесь одну каторгу, кандальный звон, а нашел ширь, обильный край; как шатунством своим угнетал семью и докатился до пограничной Маньчжурии, до пустыни, как уверяет старуха-жена. «Зачем ты ее так? – с легкой укоризной поправил Пахомыча Коршунов. – И ты не старик, а она, верно, моложе». «Надо бы, да нет! – пошутил машинист. – Мы чуть не одного дня, и крещены в одной купели. И я в летах, а баба и вовсе старится за таким мужиком. В Исаакиевском да в Казанском, говорят, купели золотые, а нас по-простому крестили, чуть не в лохани, оттого-то и жизнь не задалась». «Как же не задалась! – возразил Коршунов. – Это уж наша русская черта – недовольство жизнью. Ты подумай: в огромном богатейшем краю ты водишь составы. Американец гордился бы: как же – пионер! Немца от спеси раздуло бы; а ты говоришь – не задалась!» «Надое-е-ло, – протянул машинист без особого выражения. – Прежде мы это добро на японца везли, теперь обратно – мыслимо ли такое!..» «Надо, это для жизни надо». «Э-э! – не поверил машинист. – Для жизни хлеба надо; его бы день-ночь вез, а я – калек да винтовки». И оттого, что критика Пахомыча была открытая и печаль мешалась в нем с добродушием и надеждой, с допущением, что чего-то он может не понимать: а умного человека всегда готов послушать, на сердце у Коршунова сделалось покойно. От такого подвоха не жди, у него что на уме, то и на языке. «Говоришь, в Ново-Николаевске служил? Знал ли ты там инженера Кнорре?» «Как не знать: высок, умен, красив, хоть и при недобрых глазах! – Пахомыч оживился, даже имя-отчество назвал. – Только уж с нами больно строг бывал, все норовил штиблеты об нас вытереть». – «Это как же? Буквально?» – «Унизить работника ему ничто». – «Плохо ты его понимал, голубчик: он дисциплины хотел, порядка. Это России надо. Вот мы-то попустили Сибирь, не приглянули, а уже край в разрухе. Безвластье, русскому человеку жить невмоготу, того и гляди, снова кровь польется». «Нынче кровь не в цене, – сказал Пахомыч сурово. – Ее всяк отворит, кто в силах». «Ничего, еще и к добру повернет: русский человек знает – без хороших вожжей и лошадь с пути собьется». «Нам не сбиться, – сказал добродушно Пахомыч. – Ни в лес не поворотишь, ни в поле. Я вот правду скажу вам, другой не сказал бы, я скажу. Ездишь, ездишь годы, как рельса велит, и вдруг тоска сердце схватит: а ну как я сверну да в тайгу, неужто не проеду? Хоть раз в жизни, а? Неужто чуда не случится?» Коршунов благодушно рассмеялся: «Вот ты какой! А ведь не свернул ни разу». – «Не довелось – рельса всем правит. Видать, не про меня чудеса. – И вдруг сказал без видимой связи со всем говоренным: – Россия!.. Кто ее знает? Каждому лестно думать – знаю, а приглядишься, нет, не знаю…»








