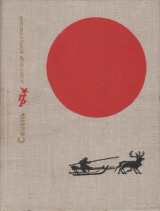
Текст книги "Сечень. Повесть об Иване Бабушкине"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Карымская рядом, машинист стал притормаживать – станцию надо проходить потише, выглянул из будки и сказал бестревожно:
– Карымская не принимает.
– Просигналь, что идешь на проход. – Коршунов выглянул наружу, встречный ветер полоснул по глазам.
Пахомыч дал протяжный гудок, несколько коротких и снова долгий, и Коршунов посетовал, что сам-то он, сибирский житель, столько лет существует при дороге, а языка ее не знает: то ли говорит Пахомыч Карымской, что надо?
– Я у семафора стану. – Машинист выпускал пары и сбавил ход. – Чуть что – на воздух взлетим.
Позади темнел, скрываясь в ночи, длинный состав – заиндевелые, тяжелые вагоны. Страшно. Машинист прав, надо остановиться, но что-то и задело Коршунова: впервые взглянул он на машиниста отчужденно, но, видя его спокойное копошение у приборов, отбросил страхи: чего только не повидал старик, как не научиться видеть вагоны насквозь и под пломбами. Открылись уже и бревенчатый темный вокзал, и кирпичная коробка мастерских, и здание повыше – депо. От вокзала бежали люди, впереди, размахивая фонарем, высокий человек в фуражке, которую он придерживал на бегу рукой.
– Дежурный бежит: видать, случилось что.
Карымский дежурный поднял фонарь, осветив и свое запрокинутое лицо с вислыми жидкими усами, и двух рабочих: молодого сцепщика и второго – бурята в лисьей островерхой шапке над благодушным лицом.
– Прощения прошу, господин офицер, забастовщики разобрали рельсы у второго поста.
Все бесило Коршунова: и внезапная остановка, и то, что перед ним поляк, и жалкий его жест: он переложил фонарь из руки в руку и свободной рукой поочередно прижимал к голове мерзнувшие уши.
– Почему не исправили?! – закричал Коршунов. – Всех расстреляю!
– Нас убить – царю вред сделать, – смиренно сказал бурят. – Солдат надо, дорогу чинить.
– Почему сами не починили? Где дорожные мастера?
– В Читу ушли. У разобранных рельсов караульных оставили. С солдатами на дрезине, прошу пана, скоро там будем.
Коршунов приказал протащить состав к перрону. Дежурный ехал с ними, повиснув на железной лестнице, бурят и сцепщик трусили рядом.
Через несколько минут вернулись посланные к депо и мастерским, – станционные службы на запоре. Пакгауз тоже. Пустыня. На водокачке – никого. Вокзал Коршунов осмотрел самолично: в зале у кассы под тусклой керосиновой лампой древний старик и кучка потерянных, застрявших на забайкальском перепутье баб.
– Погубите Россию, чертовы инородцы! – Коршунов вернулся на перрон и освобождающе ощутил легкими морозный воздух нагорья. – Дома не сидится: куда занесло!
– Прошу прощения, господин подполковник, – ответил поляк с достоинством. – Государь Николай первый назначил моему деду жить в Сибири, мой ойтец тут родился, а я натуральный сибиряк.
– Ойтец! – Он презрительно хмыкнул. Вдруг запоздало вспомнилось о жарких вокзальных печах. – Зачем печи натоплены?
– Хоть отогреться в этом аду.
Мороз забирал круто, дежурный хватался за уши, казенная шинель на нем дрянная, на рыбьем меху. Мертвая, безлюдная, выморочная станция, а Ренненкампф, пожалуй, и перед ней простоит в нерешительности долгие часы. Мысль о Ренненкампфе подстегнула Коршунова: к сброшенным рельсам он отправит десяток казаков с есаулом; караульных, если не сбегут, расстрелять на месте по исправлении рельсов, есаул выстрелами подаст знак трогаться транспорту. Часовые оставлены у пулеметов, свободным казакам он разрешил размяться в избяном тепле вокзала. Сам же Коршунов вернулся на паровоз: машинист лениво жевал прихваченную из дому лепешку и откусывал от ломтя бело-розового сала.
– Где кочегар? – спросил Коршунов.
– Не заплутает, он здешний, карымский.
И правда, заскреблись подошвы о железные ступени, показалась голова кочегара в черных кудряшках из-под шапки.
Все стало на место; есаул подаст сигнал, и они тронутся, полетят на закрытый семафор, только бы знать, что рельсы на месте, а дрезину сбросили в снег. Пахомыч велел кочегару подкидывать угля, поминал недобрым словом бессовестную каторгу, часто отдавал пары, белое облако окутывало паровоз, а густое шипение, словно ватой, запечатывало уши Коршунова. Он едва расслышал отдаленные выстрелы, удивился, что они почудились ему не впереди, а в хвосте поезда, слабые, будто пистолетные выстрелы. Но машинист сказал, что стреляли впереди, что это сопки и тайга играют. «Видать, караульных порешили… – сказал Пахомыч бестревожно. – Ежели бы кровь людская золотом в земле обернулась, не было бы нас богаче». Выстрелы не повторились, значит, карымское эхо донесло выстрелы казаков у второго поста. От топки волнами накатывало тепло, так что впору задремать, но Коршунову не дремлется; он и сердит на поляка, и ценит его: ведь если бы сволочь, шкура, то так и пустил бы транспорт мимо себя, на верную гибель. Служака, не посмел надеть меховую шапку на страдающие, тонкие уши, околевает, а тянется перед мундиром. Коршунов принялся просвещать Пахомыча, объяснял ему, что инженер Кнорре и его мастерские много добра сделали для Сибири, что цивильный немец нужен России, служит ей верой и правдой два века, а зло и бедствие – немец-генерал. Машинист заметил, что иной русский – из генералов – тоже охулки на руку не положит, и высказал предположение, что само генеральство – от лукавого, великий искус, испытание грешному человеку. «Не всякому плечу эполет придется: иной от золотого шнура так вознесется, что его с земли и не увидишь. А случается – редко! – генерал натуральный». – «Это. как понимать – «натуральный»?» – «Прирожденный: явился на свет божий, а уже ему нельзя не быть генералом, уж генеральство его ждет, только расти, не помри до срока, дождись своих эполетов. Такой генеральства не уронит…» «А если и он жесток? – Коршунова и сердило раболепие машиниста и радовала бездна всепрощения и фатализма. – Если и он на немецкий лад поведет себя?» Ответ Пахомыча готовый, выношенный, над ним и думать не надо: «Натуральный генерал если и прольет кровь, то и сам исстрадается, молитву к господу вознесет. Вот как он убьет, не по-злодейски…»
В короткие минуты, когда не сипит пар, тишина. Оторопь берет, как тихо может быть среди ночи на узловой станции. Из паровозной будки Коршунов оглядел пустынный перрон, увидел вышедшего из дверей поляка с воздетыми к ушам руками. «Надо же, тупица: мерзнет…»
К вокзалу подошли со стороны спящего поселка, подкрались осторожно к составу на всем его протяжении, и только казаков на тормозной площадке хвостового вагона – пулеметчика и часового – не сумели взять тихо: револьверные выстрелы и услышал Коршунов. Выстрелы всполошили и казаков в вокзале; кто сидел ближе к дверям, бросились на выход, но, распахнув двери, попятились от нацеленных винтовок дружинников. К казакам в зал вошел человек в полушубке, озабоченный, но без напряжения и страха, и заговорил с ними, не повышая голоса, по делу, по неотложной нужде:
– Известно ли вам, что в ваших вагонах под пломбами? – Он не стал дожидаться ответа. – Без меня знаете. Там не хлеб для голодных детей, там – оружие. Тридцать семь вагонов! Зачем их гонят в Россию, забирают вагоны под оружие, бросают в Харбине калек, раненых, запасных? И это знаете! Чтобы стрелять в нас, в рабочих и мужиков, которым невмоготу жить по-старому. Каратели убивают нас, а мы вам зла не сделаем, только возьмем оружие. То, что в вагонах, и то, что при вас: сами сло́жите. Пусть это будет для вас первым революционным уроком, если Маньчжурия ничему не научила. – Казаки смотрели недобро, глаза шарили по глухим, заиндевелым окнам и оштукатуренным стенам зальца: страх и досада, остервенелый поиск выхода и никакого отклика его словам. – Поезд захвачен, караульные казаки под замком. По уходе поезда с первой оказией вернетесь в Харбин. Где офицер?
Этого они не знали. Казаков разоружили, поставили охрану у дверей и окон, дежурный по станции и Алексей, счастливые удачей, бросились к паровозу предупредить Пахомыча, что, как только дружинники соберутся в теплушке, можно двигать на Читу. Бежали, не опасаясь беды.
– Пахомыч! – голосом, севшим от пережитого волнения, воззвал дежурный и, обойдя Алексея, ухватился за железные поручни. – Принимай пассажира, я с тобой, Пахомыч. Хоть уши отогрею!..
Встретили дежурного выстрелы: первый, не ему назначенный, а кочегару, в упор, неудобно для Коршунова, второй – в поднявшуюся голову, в околыш фуражки, словно приколачивая ее к голове дежурного и тут же срывая ее прочь. Падая, поляк сбил Алексея с ног; следом полетел в снег и Коршунов: Пахомыч ударил его ломом и столкнул вниз. Мерлушковая папаха закрыла Коршунова от смерти: он быстро поднялся и побежал, скрылся за паровозом прежде, чем Алексей поднял свой оброненный «смит-вессон».
Крадучись вдоль состава, Коршунов выстрелил в воздух, призывая на помощь казаков. Прислушался: никто не спешил к нему. От паровоза долетел стон, повторился, и вдруг за вагоном, по другую от Коршунова сторону, послышались осторожные шаги, щелчок взведенного курка и тяжелое, сдерживаемое дыхание. Кто там? Кто-нибудь из казаков или охотник, идущий по следу?
Коршунов побежал, чуть отдаляясь от состава, споткнулся о рельсу у стрелки, почувствовал себя незащищенным, открытой мишенью, и бросился снова под укрытие вагонов. Раздался выстрел из-под колес, пуля задела голенище. Коршунов прыгнул на ступеньку переходной вагонной площадки и замер, одним глазом поглядывая на площадку и открывшийся ему вокзал, чтобы выстрелить первым.
Оживала станция, громко перекликались люди, бежали к паровозу, голоса доносились от депо и от вокзала. Пробираться надо бы в хвост поезда и поскорее, уйти в мелколесье и там решить, что делать, где искать казаков.
Он слышал за спиной чей-то дерзкий, безрассудный бросок под вагоном, будто зверь метнулся, и, уходя от опасности, Коршунов кинулся вверх, упал на площадку, незряче выстрелил туда, где, по расчету, должен показаться преследователь. Мимо – Коршунов услышал сухой, чеканный удар пули о рельсу.
К вагону бежали дружинники, пришлось лечь лицом к вокзалу. Подполковник успел выстрелить, увидел, как человек упал, вытянув руки, зацепившись ногой за ногу, и тут же кто-то прыгнул на спину Коршунова, прижимал его к площадке, хватал за руки и звал своих. В последнее мгновение, когда плена, казалось, не избежать, Коршунов вывернул правую руку, выломил ее из чужих пальцев, так что дуло пистолета пришлось у его головы, с которой упала папаха. Коршунов выстрелил и сразу обмяк под коленями Алексея Лебедева.
Власть давно уходила из рук Холщевникова, само время отнимало ее, не унижая его, не закрывая от него губернии. В забайкальском отдалении, на железной дороге, которую редактор Арбенев назвал Невским проспектом Сибири, Холщевникову казалось, что события идут не в ущерб монархии и тому милостивому направлению, которое повелел придать России сам государь. Он понимал наступившее время как переходное, а переходное время требует тактики, разумных уступок и доверия к выборным лицам; все еще войдет в берега, и чист будет перед богом и совестью тот, кто не допустил напрасных смертей.
Но с недавних пор власть стала переходить от Холщевникова к генералу Сычевскому, командиру 2‑й бригады 9‑й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, и теперь утрата ощущалась остро и грубо, все словно бы сужалось и укорачивалось, судьба искала ему преемника, теряла интерес к его слову, поступку, к широкому, скользящему над землей шагу; уже и этот шаг казался вкрадчивым и несмелым. Сычевский угрюм и молчалив, без особой нужды он не скажет и слова в осуждение наказного атамана. Коренастый, серолицый, с немигающими глазами ржавой желтизны, он будет молча вышагивать рядом, стоять у стола, ненавидя рубленый крепкий табак Холщевникова, и его дом, и хозяина дома. В канители каждодневных дел Холщевников не сумел переломить событий, сбросить с себя молчаливую опеку Сычевского, самому попробовать отнять у комитета то, что он отдавал на протяжении трех месяцев. Ренненкампф уже вышел из Харбина, Меллера-Закомельского ждали в Красноярске – времени оставалось в обрез. Приход в Читу большого транспорта оружия послужит поворотом в истории Забайкалья и в его личной судьбе. Часть войск гарнизона, караульная команда, казачий эскадрон, служащие арсенала – все здесь, на станции Чита-город; на этот раз ни одна винтовка не минует артиллерийского склада.
Транспорт подошел с опозданием. Ни караульных, ни пулеметов на площадках.
– Обещали усиленную охрану – и ни одной канальи! – Сычевский приказал арсенальским чинам открыть ближайший вагон. Двери завизжали в железных пазах: в вагоне было пусто.
– Открыть! Открыть! – приказывал Сычевский.
Всюду пустота, мертвое, сумеречное нутро вагонов. На одной из площадок – труп офицера в бекеше и приколотая к его спине бумажка: «Оружие в количестве 37 вагонов, 29869 винтовок, 2,5 миллиона патронов и 900 пудов пироксилиновых шашек взято в пользу Читинского комитета РСДРП» и приписка в строку: «Каратель Коршунов не убит, а застрелился, не желая сдаться живым».
Тело перевернули. Имя Коршунова ничего не сказало Сычевскому, а Холщевников не подал виду, что знал подполковника. Коршунов задубел в позе самоубийцы; дуло револьвера только немного сместилось от входного отверстия, один глаз был вышиблен пулей, другой полузакрыт сизым веком.
– Взять машиниста и кочегара! – приказал Холщевников.
Никого на паровозе не оказалось.
16
Уже и по ночам, в отрывистом изнуряющем сне, Маша видела деревянный, в резных наличниках, дом Драгомирова, поднятый на саженный каменный фундамент, крутые ступени крыльца, праздничную белизну занавесок, водянистую зелень бальзамина на подоконниках. Осенью, когда полицмейстером был еще Никольский, Драгомиров стал менять ограду своей городской усадьбы в лабиринте улочек между духовной семинарией и Саламатовской улицей. Железнодорожная забастовка задержала чугунное литье, заказанное далеко и недорого – в Петровском заводе за Верхнеудинском, в старый забор прямо против канатно-веревочного завода успели поставить только сквозные затейливые ворота с калиткой. Иней нежной белизной закрыл некрашеный чугун.
Стрелять в Драгомирова удобно, его грузная фигура, как мишень, в чугунном проеме калитки. Можно стрелять через улицу, от заводского сарая, но был риск не убить, ранить, и ранить легко, как ранил два дня назад, 23 декабря, вице-губернатора Мишина сожитель Анны Зотовой. Все было состряпано бездарно, на дело отправились, как гимназисты, держась за руки. Вопреки запрету организации, Анна унесла и динамитный снаряд и уронила его вместе с муфтой, когда бросилась бежать после неумелых, трусливых выстрелов на людях, с двадцати шагов. Стрелявший чудом скрылся, а Зотову взяли, и жандармские чины повымели все из особняка золотопромышленника. Мишин не убит и тремя выстрелами: задета рука и одна пуля засела в мякоти бедра. Оправившись от испуга, вице-губернатор повеселел и благословлял террористов: они превратили его в героя дня, на пуховую перину он лег не так, как Никольский или генерал Кайгородов, не с медвежьей болезнью, а в ореоле страдальца.
Почему Мишин? За что ему эта честь? Если исполнитель будет схвачен, как партия социалистов-революционеров его устами объяснит на суде казнь Мишина? Чья кровь на нем? Трусливый администратор, хитрец, сама уклончивость в мундире действительного статского советника, – в чем его особая вина? Он только три дня управлял губернией: сначала сбежал в Петербург Кутайсов, притворно заболел генерал Кайгородов, заменивший Кутайсова, и Мишину пришлось вступить в управление губернией, – вступить, но еще не управлять ею. Анна Зотова ненавидит Мишина – он не разрешил ей после Петербурга проживать в Иркутске: потребовалось вмешательство Кутайсова, деньги отца, письменное обещание содержать дочь под домашним арестом.
– А почему, собственно, Драгомиров? – выходил из себя Кулябко-Корецкий. – Тупица, солдафон, недавний пристав, вынесенный на поверхность случайностью? Не лучше ли избрать мишенью пристава Щеглова или казачьего сотника провокатора Сутулова? Почему исполняющий обязанности полицмейстера, а не жандармский начальник Кременецкий?
Маша объясняла: на Драгомирове кровь ссыльных, руками Коршунова он убил их. Она напоминала прошлое партии: социалисты-революционеры всегда стремились безотлагательно и беспощадно ответить на палачество, на надругательство над жизнью и достоинством политических. Ей возражали: изгнание в тайгу ссыльных на совести Коршунова. И нужно убедиться, что они погибли, что их не подобрал шедший следом поезд, что они не набрели на дом лесничего или таежную заимку. Говорили с ней снисходительно, извиняя ее горячность, сухие, запекшиеся губы и черные круги у глаз. Спорили, как с больным ребенком, как с блаженной, у которой жизнь едва ли не вся в прошлом, не отвергали ее каприз, а просили повременить, не мешать прежде сделать серьезное дело. Кулябко-Корецкий уверовал в то, что Кутайсов бежал не в страхе перед разраставшейся забастовкой, а единственно опасаясь бомбы или выстрела. Та же угроза, по мысли Кулябко-Корецкого, заставила сесть под домашние запоры и генерала Кайгородова, а Мишин, приняв управление губернией, сам обрек себя казни. Нетерпеливый, рассеянный крепыш, не в меру обидчивый, стоял против Маши, загибал красноватые пальцы и называл крыс, бежавших с тонущего корабля от угроз эсеров: улизнул в Петербург Штромберг – управляющий государственными имуществами губернии; управляющий казенной палатой Лавров умыл руки, подал заявление о болезни; сказался недужным и старший советник Людвиг, назначенный в Якутск вице-губернатором; попросил отставки советник Виноградов; исправник Шапшай, трус, тайком, через свояченицу, ищет связей с революционерами; прячется бывший полицмейстер Никольский. И не было в этом круглоголовом одержимом человеке сомнения, что губерния рушится в страхе перед его партией, его пулями, селитрой и полыми чугунными шарами; если одни угрозы террора так потрясли власть, то осуществленный акт довершит дело. Она не знает Сибири, твердил Кулябко-Корецкий; здесь социал-демократам делать нечего, Сибирь – край крестьянский, издревле приверженный свободе, у них все сделается не по Марксу, власть нужно брать с мужицкой грубостью – в городе террором, в деревнях, выжигая усадьбы кабинетских лесничеств, урядников и становых приставов. Именно в Сибири эсеры облагодетельствуют народ; весь риск борьбы – себе, но успех – в дар народу, на его воскрешение и возрождение.
В словах вожака иркутских эсеров Маше слышались отголоски чего-то далекого, потускневшего после Верхоянска. Шелуха слов, без душевного страдания и совестливых раздумий минувших лет. И она и умерший Андрей попали на Яну как боевики, не раз рисковали жизнью, верили в свое предназначение, знали свой сегодняшний день, угрозу и тяжесть завтрашнего и не притворялись, что ясно видят будущее России. А эти с обочины, кривя рты, взирают на безоружных солдат, на рабочие дружины, охраняющие город от погромов; сытые, не познавшие тюрьмы, карцера, допросов, они самонадеянно распоряжаются завтрашним днем России. Где чистые, превосходные люди, за которыми она пошла в движение? Или вся беда в Иркутске в мизерии этой губернской кучки самозванных социалистов-революционеров? А может, переменилась она? Спорила с Бабушкиным, пока он стоял в провонявшей селитрой комнате, закипала яростью на его неверящий взгляд, страдала от невозможности заговорить с ним иначе, ровно, как в дороге, после ночевы в избе Катерины, когда разом отхлынуло глупое, бабье, тайное и темное; страдала и спорила, ненавидела, теряла над собой власть, но в придонном, глубинном течении мысли и чувства как-то менялась и сама. В памяти остался Бабушкин, искоса поглядывавший на ширму, за которой была она, готовая выйти под яркий свет лампы и остановленная, пораженная пророческим чувством, что она видит его в последний раз, что он будет жить долгий век, а ей жить нечем, бог сохранил ее не для жизни, – для мести, единственно для мести, и месть должна быть безошибочной, с двух шагов, наверняка, так, чтобы и своей плотью, оборванным своим дыханием, в смертной уже тьме увидеть и гибель врага. Приникнув к ширме, смотрела на него с печалью и недоумением, что же разделило их и не дает помириться, смотрела, тоскуя, что вот она выйдет из-за ширмы, и они снова – враги. Пока смотрела тайком, ловила тени на светлом лице, отголоски его презрительного спора с Анной в движении усталых, обведенных краснотой глаз, в подрагивании своенравной нижней губы, в особой, только ей ведомой, омраченности чуть наклоненного лба, пока он сражался не с ней, пока видела его женским, лекарским, идеальным взглядом, ощущала в нем и что-то близкое. Но знала: сейчас она появится из-за ширмы и снова увидит в нем раба толпы, а в себе – вольную птицу. Нет, он не переменил ее мысли. Не логика его, а лишь живой образ отразился в ней, то, как он жил и принимал без искательства чужую жизнь, сходился с попутными людьми, если и в них была деятельность. Террор приучал Машу к гордому избранничеству, к прихваченной пламенем, задрапированной в черное дружбе клана заговорщиков. А он, изведавший тюрьмы и подполья, открывал ей действительность другой дружбы, простой общности с людьми и доброту понимания их. И снова образ его раздвоился: отдельно жил ее дорожный спутник, заботливый, пристальный недотрога, влюбленный в свою Пашу, в женщину, которую, быть может, он и выдумал для себя, и другой – упрямый политик, действующий так, будто ему и его единомышленникам и впрямь дано управлять событиями. Где его оружие? Как долго может дожидаться его Иркутск? Века́ надо ждать, чтобы пробудился народ, а у человека одна жизнь, и след надо оставить в ее срок.
Придется в Драгомирова стрелять. Вынесенную бомбу бездарно уронила Анна, остальное взяли жандармы, особняк Зотова стал опасен для Маши, и она снова оказалась в Глазково, в доме машиниста Григория. Здесь ее приняли, ни о чем ни спрашивая, и для нее – молчаливой, закрытой – нашелся ломоть хлеба и тарелка похлебки. Не допытывались, что ее так перевернуло – до черноты, отчего на ней повисла одежда, отчего Маша идет мимо зеркала, склонив голову. Было горько от невольного обмана; ведь ее приняли здесь как спутницу старика, его сестру милосердную, – порванная, умершая ее общность с Бабушкиным кажется им живой и несомненной.
Три ночи Маша почти не спала; забудется на короткие минуты, и снова с толчками крови прихлынет мучительство мысли, – пройдет день-два, и она выполнит приговор, ударит в набат; ее поступок назначен разбудить тысячи, а среди них – и славных ее хозяев, заставить их действовать. Кто дал ей на это право? Лежать под их одеялом, притянув к подбородку холодные, не согревающиеся колени, лежать, затаив дыхание, будто и оно может выдать ее планы, есть их хлеб и, не спросясь, распоряжаться их жизнью!
Мысли эти были неожиданны и новы: былые покушения тоже ведь назначались небу и земле, дворцу и хижине, власти и народу. Наказать власть и разбудить народ. Власти устрашались ненадолго, но пробуждался ли народ? Поднимался ли с оружием, чтобы отбить у жандармов и тюремщиков своих героев? Случалось, отбивали, но не народ, а свои же, боевики, отчаянные головы, все те же одиночки. Казалось, народ затаивал дыхание, а то и отступал, обманутый властями, газетами, попами, отступал и клял своих героев. А кто ее вызволил из Верхоянска? Не товарищи по партии эсеров, а какая-то другая сила. Маша гнала от себя эти мысли, а они все жестче обступали ее в образе встречных незнакомых людей, бегущих через пустынную площадь к дому якутского губернатора; ссыльных, одной семьей живших в теплушке; рабочих сибирских станций, сбегавшихся, как на праздник, к их эшелону. Есть же какая-то сила, которая вызволила из плена ссыльных, позволила и Глазково жить так, будто не существует уже ни губернатора Восточной Сибири, ни Зимнего дворца на набережной Невы. И так ли будет теперь, как было прежде: жизнь – за жизнь, ее выстрел – и выстрел в нее, ее святой приговор – и виселица для нее, ее месть – и отмщение ей? Маша ощутила тайную и обременительную связь своей жизни с существованием других людей, – не внушено ли ей это Бабушкиным и особенно стариком; мертвый мудрый застреленный старик мешает ей мстить за самого себя, за братьев по ссылке, является непрошенно со своими резонами, с верой в массы темных, непросвещенных людей. Но чаще приходит Бабушкин, чужой и строгий, в распахнутом полушубке, в рубахе всегда свежей, будто ночей не спит – крахмалит, стирает, с черной бабочкой под бритым подбородком, приходит и смиряет голос, через силу смиряет учительство, проповедь, хочет казаться спокойным, равнодушным при этих пристальных, неусыпных, в болезненной красноте глазах. И он о том же; бесплотный – о том же; исчезнувший за Байкалом, безгласный, о том же – не стреляй! Смири гордыню и не стреляй! Не стреляй, пока не родится восстание!
Перила на мосту отполированы руками до блеска, теперь они еще и в слюдяной наледи, правая рука Маши скользит легко, не замечая холода. Наталья сунула ей рукавицы, будто угадала, что ее рукам сегодня нельзя зябнуть, пальцы должны сохранять гибкость и силу. «Почаевали бы, – сказала Наталья без особой надежды. – На тощий желудок мороз крепче кусает. Неужто и минуты свободной нет? Вам и жить-то некогда».
Не минута – впереди час свободного времени, но оставаться в доме Маше нельзя. Здесь все удерживает ее от решенного шага, отнимает частицу воли, – и честный уют этого дома, и дети, чья жизнь таинственным образом связана с тем, что задумала Маша, тени старика и Бабушкина. Ветер ей нужен, хлесткий, истязующий, чтобы слезы из глаз, тусклые, будто свеча уронила, капли на воротнике, мороз немилосердный, чтоб и в ее сердце не закрадывалось милосердие.
У Драгомирова привычка: замереть на секунду в чугунной раме калитки, встать на порожек носками сапог. Этот миг неподвижности и нужен Маше, – чтобы все шло заведенным порядком: дверь, беззвучно открывшаяся на крыльцо, за порогом женщина с высокой открытой шеей, ее голая, неторопливая рука, осеняющая мужа крестом, дети в глубине прихожей. Только бы рождество не изменило распорядка его жизни; рождество и выстрелы у дома Мишина, – если за Драгомировым прискачут и верховые казаки, будет трудно исполнить приговор. Но казаков не было ни 24‑го, ни вчера, 25 декабря. Анна на допросе объяснила покушение местью за то, что Мишин требовал выслать ее из Иркутска, сказала, что стрелял нанятый, из сахалинцев, и куда он скрылся, ей неизвестно. Признания Зотовой звучали правдиво, но не святую хоругвь партии эсеров подняла она над толпой, а черт знает что: униженное вице-губернатором платье столичной курсистки.
На что уходят мгновения рассеянного стояния Драгомирова в чугунной раме, пока отведенная его рукой узорчатая калитка медленно наезжает на него со спины? Сожалеет ли он, что надо шагнуть на улицу, повернуть направо, где сего дожидаются ковровые сани, окунуться в смрад непокорства, встретиться с ненавистью чужих глаз, прожигающей, как раскаленными углями, шинельное сукно на спине? Радуется ли господнему миру, который милостив к нему, судьбе, поднимающей его выше и выше по лестнице, которая так трудна для других? О чем бы ни размышлял Драгомиров – он обречен. Два складских, уступом выходящих на улицу строения канатно-веревочного завода удобны для Маши: она увидит на крыльце Драгомирова, повременит, затем тронется по тротуару, спрятав руки в муфту, и сойдутся они в избранном ею месте: полицмейстер – на чугунном порожке, она – у фонарного столба. И выстрелит не в спину, не даст умереть вдруг, без страха и муки. Издали вид Маши не потревожит его, на ней теперь не хламида из шинельного сукна, среди вещей покойной матери Анны нашлась старая шубка легкого синего бархата, горжетка из черной сибирской лисы, с сухой расплющенной мордой и желтыми стеклянными глазами, старомодные боты и шапка того же синего бархата, отороченная нависающим на глаза куньим мехом.
Маша брела по мосту, ее обгоняли люди, река цепенела внизу, укрытая шугой и «салом», умеряла свой бег.
– Барышня! А барышня! – услышала она женский голос.
Только что мимо Маши по уступчатым мосткам правого берега прошла женщина с котомкой за плечами, она остановилась вдруг и позвала. Маша обернулась: никого ей в это утро не надо, ни доброго, ни злого, ни друга, ни врага, ни чужой злобы, ни участия.
– Неужто не призна́ете! – дивилась и укоряла женщина.
Она открыла в неуверенной улыбке цинготный рот с поредевшими зубами, конфузливо, виновато подняла рукавицы к щекам и бабьим неумышленным движением раздвинула серый деревенский платок, приоткрыв скулы; все вдруг прояснилось, обозначилось: густой, озерной прозелени глаза, голодные морщины у рта, дерзко срезанный чувственный нос в неприметных просяных веснушках, тулуп в заплатах и мужицкая волчья шапка под платком.
– Катерина! – воскликнула Маша. Прихлынула радость, разумом ее не объяснить: только что никто не был нужен, любой мог помешать, и вдруг – радость.
– Признали бабу непутевую… признали черную!
И такая была тоска в ее низком, шепелявящем голосе, такое облегчение и жажда участия, что Маша выпростала руку из муфты и бросилась к Катерине Ивановне. Они припали друг к другу, синего бархата шубка и темный тулуп в серых и рыжих заплатах, и Маша говорила, словно на ухо Катерине, чтобы никто больше не слышал:
– Как же!.. Мне вас век не забыть, голубушка, спасительница вы наша… И вас, и девочек, и славного брата…
– Помер кормилец, – сказала Катерина строго. – Сбирать больше не стал; богатый в голод не подаст, а у бедного и для себя нет. Пропали куски, Григорий кормиться не стал…
– Как это? – недоумевала Маша.
– Сожмет десны так, что и силком не разнимешь. Не ест. Сказал: «Я свою жизнь всю изжил. Ты и рук не труди, не суй мне»… – Стала оглаживать на Маше бархат, сдернув рукавицы, будто объятием своим могла что-то загрязнить, испортить в господском платье. – Помнишь, когда вас везла, справа чагравая бежала? Кобыленка. Снегом в тебя из-под копыта кидала. Забили ее, – тихо сказала Катерина, – а поздно: не поднялся уже Григорий…
– Лошадь убили? – В голосе Маши мучительная неловкость, неумение представить себе мертвой резвую лошаденку, и не просто мертвой, а разрубленной на куски, пищей человеческой.
– Не ждать же, пока и вторая упадет; мертвечину исть – грех, а нынче и ее на стол: бог милостив, простит. Теперь ее служба – вся, до конца… – Трудные мысли отрезвили ее, вернули к жизни безжалостной, как она есть. – И тебя перевернуло: выходит, и в сытости-то не сладко. – Свободнее вгляделась в Машу, в выбеленные инеем темные пушинки над губой, в обозначившиеся челюсти, в горящие глаза: – Сыта ли ты?








