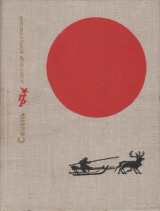
Текст книги "Сечень. Повесть об Иване Бабушкине"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– Как же так! – возмутился подполковник. – Кругом солдаты, казаки бегут, а вы нас за бунтовщиков принимаете.
– Мало ли здесь казаков и солдат за красным флагом бегут! – посетовал Бабушкин. – Тут и обмануться недолго.
– Ты что за персона, господин в крахмальной сорочке? – Подполковник высок, длиннорук, скор на расправу, а эти людишки ускользают, еще и его винят, мол, убил преданного машиниста, морозит честных обывателей. – Тебя каким ветром сюда занесло?
– В Читу ездил, к купцу Спиро Юсуп-Оглы, лавка его у вокзала. Два вагона муки должен поставить ему. Теперь сомневаюсь, как провезешь? Скоро ли утихомирится здешний народ или прежде с голоду перемрет?
Энгельке приглядывался к Бялых: мнилась ему растерянность в молодом увальне, взгляд Бялых сулил неумение лгать и изворачиваться. Приоткрытый рот, робкое поглядывание на офицеров обещали сговорчивого простолюдина, из тех, что не утаят правды и себе в ущерб.
– Ты, что же, дружок, – обратился Энтельке к Бялых. – Ты и в самом деле житель Слюдянки?
Бялых кивнул, как показалось Энгельке, услужливо, опуская голову и сутулясь.
Всякий день при эшелоне Меллера-Закомельского оскорбляли в Энгельке юриста, правоведа. Люди, которых убивали в депо, на вокзалах, у стен пакгаузов, не вызывали в нем жалости – бесило несоблюдение формальностей. Что, как не с одного барона спросят ответ за казненных, а однажды призовут и его, Энгельке, потребуют правильно оформленных дел, приговоров, по крайности, точных списков? Разумеется, Энгельке состоит при бароне, барон – генерал-от-инфантерии, Энгельке – полковник, но он прикомандирован к барону, к самому барону, а его превращают в безгласный придаток то жандармского полковника Ковалинского, то начальника штаба отряда полковника Тарановского, а чаще всего – этого вот моветона, Заботкина, подполковника 55‑го драгунского Финляндского полка, коменданта поезда Меллера-Закомельского. Зачем-то послан же в Сибирь не малый чин, а он, Энгельке, без пяти минут генерал, помощник начальника отделения главного военно-судного управления, – разве они с бароном не ровня? В военно-судном генерала дают не так легко, как доморощенным пехотным гениям.
Пока двигались по Самаро-Златоустовской дороге, Энгельке старался поспеть за событиями, возникал повсюду, где шла расправа, даже сечь мешал без дознания и бумаги. Но им пренебрегали: в Туле ефрейтор лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка Телегин проткнул штыком запасного солдата и об товарищей убитого тут же сломали два приклада. На следующий день в Пензе подпоручик Писаренко за ропот и несогласие выстрелом в живот убил в вокзале запасного. С 4 января, со станции Шафраново, Заботкин ввел в моду шомпола и презрительно пожал плечами, когда Энгельке напомнил ему, что и это лекарство должно прописываться военным судом. Поначалу все били прикладами, но в Сызрани барон, узнав о сломанных винтовках, изволил за обедом пошутить, что если дело пойдет и дальше так, то к Сибири они рискуют остаться безоружными. 8 января барон с казачьим конвоем отправился со станции Омск в дом сибирского командующего генерала Сухотина, на обратном пути в Меллера было сделано два выстрела. Барон собрал офицеров в вокзальном ресторане, потребовал вина, повеселел, стал хвастаться и, по обыкновению, злословить, объявил Сухотина трусом и старой клячей, оседланной жандармским полковником Сыропятовым, который запугал его революцией и бомбами: командующий никуда не показывается, сам себя посадил под домашний арест и даже 6 декабря, в день тезоименитства, не был в соборе. Послушаешь его, думал Энгельке, и поверишь, что всяк вокруг или дурак, или подлец. И только эта мысль мелькнула в законопослушной голове военного юриста, как барон уставился на него: «А вы всё недовольны, полковник! Всё вам мечтается о правильном судопроизводстве. Забудьте! Господа! – Он досадливо-небрежно отвлекся от Энгельке. – Получена телеграмма государя, в ней выражается уверенность, что мы исполним его поручение. Напоминаю всем: начальники караулов и все прочие, любой офицер, выполняющий волю государя, может быть обвинен только в попустительстве и непринятии нужных мер, а никак, никак, – и он снова обратил недобрый взгляд на Энгельке, – не в чрезмерной строгости и превышении власти».
Возможно, барона бесила наружность Энгельке, его уныло-департаментский вид, выработанная медлительность движений, мертвое, землистое лицо с оттянутыми нижними веками и дряблыми щечками, взгляд прилипчивый, но без страсти и подобострастия – все бесило, даже и трезвость юриста, словно он соглядатай в чужом стане. Поезд углублялся в Сибирь, и роль Энгельке сделалась жалкой. Он увязывался за Ковалинским и Заботкиным, за несносным выскочкой чиновником Марцинкевичем, прислужничал, привыкал и сам к рукоприкладству. В Иланской за вокзалом столкнулся с женой одного из убитых рабочих, испугался ее и ударил по щеке, потом в висок, в грудь, потом коленом в живот, в пах, и ругался грязно, озираясь, обмирал от стыда и постыдного ликующего чувства, что и он смог, смог ударить рукой без перчатки, а при нужде мог бы и шомполом.
– Был в Чите? – спросил он у Бялых.
– В Верхнеудинске. К брату мать проводил: одной боязно, пассажирские не ходят.
– Верхнеудинск близко, – Энгельке погрозил пальцем. – Мы проверим, проживает ли там твой брат, при нем ли матушка.
– И мне можно с вами туда? – спросил Бялых.
– Если довезешь свою требуху – можно! – вмешался Заботкин.
– Прикажите протопить и доедем, куда денешься! – ожил Бялых, радуясь дороге и жизни. – Солдат раненый, без крови против мороза ему не выстоять.
– Скажи, пусть угля несут, – сурово проговорил Воинов хриплым, севшим голосом. – Хоть в тепле помру.
Заботкин подскочил к Воинову и ударил его по лицу так, что тяжелая голова мотнулась, как неживая; ударил и уставился в его зрачки: что покажут – бунт, ненависть или страх и боль. Смотрел и не углядел ничего нового, то же спокойствие, достоинство, ту же упрямую, тупую, на взгляд Заботкина, погруженность в себя.
– Не верю я тебе, сволочь! – сказал Заботкин.
– Нынче никому верить нельзя, – согласился Воинов. – Ты мне не верь, не верь, пока жив, а помру – помолишься за меня, Ты ж не нехристь, в бога, поди, веруешь?
– Как разговариваешь с офицером, скотина! – Но чья-то отчаянная рука задержала кулак Заботкина. Обернулся и увидел укоризненные глаза торгового агента, подрядчика с воспаленными веками на светлом, благородного овала, лице. – Прочь!
– Мне вчуже больно, господин офицер, – сказал Бабушкин. – Уж лучше меня ударьте, это бог простит.
– В Харбине нас так обучили, ваше превосходительство, – снова подал голос Воинов. – Как офицер к солдату, так и солдат к офицеру, чтоб всему народу поровну, как государь пожелал.
Тревога Бабушкина, что собьются с роли, миновала. Дело запуталось, следствие потребовало бы не дней – недель, телеграфных запросов, дознаний, проверок и перепроверок.
– Как же ты садишься в вагон, а в нем оружие? – не отставал Энгельке от Бялых. – На смерть идешь, а ради чего? Какой твой умысел?
– Вернуться домой: вот и весь умысел. Вижу – ящики, а чего в них? Я и не спросил. Верно, солдат?
– Он песни горазд петь, – сказал Воинов.
– Гробы стояли бы, и то поехал бы! – Бялых улыбнулся.
– А вы? – обратился Энгельке к Бабушкину. – Вы-то, надеюсь, поняли, на чем сидите?
– Как не понять.
– Зачем же не вышли?
– Который год война, и всё оружие возят, – ответил Бабушкин хмуро, не без чувства вины, но и с глухим протестом против обстоятельств. – Всё под него вагоны берут, купцу вагонов нет. Всего оружия не переждешь.
– А что, как это преступное оружие?
– Неужто стал бы его солдат везти? – сомневался Бабушкин. – Там винтовок, надо полагать, на полк. Одному-то зачем? – Он пожал плечами. – Помыслы бывают преступные, а оружие – обыкновенное, товар. Нынче два товара в твердой цене: хлеб и винтовка.
Он охотно отвечал полковнику, но не выпускал из внимания Заботкина, его оскорбленности тем, что они не даются и все им в помощь: поездной грохот, стужа, когда и дрожащий голос и застучавшие зубы не объяснишь страхом, и слабый свет фонаря.
– Какие песни пел этот прохвост? – Заботкин кивнул на Бялых.
– Старинное пел, – ответил Бабушкин.
– «Марсельезу»? «Варшавянку»? Назови! – Он усмехнулся. – Ты мне, рыло кувшинное, три песни назови.
– Не по закону вы со мной и не по совести, – Бабушкин обидчиво вздохнул. – Но ради юноши прощу…
– Ну, лиса! – Заботкин ухватил Бабушкина за воротник полушубка и тряхнул его. – Иди прямиком, не петляй!
– «Ревела буря, дождь шумел», «Выхожу один я на дорогу»… – вспоминал Бабушкин, – «Однозвучно звенит колокольчик»…
– Ну! Еще! – Заботкин повернулся к телеграфистам. – А вы, голубчики, что запомнили?
Вспоминали не пение Бялых – он только и спел что про солдата из Порт-Артура, – а песни, какие в обиходе, если спросит офицер Бялых, чтобы тот не оплошал, пропел бы хоть строфу из «Чудный месяц плывет над рекою», «Хороша эта ноченька темная», «Степь да степь кругом». И тут сорвался Ермолаев: пришла на память любимая:
– «Был один-то, один у отца, у матери», – сказал и осекся, но уже Заботкин тянул из него жилы, требовал повторить, не слушал сомнений телеграфиста, точно ли пел эту песню Бялых.
А Бялых расцвел широким, веснушчатым и среди зимы лицом:
– Пел! Как же, ее два раза пел, «Был один-то, один у отца, у матери», – затянул он негромко.
Все один – единый сын.
Как его-то берут, разудалого,
Берут в службу царскую,
По указу его, разудалого,
Берут государеву…
– Хватит! – прикрикнул Заботкин и снова к Бабушкину: – Ты, что же, из благородных? Шута ломаешь?
– Подлого мужицкого сословия я, – ответил Бабушкин с мрачной решимостью говорить правду, не крыться ни в чем. – Однако выбился в люди, свою мысль об жизни имею: на торговлю уповаю и на просвещение.
– Подрядчик! Приказчик чертов! – с ненавистью выкликал Заботкин. – Руки покажи!
Протянул руки, локти прижав к бокам: под мышкой торчали варежки, он привык снимать их так, одним движением.
– Сам мешки грузишь?
– Случалось.
– Когда из ссылки?
– Бог миловал.
– А мы не помилуем!
– Ночь-то, ночь немилосердная! – сказал Бабушкин с глубокой горечью, словно бы с сочувственным к офицеру пониманием. – Кровь напрасная, ночь без сна, это и ангелу не под силу. Даст бог доброе утро, и у нас другие глаза друг на дружку откроются…
20
При фонаре, пока Заботкин и Энгельке вели первое дознание, Бабушкин обшарил взглядом внутреннюю стену из неоструганных кедровых плах, в два слоя, судя по загнутым концам плотницких, забитых с другой стороны, гвоздей. Ножу Воинова, припрятанному в голенище, стена отозвалась костяным неподатливым скрежетом, и все же скреблись, грызли дерево кованной в красноярской кузнице сталью, напрягались поочередно, чтобы не околеть в тряском гулком леднике.
Хуже других Воинову. Наружу крови пролилось немного, она ушла в легкое, отняла свободное дыхание. Его укрыли потеплее, он не мог брести по вагону, охлопывать себя до изнеможения руками; пока не рассвело, Воинов подавал голос, встревал в разговор, покашливал, шумно тянул воздух одним легким, дивясь покойной мертвой тяжести правой стороны и недокучающей боли в спине у лопатки, где застряла пуля, пробившая вагонку, шинель и грудь, – пусть знают, что он жив их заботами.
Безоружный Иркутск не шел из головы, мысль возвращалась к убийству Драгомирова, и Бабушкин впервые открыл товарищам, за что иркутский полицмейстер был приговорен к казни эсерами. Прежде не хотелось говорить об этом, не хотелось трогать Машу, а в эту ночь пришла потребность рассказать: непрощающе, без снисхождения к ее бессильной отваге, но и не торопясь с приговором. Вспомнил тревожный отъезд ссыльных и ночь за Красноярском, когда в тайгу выгнали раздетых людей, и то, что один из убийц, подполковник Коршунов, застрелился на их глазах в Карымской.
– Они пачками кладут, а их не тронь! – Воинов, будто только теперь, и сам заглянув в пропасть, сделал для себя это открытие. – Им любая кровь прощается, а ты ничего не смей! В яму поди, а не смей!
– Она свое дело сделала, попутчица твоя. – Бялых брел позади Бабушкина в тяжелых сапогах, тыкался в спину Бабушкина не от усталости, от нетерпения. – Остался бы при мне револьвер, я бы подпоручика застрелил: живой бы он в вагон не влез! И еще кого: двоих-то непременно.
– Чего дешевить, Бялых! – сказал Воинов. – Дождался бы барона и – в него! Вся Сибирь тебе поклонилась бы.
– Отняли бы! До барона десять раз отняли бы! – выкрикивал Бялых, страдая несправедливым устройством жизни, когда один открыт смерти, а другой ото всего защищен, закрыт, спасен заранее. Я без промаха! Без промаха! – твердил Бялых, враг виделся ему в двух шагах, как Заботкин и Энгельке час назад, и верил, что без промаха, хотя за всю жизнь успел сделать с десяток выстрелов на читинском стрельбище под присмотром Антона Костюшко. – Наповал!
– Я уже говорил об этом: отчего среди террористов так много женщин? – У Савина обыкновение отвлекаться от вспыхнувших страстей к общему размышлению. – Хорошо это или дурно? Что в этом: будущее движения или обреченность?
Эти вопросы к нему, к старшо́му, – их опыт еще мал, до последних лет Сибирь видела террористов больше в кандалах. Именно здесь, в заснеженных пространствах виноватой России, в Сибири, поглотившей сотни осужденных революционеров, открылось Бабушкину как тревожное прозрение, что терроризм живуч, не скоро его избыть России и миру.
– Затупился нож; за неделю не продолбить, – огорчался Ермолаев. Ему трудно ходить, он чаще других скребется ножом, привалясь плечом к стене.
Савин ждал ответа, и не один Савин: капкан захлопнулся, безоружным можно лишь мечтать о выстрелах в барона – средства борьбы у них отняты. В такие часы мысль устремляется к тем, кто свободен действовать, кто утвердил себя поступком, ударом по врагу. Даже Карымская как-то потускнела в памяти, все померкло на миг перед карающей рукой женщины. Не слепцы же сошлись здесь, не им растолковывать, сколь тяжким оказался ее выстрел для движения, для жизни многих людей; откуда же их спор с собой, совестливые сомнения, потребность – сожалея, даже осуждая, все же снять шапку со склоненной головы? Уже и рабочая Чита, и кандалы, сбитые с акатуевских узников, и легальная газета, и взятие оружия на Карымской – все кажется им не чудом, а будничной работой, а та, одинокая, вынувшая из муфты револьвер, возникает в ореоле мученичества. Что это, свойство души всякого совестливого человека или только русская черта? Европу он видел транзитом, прошел ее полуголодным, немотствующим пассажиром, лондонских рабочих разглядывал в зале тред-юниона, благополучных, как ему показалось, скучно голосующих, – способны ли они убивать своих полицмейстеров? Он жизнью выстрадал идею общей борьбы, восстания массы; он враг эсеровских авантюристов, но и для него Маша – порождение не одного зла.
– С эсерами женщин не больше, чем с социал-демократами, – сказал Бабушкин. – Но в терроре они приметнее, будто на подмостках, их отовсюду видно. Моя учительница по воскресной школе в Питере, молоденькая тогда, Надежда Крупская, совсем молоденькая… – Он помедлил: что для них это имя? А для него в ее имени – жизнь, открытие мира, постижение истины; светлое славное лицо, первым увиденное им в проеме лондонской двери на Холфорд-сквер, человек, не знающий, что такое отдых, тугая пружина всего механизма «Искры», твердость и участливость в одном лице. – Вам ее имя ничего не скажет, а Виктору Курнатовскому говорит и другим профессионалам – тоже. Она делает много, огромно, но пока не победит революция, люди не узнают о ней, а имя женщины, которая застрелила губернатора или полицмейстера, хоть на день, на час займет все умы.
Нож выпал из рук Ермолаева, ударился о пол.
– Можно, я возьму нож? – Бялых присел, шарил рукавицами.
– Ишь, шустрый! Если у тебя резня на уме, не дам, – сказал Воинов. – Тебе жить надо.
Бялых нашел нож и помалкивал, понял, что Воинов не отнимет.
– Есть и другое обстоятельство, Савин, – продолжал Бабушкин. – Бывают женские натуры отважные до безрассудства, для них доводы рассудка – ничто рядом с сердцем, с его потребностью, с прихотью даже. Все у них определяет сердце.
– Разве таких нет среди мужчин? – усомнился Савин.
– Их меньше среди деятельных, поднявшихся до борьбы людей. Что-то делает мужчин такими – служба, семья на плечах, большая грубость права, не знаю. Много грехов, но идеализма меньше. Не согласны?
– Думаю. Не знаю, – признался Савин.
– А ваша жена, если бы она выбирала партию? – Припомнились ее беспокойные глаза под густыми бровями и покровительственный, превосходящий тон.
– Этого и я не знаю. – Голос Савина смягчился, проникся нежностью. – Она слишком женщина, слишком мать, слишком легкий, веселый человек… – Оказалось, радостно, хорошо говорить о ней. – Мы с ней, в сущности, два дилетанта. Что я сделал: пока еще ничего! Задержал несколько важных телеграмм и передал несколько запретных. Понял, что жить рабом – недостойно… Еще моей заслуги в революции нет, – сказал он твердо. – Вот и поэтому еще я обязан вырваться, уйти живым… – от волнения он остановился, и Бабушкин уткнулся грудью в его плечо. – …сделать что-нибудь, что заслуживало бы на их суде казни.
– Ты у них казни не проси, Савин, они на это дело щедры! – Что-то по-прежнему раздражало Воинова в Савине, быть может, докучливая потребность телеграфиста осмыслить и то, что, по разумению Воинова, само собой составляет жизнь и обиход человека, решившегося на борьбу. – С них и телеграммы задержанной хватит, если из Питера, министерская. За государеву четвертовать могут.
– Вот заладили: казнить! четвертовать! Уйдем мы от них. Не до нас им, в Забайкалье им такого огонька поднесут, что думать о нас забудут!.. – Бялых природа отпустила много молодого упорства, простодушной веры в счастливую звезду, а вместе с тем и инстинктивного страха, боязни темноты, не этой, ночной, а пугающей и непредставимой. – Ивана Васильевича три раза брали, а он – живой! Бегут ведь, Бабушкин?
– Конечно, бегут. Отчего не бежать, если можно. И я бежал, Бялых, но только однажды.
Надо оставаться на земле, не пари́ть в мечтательности.
– Из тюрьмы? – Он не стал дожидаться подтверждения. – Не из вагона, из настоящей тюрьмы: с охраной, с тюремщиками! – торжествовал Бялых, будто бежал не Бабушкин, а он сам.
И Бабушкина осенило: именно этой ночью, в поездном грохоте, в глухой, давящей стесненности тоннелей он расскажет им о побеге, о Лондоне, о Пскове, о возвращении в Петербург и, может быть, может быть, о Паше. Это зачем-то нужно и ему и людям, которые не бывали за Уралом, никто, кроме Савина, но и тот недолго, в пору оборвавшегося высылкой из столицы студенчества. Глаза едва различали шевеление фигур, он угадывал товарищей по близкому дыханию, – так, в движении, изнуренно волоча ноги, ему оказалось легче говорить, легче исповедоваться в любви к людям.
Как ему сразу не пришло на ум, что этой ночью им надо услышать о России, об огромности революции, о тысячах людей, которые, как и они, вышли на пожизненную работу, – этой ночью им надо узнать все, чтобы никакая беда не ввергла их в отчаяние. Он повел их за собой в камеру полицейского участка, познакомил с дерзким Горовицем, вывел под иссиня-черное, безлунное небо Приднепровья, вспомнил квартиру на Нагорной улице и свой студенческий маскарад, и краску, которой неумело испортил волосы и усы, описал каждый свой шаг через Европу, и споры с обитателями русской «коммуны», и все, что было потом, в Лондоне и на границе у транспортников, и в не признавшем его Пскове. С трудом преодолел искушение рассказать и о том, что знали в России только два человека – Бауман и Паша, а теперь, после гибели Баумана, одна Паша. Бауман в Лондоне, заглядывая в комнату, куда скрывался Бабушкин, видел, как он сиживал над листами бумаги, писал свои воспоминания, – Паше он рассказал о них на Охте, стесняясь, с насмешкой над собой, повинясь, что ни на одной странице нет ее, даже и в Екатеринославе, хотя какой же Екатеринослав без Паши! Хотелось, чтоб была и она, пробовал, писал, конфузливо комкал бумагу, и пересилил себя, – решил, что пишет он о пропаганде и революции, и можно ли тут, рядом, о личном, об его особом, отдельном ото всех счастье? А теперь во тьме этой нескончаемой ночи печалился и сожалел, что ее нет в воспоминаниях; есть и случайные, уходящие из памяти люди, есть такой подробный рассказ о неудавшейся кооперативной лавке, наподобие Брюссельского народного кооператива, а ее нет, нет, и Екатеринослав словно бы оборван, недосказан, и кто знает, напишет ли он, как обещал в последних строках продолжение воспоминаний относительно центра России? Запоздалой и нежной благодарностью наполнилось сердце к тому, кто усадил его за рукопись, поначалу против воли усадил, настойчиво, будто отыскивал для него дело, которое вернуло бы его в Россию, пусть памятью, строкой, названием городов и улиц, именами людей. Ему ли, не дожив еще до тридцати, садиться за воспоминания? И зачем они: не для «Искры» ведь, – для нее они велики, не пригодятся, а кому пригодятся?[8]8
«Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина» впервые были опубликованы в 1924 году [прим. автора].
[Закрыть] Но Ленин советовал, настаивал, подталкивал, однажды буквально подтолкнул, коснувшись его плеча и искусительно показав, как это хорошо, как блаженно-хорошо бывает поработать и за столом.
Долго сидел тогда он над стопой белой лондонской бумаги, не умея начать, не рискуя заговорить о себе, и все-таки начал, но связанно, с оттенком казенности. Навсегда запомнил первую неуклюжую фразу рукописи: «Настоящие воспоминания вызваны были тем, что один мой близкий друг, т. е. настолько близкий, что, по русской пословице, мы с ним жили душа в душу, даже больше – чуть ли не единую душу разделили надвое – так, по крайней мере, эта дружба представлялась мне лично, – в подробностях передавал мне все, что он помнил относительно своего превращения из самого заурядного «числительного» молодого человека без строгих взглядов и убеждений – в человека-социалиста, проникшегося глубоко социалистическими убеждениями, разрушающими все старые предрассудки». Расписавшись, начав, как говорится, с первобытности, он незаметно распростился с этим другом-двойником, речь стала свободной, – он все собирался исправить, переписать первую страницу, и откладывал, а потом привык и к ней, подумал, что нет нужды трогать и ее, в ней все верно, и даже этот заурядный числительный молодой человек не портит дела. Теперь в его глазах и в памяти рукопись портило другое: только то, что не нашлось у него слов и места для любимых, – бирючество портило, смешная и горькая, так трудно отпадавшая от него нравственная схима. Ведь спроси он тогда у Владимира Ильича, нужно ли, возможно ли писать и о личном, о близких, о любви, и тот посмеялся бы над ним, пожурил бы, посоветовал бы – писать, непременно писать, и в который-то раз напомнил бы ему свое любимое – о мертвой теории и вечнозеленом древе жизни…
Никто не торопил, не понукал вопросом, когда он примолкал, проверяя, все ли на ногах, – усталое шарканье подошв, задушенный стон Воинова, припадающий шаг Ермолаева. Они ждали, не хотели спугнуть столь нежданной для старшого исповеди. Ничто другое в эту ночь не могло так укрепить их в твердости; ничто другое не дало бы того ощущения верности выбора самого пути жизни; ничто не подняло бы в них так чувства достоинства, как эта исповедь питерского рабочего. И что-то таинственное и гордое было в предчувствии, что рассказ его – величайшая редкость, быть может, единственный такой случай в его жизни, и делает он это не только для них, а больше для себя, из потребности, значения которой они не осмысливали.
– Вот уже и светает: какой еще выдастся день, – сказал Ермолаев, когда Бабушкин умолк.
– Я Мысовой опасаюсь, – заметил Клюшников. – Лучше бы нам ее миновать.
– Как миновать?! Это как же – миновать?! – поразился Воинов. – Семафоры им, что ли, открыть до самой Читы? Лучше уж пусть ваши мысовские рванут эшелон! К чертовой матери, вместе с нами! А, Бялых? – Зачем-то ему нужен был согласный голос Бялых, он особенно уверовал в него.
– Если с бароном в обнимку – хоть в могилу!
– Даже если пытать будут, Иван Васильевич, никто из нас не назовет вашего имени, – сказал вдруг Савин. – Мы им не доставим этой радости.








