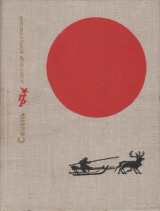
Текст книги "Сечень. Повесть об Иване Бабушкине"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
21
Мысовая приняла их без угроз, не подталкивала отстававшего Ермолаева прикладом в спину, не понукала даже Воинова, который обнял за шею Бабушкина и Бялых, повисал на них, волоча ноги по выпавшему ночью снегу. Двое казаков повели их от эшелона к вокзалу, словно вызывая на побег, который мог сулить успех хотя бы двум-трем из шестерых. Поезд барона на третьем пути, между ним и вокзалом два состава – товарный, под которым пришлось проползти, и короткий, пассажирский, без паровоза. Повсюду солдаты, казаки, команды во главе с офицерами осматривают вагоны, никто словно не замечает арестованных, будто их по недоразумению привезли со Слюдянки и, спохватившись, хотят сбыть с рук. Может статься, Заботкину и Энгельке теперь не до них, пусть ими займутся здешние жандармы.
Привели их в кабинет дежурного по станции и снаружи у двери оставили караульного. Савин погасил лампу, комната погрузилась в рассветную сумеречность, будто под воду ушла, – нагретую, жаркую, стесняющую дыхание после режущей морозной сухости. В беспамятство впал Воинов, уложенный на пальто и овчины у печи, которая топилась из коридора, задремал и Бялых, сраженный теплом. Телеграфистов и Бабушкина притягивали окна, – два окна на перрон и пристанционные пути, двойные рамы, по-домашнему проложенные ватой, двойные стекла, за которыми простор, жизнь. Савин держался стены, какого-то места в самом углу, прикладывал к стене ухо. За стеной телеграф, объяснил он Бабушкину, можно услышать громкую речь и стук телеграфного ключа.
Телеграф не подавал голоса, но вскоре послышался топот сапог, удары об пол прикладов, кто-то ворвался туда с криком: «Встать! Руки вверх! Обыскать всех!» Голос высокий, ранящий слух фальцет, сразу даже показалось, что кричит женщина, но это был мужчина, он выкрикнул свое имя: «Я – Марцинкевич!» «Я – Марцинкевич!» – повторил он, будто одно это имя должно было испугать людей. Дверь телеграфа оставили открытой, Марцинкевич жаждал публичности, едва ли не каждое его слово было слышно в кабинете дежурного. Он потребовал у схваченных на Мысовой телеграфистов тексты телеграмм и телеграфные ленты; начиная с Красноярска Марцинкевич завел опись антиправительственных телеграмм и на станциях старался установить – по дежурствам – имена передававших их телеграфистов, а особенно имена тех, кем была пресечена передача важнейших депеш Дурново, Сухотина и самого государя.
И на Мысовой нужное скоро оказалось у него в руках, он потребовал книгу дежурств, и послышались имена Клюшникова, Ермолаева, Савина, угрозы запороть нагайками телеграфистов, если они не выдадут, где прячется Савин с дружками, приказ немедленно учинить обыск у них на дому. Марцинкевич обосновался на телеграфе, приказал принести туда завтрак и с набитым ртом продолжал ругань и допросы. Вскоре мимо кабинета дежурного кто-то прошел – покряхтывая, припадая на ногу и волоча по полу палку.
– Поселенец!.. – встревоженно сказал Савин.
Мысовая знала цену этому неопрятному мстительному старику, убийце, отпущенному перед войной с каторги по тяжелому увечью и какой-то важной у начальства выслуге. Он прошел мимо кабинета к телеграфу, но вернулся, по-медвежьи сопел под дверью, торкался палкой о дверную филенку, трубно сморкался на пол и на стену.
В окрестностях вокзала стреляли. Чаще это были одиночные выстрелы, но возникали и перестрелки, и у арестованных просыпалась надежда: ждали боя, выступления рабочих дружин, возможности вырваться. День занимался ясный, бесснежный, крыши вагонов тронуло нежной розовостью и желтизной, серое небо заголубело к зениту, люди на перроне и путях двигались неспешно, переговаривались, смеялись, будто не было выстрелов.
Марцинкевич не отпускал телеграфистов. Их уводили по одному в багажный сарай, пороть нагайками, и приводили обратно. Возвратный шаг их был шаркающий, униженный, будто уходили на порку молодые, а возвращались старики. И снова за них принимался Марцинкевич: где Савин? Где Ермолаев и Клюшников? Кто стоит во главе комитета на Мысовой? Кто верховодит в Верхнеудинске? В Петровском заводе?
Хромой поселенец вмешивался в допрос, он и с Марцинкевичем был непочтителен и раздражал почтового чиновника. И когда, прискучив монотонными уводами на порку, поселенец сказал, что пороть надо шомполами и тут же, на телеграфе, мол, не князья и не столбовые дворяне, пусть полюбуются, как шомпола «по чужим ж… польку пляшут», Марцинкевич обозвал его скотиной и приказал выйти вон, в коридоре дожидаться, когда позовут.
Поселенец снова оказался под их дверью; гневливо постукивал палкой о пол, ругал вполголоса «полячишку», как он окрестил Марцинкевича, и старался втянуть в разговор караульного казака.
Ночь в арестантском вагоне, казнь морозом не были так страшны, как этот час торжества Марцинкевича. Заботкин надеялся, что стужа приберет их за ночь; он приходил в арестантский, прислушивался, ждал тишины, безмолвия морга, но услышал ровный, вдруг оборвавшийся голос человека, назвавшегося торговым подрядчиком. Ночью в вагоне они были сильны, даже Воинова отстояли для жизни. А в кабинете дежурного по станции, в блаженном тепле их казнь оказалась пострашнее: слышать, как уводят на порку людей, быть бессильными свидетелями чужого унижения! Бабушкин страдал, будто шомпола и нагайки полосовали его спину, страдал вчуже, не зная тех, над кем надругался Марцинкевич; для Савина и его товарищей это были друзья, сослуживцы, соседи. Ни страх казни, ни горькое сознание, что в их домах идут обыски, не сделали с их лицами того, что этот час сострадания и ярости.
И вдруг что-то вокруг изменилось, возникло движение, убыстрение жизни, какая-то ее перемена. Заторопились люди на перроне, паровоз увел товарный состав, на его место прибыл от Слюдянки второй эшелон карателей, но солдат держали в вагонах. В вокзал приходили офицеры, торопили Марцинкевича, кто-то, ошибясь окном, постучался снаружи не на телеграф, а к дежурному. Бабушкин увидел землистое лицо Энгельке. Они узнали друг друга, но взгляды скользнули мимо, словно отменяя и эту встречу через стекло, и даже ночь в арестантском вагоне.
Энгельке разыскал Марцинкевича, и они уединились на телеграфе. Почтовый чиновник похвастался, что выпорол телеграфистов Мысовой поголовно, и подосадовал, что порол не на платформе, на глазах у всех, как на станции Байкал и на Селенге, а в багажном сарае. Если наказывать на платформе, то должен присутствовать и он, это важно, это ритуал, а он торопился с допросом, барон обещал не задержаться на Мысовой. Энгельке промолчал на это, он уже не решался спорить, относил к понятиям правосудным только тюрьму и казнь, а порку, хотя бы и до смерти, вывел из собственных забот. Он сообщил, что на станции и в поселке арестовано около 150 человек и барон приказал всех передать жандармскому полковнику Сыропятову, потребовал немедля два паровоза, приказ об отъезде может быть отдан в любую минуту, команды, разосланные по Мысовой, возвращены в вагоны. «Барон решил не слушать Ренненкампфа, ехать ночью, – сказал Энгельке. – Вперед он пустит паровоз с двумя вагонами, командиром назначил подпоручика Седлецкого. Потом – мы, а за нами – отряд Алексеева…»
Энгельке и Марцинкевич вышли в коридор, где все еще стоял караульный казак и покряхтывал старик-поселенец, показывая свою обиду, что изгнан, отвергнут и хлопоты его не вознаграждены.
– Ты почему не идешь в эшелон? – спросил Энгельке у казака.
– Арестованных караулю, ваше превосходительство, – отозвался казак.
– А-а-а! – протянул Энгельке, вспоминая. – Эти со Слюдянки?
– Из арестантского вагона.
– Ну, этих и подавно жандармам сдать. Пойдемте! – Энгельке говорил так, будто не один барон, но и он распоряжался судьбами людей. – Меллер хочет сбыть с рук арестованных.
Марцинкевич не двинулся с места.
– В дороге невозможно следствие, нас обманывают, – скучно говорил Энгельке, – а на проверку ни средств, ни времени.
– Но позвольте, кто они? – упорствовал Марцинкевич.
– Неужто не пресытились поркой? – спросил Энгельке с игривой укоризной. – Ведь хвастались: всех перепорол. Надобно и другим пороть – охотников много.
– Нет, мне бы хоть взглянуть!
– Ничего интересного: все случайно, ничтожно. – Энгельке увлекал чиновника за собой, Марцинкевич упирался. – Солдат из команды, сопровождавшей оружие. Не знаю, жив ли. Слюдянский слесарь. Подрядчик или приказчик, этакий мещанин с претензиями. И три телеграфиста из этих мест.
Марцинкевич рванул дверь и свободной рукой, широким, хватающим жестом, позвал за собой старика-поселенца. Не ворвался в кабинет, а вошел крадучись, глядя под ноги, боясь спугнуть удачу. Сдерживал себя, отдалял миг, когда вопьется взглядом в чужие лица, в дрогнувшие зрачки. Марцинкевич – маленький, стройный, узкогрудый, шуба нараспашку, бобровая шапка под мышкой, на тонкой шее тяжелая к затылку голова со странным, запрокинутым лбом, с наполеоновской прической, и на курносом, незначительном лице пронзительные, сумасшедшие глаза, будто насильственно, до выступивших слез, вставленные в тесные глазницы.
Старик-поселенец прошелся по комнате, нарочно задев палкой Бялых, толкнув Воинова на деревянном диване, а Савина и Клюшникова ткнул по-приятельски в бок растопыренной пятерней. Закудахтал облегченно и радостно, дивясь нерасторопности телеграфистов.
– С возвращением вас, господин Савин. – С внезапной легкостью поднял суковатую палку и упер ее в грудь Савина. – Быстро обернулись, любезный.
Савин выбил из его рук палку, она ударила Бялых, и он вскочил на колени, озираясь, не понимая, что происходит.
– Изволите гневаться, касатик, – радовался старик гневу Савина, протягивая руку к Бялых, чтобы подал палку. – Не довезли ружьишки до Иркутска? Давеча от Мысовой отъезжал, как великий князь, своим поездом, а нынче – каторжник, а то и похуже… Он провел ребром ладони по заросшей волосами шее.
– Савин! Савин! – тихо повторял Марцинкевич, опробовал сладостное имя на вкус, ждал, когда утихнет дрожь торжества.
– Уберите же этого хама, господин полковник! – Бабушкин нарочно обратился к Энгельке, хотя и уразумел, что дело они будут иметь с почтовым чиновником. – Неужто в отношениях между людьми приличными, даже в крайности, нужен еще и холуй!
– А ты кто таков?! – Марцинкевич рванулся к Бабушкину, нарушив методу, – паучье, медлительное выжидание момента действовать наверняка. Сероглазый презрительный человек не опасался его, не хотел замечать. Он словно отгораживал от Марцинкевича телеграфистов – сословие, отданное, начиная с Омска, лично ему на суд и расправу.
– Я пожалуюсь барону! – Бабушкин держался своего, смотрел в мертвое, серое лицо Энгельке поверх темных, нафиксатуаренных волос Марцинкевича. – Продержать солдата, защитника России на морозе всю ночь – это ли не грех, господин полковник!
Марцинкевича надо выбить из наезженной колеи, держаться дерзко, без страха, намекнуть на его ничтожество, и тогда можно ждать неистовства и ошибки. И правда: Марцинкевич вцепился руками в отвороты его пиджака так, что не сразу удалось и стряхнуть его, кривил налитое кровью лицо, орал, что барон не станет слушать злоумышленника против престола, что хотя барон и рядом, но для таких проходимцев он дальше, чем Луна от Земли и Мысовая от Петербурга.
– А ведь господин болен, – сочувственно сказал Бабушкин Энгельке, поправляя помятые лацканы. – Я в холеру при докторе состоял, добровольно, единственно по долгу и велению совести. И скажу вам: болен, господин весьма болен.
Ничего подобного не испытывал Марцинкевич с первых лет службы, когда его малый рост, пучеглазость и рвение вызывали насмешки коллег. В эшелоне карателей он сразу нашел себя, пресек шутки, поднялся над другими бессонной жестокостью. Скоро все согласились с монополией Марцинкевича на телеграф, с его малой властью; что ни говори, а телеграфисты на Сибирской дороге исчислялись сотнями, а каратели имели дело с тысячами. И вот на Мысовой, при вступлении их в Забайкалье, над ним смеются! Приданные ему казаки увели к жандармам выпоротых людей, а эти глаз не прячут, они еще и брезгливо-холодны к нему, а военно-судный олух в полковничьем мундире помаргивает белесыми немецкими ресницами.
– Пороть!.. – Он кричал словно в пустоту, кричал казаку у двери, царапнул пальцами по замасленному рукаву тулупа поселенца, требуя и от старика действовать, не стоять на месте. – Нагаек им! Шомполов!
– А это извольте одуматься! – сказал Бабушкин, не выходя из роли. – Это и вчуже стыдно слушать. Извольте извиниться, господин Марцинкевич!
– Ты!.. Ты!.. – захлебывался злобой чиновник. – Откуда знаешь мое имя?
– Как же‑с, вы его давеча так выкликали за стеной, будто со страху. Этак в особняках на Неве дворецкие знатных господ объявляют. Князей! – важно сказал он.
Он снисходил к темноте Марцинкевича, рассказывал о вельможах, которые не ему чета, принял на себя все неистовство Марцинкевича, заставляя его забыть о телеграфистах, даже о Савине – главной находке этого дня.
Энгельке сделалось жаль Марцинкевича, он взял его под руку и сказал дружески и с конфиденцией:
– Так сдадим и этих жандармам! Меллер решил не таскать с собой в Забайкалье этот товар. – И добавил тихо: – У барона, кажется, сдают нервы.
– Нет! Позвольте! – Чиновник дернулся, точно отпрыгнул от Энгельке с той же яростью, какую испытывал к арестантам: – Жандармам переданы те, кто схвачен здесь, а эти доставлены из Слюдянки. Зачем-то же их, черт возьми, везли ночь! Я принесу жалобу барону, Павел Карлович: вы берете ночью те-ле-гра-фи-стов при самых подозрительных обстоятельствах, и как я об этом узнаю? Случайно‑с! Солдат, говорите! – Он уставился на Воинова, который очнулся, присел на диване, был страшен соединением неживой белизны лица с черной взлохмаченной бородой и ненавидящими, потерявшими осторожность глазами. – Без погон! А что, как он нарочно в солдатском, для возбуждения умов, чтобы жители полагали, что и солдаты с бунтовщиками?! Извольте их обратно в арестантский!
Энгельке колебался: монополия Марцинкевича на телеграфистов задевала его и раньше, об арестах и порке служащих телеграфа он узнавал случайно, за обедом: барон взял за привычку справляться у почтового чиновника, каково нынче в его охотничьих угодьях, и, подразнивая офицерский синклит, ставить его в пример другим. Теперь он мог бы взять верх над Марцинкевичем: Заботкина одолели приготовления к отъезду, барон раздражен, он уже распорядился судьбой арестованных, команды потребованы в вагоны. Не будь в кабинете и самих арестованных, он нашелся бы, что сказать свистуну, а при них трудно.
– Помилуйте! – спохватился Марцинкевич. – Они ведь даже не пороты! Савин! На нем вся вина; где непокорство, дерзость, самовольство здешнего телеграфа, там и Савин. В вагон их, в вагон! У нас будет время сбыть их с рук.
– Напрасно, господин Марцинкевич! – подал вдруг голос Ермолаев. До этой поры он не поднимал глаз, клонил книзу скифское лицо, поглаживал опухавшую в тепле ногу. – Великий грех на душу берете: дети у меня, четверо…
– Заткнем глотку! – откликнулся Марцинкевич. – И тебе, и щенкам: по такому отцу им одна судьба – сиротская.
– Ах, сударь! – в притворной горести сказал Бабушкин. – Хромой ваш прислужник под дверью у нас полячишкой вас обзывал, а вы, погляжу, злее татарина…
Марцинкевич бросился к двери и столкнулся со старухой, – кряжистой, громоздкой в овчинном тулупе, и с другим тулупом, перекинутым через руку. Она ухватила Марцинкевича цепкой рукой, не отпускала, требовала места в поезде на Верхнеудинск для себя и для мужа, вернее, для гроба с его телом. Пока дышал муж, что-то человеческое просвечивало и в расплющенных, недоверчивых глазах Белозеровой, какая-то тоска, неправая, на злобе взошедшая, но – тоска. Теперь в них мрак, готовность принять все тяжкое, вдовье, что ждет ее в волости.
– Помер, значит, – не удержался Воинов. – Убёг!
– Помер! – горестно подтвердила старуха, не обернувшись. – Посулил господь – жив будет. Фельдшерица над ним ночь билась. По темной поре не помер, а с солнышком и вовсе не надо, кого бог поутру живым узрел, тому и милость. А тут поезд антихристов, казаки всех похватали: до́ктора, фельдшерицу. Я в ноги кинулась: кричу: «Ро́дные, погодить надо! Дайте им прежде душу христианскую из могилы поднять!» А меня с крыльца да в снег, ногами, ногами куды ни попало…
– Горе! – усмехнулся Воинов. – А мужний тулуп прихватила!
Вот когда старуха услышала Воинова отдельно: проклятый табачник развалился в шинели на деревянном диване, старухе и в голову не шло, что они под арестом.
– А-а-а! Забастовка проклятая! – кинулась с кулаками на Воинова, уронив тулуп, и вцепилась бы в бороду, если бы Бабушкин не удержал ее. – Голытьба чернопузая… Вот вы как в силу вошли, Сибири обман учинили: барон, кричат, едет! А выходит – ряженые, в чужое одетые! Одно семя антихристово!..
Марцинкевич оживился, унюхал выгоду, еще не знал, какую и в чем, но красноватые, насморочные ноздри вздрогнули. Он подскочил к старухе, взглянул на нее расширенными глазами, взглядом, который считал гипнотическим.
– Эти – арестованные! – Жестом он разделил кабинет на две половины. – Мы – власть. Барон на Мысовой. Отвечайте спокойно: знаете этих людей?
– Как не знать. Пришлый народец… – Повела казнящим взглядом по лицам, дрогнули зрачки, встретясь с глазами человека, который позволил им доехать до Мысовой, дрогнули и соскользнули вниз, к Бялых. – Погубители наши.
– Как же погубители твои, если пришлые? – спросил Энгельке. – Ты кто такая?
– Вдова.
– Это мы уразумели. Чья вдова?
– Спиридона Белозерова.
– Я ее с мужем в теплушку посадил, до больницы довез, – объяснил Воинов. – Их супруг где-то здесь волостным старшиной был. – Он поворачивал дело к своей выгоде и нарочно обратился в Энгельке: – Давеча в вагоне, ваше превосходительство, ночью, о том и шел разговор: мучаются люди при вокзалах, я и подсаживал, кто под руку шел.
– Верно говорит солдат? – спросил Энгельке у старухи.
– Дьявол, а верно сказал. Довезли.
– Отчего ж они погубители? – Марцинкевич сердился, снова все расползалось под рукой.
– Жизни всей погубители, вот что, – втолковывала она.
– Я тебя с рельсы поднял, а ты вот как! – обиделся Воинов.
– Спасал, да не ты! – Старуха показала на Бабушкина. – Во-на‑а, кто у них артельный. Его слово первое и последнее: он и умом пораскидистее других. Он и ящикам хозяин, не солдат же.
– А в ящиках что? – спросил Марцинкевич.
– Ровно гробы черные. – Старуха пожала плечами.
– Не запомнила ли ты их имен? – спросил Марцинкевич.
– Один он сказался. – Старуха снова показала на Воинова. – Передай, мол, господу, что Воинов к черту на посиделки пошел…
– Однако же артельным она вас назвала, – обратился Марцинкевич к Бабушкину. – Вас признала хозяином.
– Темнота! – сказал Бабушкин и ободрился удачно найденным словом. – Тем-но-та‑с! Уж такая беда нашего простолюдина: как заслышит речь книжную, так и шапку долой, а не удержишь – в ноги бухнется… Плебейство‑с!
– Ну-с, Савин, а вы не просветите нас? Кто этот господин? Нам с вами в прятки играть нечего.
– Ничего я вам говорить не стану, Марцинкевич, – ответил Савин с совершеннейшим спокойствием. – Ни о себе, ни о чужих, а тем более неизвестных мне личностях. Убеждений своих не скрываю, верую в свободу, да, – сказал он значительно, – верую, она дарована нам свыше. Ни допросами, ни пытками меня не испугаете.
– Какие пытки, Са-а-авин! – рассмеялся Марцинкевич. – У нас и на казнь-то времени в обрез. – Сквозь смех пробивалось наружу и бешенство бессилия, до учащенного сердца, до дрогнувшей сухой коленки. – Больно вы гордые все. Ни покаяния, ни почтительности, откуда гонору понабрались?
Марцинкевич не сводил глаз с Бабушкина: инстинкт говорил ему, что дело нечисто, на слово верить нельзя, кем бы ни был этот человек, значение его тут важнейшее; пробудившись, оба арестанта – солдат и дюжий косоротый парень, сидящий на полу, – первым делом взглянули на него.
– Суетный вы господин, извините‑с на слове. – Бабулекин смотрел на чиновника бестрепетно и с сожалением, будто ждал чего-то разумного и не дождался и скучно ему стало видеть чужие потуги дергающегося человечка. – Неужто не ведаете, что россиянину нынче есть отчего голову гордо держать? Ежели в праздник, – произнес он отчетливо, – на брюхе ползать, когда же возвыситься духом, милостивый государь!
– Какой у нас нынче праздник! – Марцинкевича трясло; сероглазый хитер и говорит такое, о чем и газеты пишут, им, бумагомарателям, что ни день – праздник, турнуть бы их из кресел, из рестораций в Сибирь, пусть помашут шомполами до кровавых мозолей, так, чтобы пальцы и слова праздник вывести не смогли.
– Бог с тобой! – Бабушкин снова искал понимания у Энгельке. – Ежели он человеку глаз не дал, душу не отворил, тут уж, извините‑с, я – пас. Тут пастыря надо. Не простого батюшку деревенского, а пастыря мудрого.
Бабушкин и Воинов, вопреки подозрениям Марцинкевича, утверждались в своих ролях, а Бялых и мысовские телеграфисты существовали отдельно, и теперь их общее спасение состояло в том, чтобы затеряться в толпе арестованных. Но в кабинет заглянул подпоручик Писаренко – в поисках Энгельке, которого потребовал барон, – и увидел свою дичь, смутьянов, которых он с риском для жизни брал на Слюдянке.
Полковник поспешно ушел, барон требовал подчиненных безотлагательно, даже и на ходу поезда все должны были быть под рукой, хоть стой в тамбуре. И едва за Энгельке хлопнула вокзальная дверь, Марцинкевич приказал Писаренко увести арестованных в вагон. Притихшая старуха заохала, сторонилась уходящих, не понимая, зачем уводят артельного.
– Старика не троньте! – сказал Марцинкевич подпоручику, который охлестнул нагайкой жмущегося к стене поселенца. – Вы мне нагаечку оставьте, я верну.
Чиновник шел к старику не прямо, а будто его заносило злобой, ртутными ударами крови в сердце, заносило к двери, чтобы предупредить бегство и не дать старику поднять с пола суковатой палицы. Ременное плетиво ручки, нагретое ладонью Писаренко, лежало хорошо, родственно, будто обнялись согласно кожа с кожей. Хлестал с оттяжкой, норовя только по лицу, красил полосами стариковские руки в коричневатых веснушках, а стоило тому отнять защитные руки, целился в глаза.
– Каторга сахалинская!.. – Шапку уронил под ноги, выкрикивал слова хрипло, словно отхаркиваясь: – Раб! Раб! Значит, я – полячишко! Язык твой поганый вырву!
Все, что не довелось обрушить на арестованных, упало на поселенца. Перед Марцинкевичем маячило не одно лицо; изловчась, он словно бы хлестал вслепую и по башке чернобородого солдата, по несговорчивым глазам мещанина-подрядчика, по щербатому рту стоявшего на коленях детины, по заносчивой физиономии Савина, даже и по оттянутым книзу мертвым щекам Энгельке бил он, не каясь, полагая, что и это – хорошо и поделом. Опомнился, когда увидел перед собой побеленную стену: хромой старик упал на четвереньки, напоминая миру о себе, о новом своем страдании, ронял темные капли, то ли кровь, то ли слезу, на крови замешанную.
Марцинкевич ушел, сложив нагайку вдвое и держа ее странно, как атрибут власти. Старуха, переждав, не слыша больше шагов в вокзале, присела подле старика на корточки: жив ли он, а если жив и в памяти, не скажет ли он, кто эти люди – и те, кто при мундирах, и те, кого увели, – чего хотят те и эти…
Старик медленно поднимал голову: глаза целы, мясистые, складчатые веки тоже сберег, кровь капала из рассеченного надбровья. И глаза его оживились вдруг жадностью, исхлестанная рука рванулась к тулупу умершего Белозерова, новому, чистому тулупу, брошенному на пол.
Старуха поняла, что не отстоит тулупа, должна бы отстоять, не отдать, но сил не хватит: все время, пока его охаживала нагайка, старик ждал, привычно затаился, терпел и копил злобу. Излиться она могла на что угодно, да вот подвернулась старуха, а при ней тулуп – сама виновата. И то сказать: его убивали, а он только грабит, берет малое, рукой тянется, – отдай сама, и грабежа не будет. И понимая, что отдаст, не отвоюет своего, вдова Белозерова царапала костяными твердыми ногтями по тулупу, словно ласкала его, и жалобно приговаривала:
– Куда ты его, старый! Покойник мне по плечо был, а ты – зверюга… Смилуйся!..








