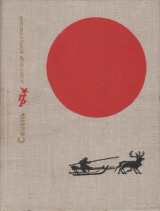
Текст книги "Сечень. Повесть об Иване Бабушкине"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Но одна газета поставила Коршунова в тупик: малого формата, удобная для руки, набранная той же кириллицей, она будто слетела с чужой планеты. Вот уж где и не пахло суточными щами «Даурского подворья», лежалыми енотовыми шинелями и траченными молью башлыками! Вот где не ползали на четвереньках для устойчивости и не перемежали театрального львиного рыка пением Лазаря.
Кто эти люди и кто их кумиры? «И всякий раз, когда думаешь о рабочем движении в России, – прочел Коршунов в передовице газеты, – хочется сказать: о, если бы были живы бессмертные вожди пролетариата – Маркс и Энгельс, чтобы собственными глазами видеть, как сбываются их предсказания». Наслышанный небылиц о русской социал-демократии, Коршунов впервые вчитывался в простые, однако же и весомые, прогибавшие газетный лист и его ладонь строки. Люди, затеявшие издание легальной газеты социал-демократов, не крылись с намерением сделать свое разрушительное учение «достоянием самых широких кругов народа, перевести его с мудреного «интеллигентского» языка, на котором привык говорить русский человек, применяясь в царской цензуре, на простой, понятный массам язык». До этой поры Коршунов полагал, что смута возможна только в формах стихийных, в дьявольском подвиге разрушения. Значит, чего-то власти не задушили в зародыше, не прикончили в темной подворотне, свистнув дворников, околоточных и преданных граждан, дали подняться и набрать силу чему-то новому, и теперь для Холщевникова все позади, все поздно.
И Коршунов решил действовать, не дожидаться темноты, вступить в дом губернатора в толпе скорбящих граждан.
Странная газета с престранным именем «Забайкальский рабочий» не шла из головы, пока он шагал к дому Холщевникова. Как все разъято, разорвано в могучей и несчастливой стране, думал Коршунов с горечью прозрения. Люди не слышат друг друга. Где-то в больном нутре, среди машинной копоти и гари, в фабричных корпусах, на задворках жизни, как плесень, как сатанинские духи, нарождаются какие-то группы, почти неведомые публике, и вот уже они зашевелились, ожили, потянулись грязной рукой сбросить корону с помазанника божьего, требуют не учредительного собрания, а полного народовластия. Как же он, думающий россиянин, человек нового века, пропустил их, услышал их черное слово вдруг, загнанный предосторожностью в «Даурское подворье»? Странно и страшно, что этакое он прочел случайно, в пути, а мог и не прочесть!.. Странно и другое: газета пригасила в Коршунове тревогу за себя, будто лично ему перестал угрожать случайный арест или расправа без суда, будто он попал в край чудный и жестокий, однако же не без своего порядка и законности.
С тем большей силой охватила его тревога за будущее России. До этого дня он полагал, что обе силы стихийные: потерявшаяся власть, надломленный, но с глубокими корнями порядок и темная, взбаламученная подстрекателями Русь. У этой Руси нет надежды организоваться, обрести разум и единое направление, а власти необходимо только немногое, чтобы снова сделаться твердой и грозной. Оттого-то и схватка, по разумению Коршунова, была предрешена: прольется кровь, и земля возродится ею к жизни, к новому могуществу России. Теперь же и силы крамолы впервые предстали ему угрожающе обдуманными и коварными.
Впереди по Сретенской за сиротским строем тополей, галочьей темной стайкой жались люди к бревенчатому дому. Приблизясь, он услышал смех и бодрые выкрики, хотя на людях лежала печать нужды, платье на них было худое, они прятались у стены от ветра: дом стоял на углу Сретенской и Енисейской, вдоль Енисейской дуло свирепо, обрушивая заряды сухого, розоватого на закате снега. Коршунов прочел на прибитой к углу бляхе, что дом принадлежит второй гильдии купцу Шериху, а затем и крупное типографское объявление: «Бюро Читинского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Бюро открыто для приема граждан ежедневно с 8‑ми часов утра до 8‑ми вечера». Кто эти люди? Бородатый старик, бурят с маслянисто-смуглым лицом, рослый казак с котомкой за спиной, высокая женщина в черной шали – что привело их сюда? Зачем здесь простые обыватели, ничтожный чиновный люд и люд торгующий, зачем они слетелись на этот обманный, жестокий огонь? Коршунов терялся, будто судьба забросила его в диковинную страну, в выморочную губернию, какой нет и быть не может на святой земле.
У каменных ступеней губернаторского дома Коршунов не успел посторониться: вниз сбегал рассерженный чем-то жандармский подполковник из Иркутска. Не так давно Драгомиров представил их друг другу, но Коршунов но удержал в памяти имени, запомнилась маленькая, ладная голова на высоченном теле, прищур горделивца и южнорусский след в речи. Жандармский подполковник поспешил к экипажу с поднятым верхом, и экипаж запылил по мерзлой декабрьской улице Читы: и тут была чертовщина, сдвинутый, преданный порядок, противность естеству.
Тулуп и шапку Коршунов бросил в передней на попечение горестного старика в серой тройке. В комнатах людно, сдержанный гомон, шелест черных шелковых и муаровых платьев, шарканье ног. Из гостиной в глубину дома распахнуты три двери, зеркала укрыты черным крепом, в траурном обрамлении – портрет красавицы, какие нечасто встречаются, с искрой ума, с веселой готовностью жить и любить и с затаенной во взгляде печалью. Среди офицеров – генералов, полковых и батарейных командиров, армейских и казачьих полковников, поручиков, штабс-капитанов – Коршунов не нашел высокой фигуры Холщевникова. Не было его и со статскими, а они преобладали: взгляд Коршунова резанули инородцы, буряты в европейском платье и ненавистное подполковнику иудейское племя: дородная, в дорогих каменьях, матрона с красивой дочерью, порывистый субъект с адвокатскими ухватками, несколько торгующих господ. Прощающее чувство, навеянное портретом умершей, быстро покинуло Коршунова на запакощенном, зашарканном паркете; он пробирался из комнаты в комнату в поисках хозяина дома.
С Холщевниковым он столкнулся внезапно: генерал провожал из кабинета низкорослого, округлого, розового лицом протоиерея, тут-то и возник Коршунов.
– Здравствуйте, ваше превосходительство. Мне надо с вами уединиться.
– Кто вы? – Он озабоченно свел негустые русые брови.
– Вы видели меня ночью в мундире гвардейского подполковника. Помните эшелон георгиевских кавалеров?
– Голубчик! – оживился генерал. – Погодите… Орлов?
– Подполковник Коршунов. – Напомнил строго и, по привычке, пристукнул каблуками грубых сапог, пристукнул глупо и неуместно при его одежде.
– Что с вами стряслось? Отчего снова у нас, а не в России? – участливо заговорил Холщевников, пропуская в кабинет Коршунова. – От нас едут, к нам не возвращаются. – Слова эти подвели его к горестным обстоятельствам собственной жизни, и он сказал опустошенно: – меня несчастье… Умер ангел, лучшее, что было на целом свете, огромность расстояния и тяжкое нынешнее время не позволили мне быть с ней.
– Как некстати, ваше превосходительство!
– Смерть близких не бывает кстати, – ответил он без упрека. – С ней была в Швейцарии моя кузина… всё было делано хорошо.
– Я скорблю вместе с вами. – Коршунов склонил голову. – Это мой приход некстати, ваше превосходительство. – Они стояли на ворсистом китайском ковре посреди кабинета. Я наслышан, что у вас много родни и вы не чуждаетесь ее.
– Садитесь, – сказал генерал, заподозрив, что этот человек явился с делом и, быть может, не очень приятным. – Почему на вас статская одежда, подполковник? Вы изгнаны из армии? Или это модный маскарад?
– Маскарад. Противный моему духу, но неизбежный. – Он шагнул к столу со сложенной вчетверо небольшой бумагой в руке. – На мне чужое белье, чужое платье, чужой, быть может, подлый, пот. Сегодня не выбирают, Иван Васильевич, сегодня все непостижимо.
Прочтя бумагу, Холщевников помедлил, сунул листок в бювар, пальцами затолкал его поглубже и вышел из-за стола.
– Я вас слушаю.
– Моя миссия принуждает говорить напрямик. От Байкала и до Читы хозяева дороги – и не только дороги! – не вы, генерал, а рабочая партия. О Чите не говорю, ее унижение безмерно…
– Это так, – перебил его генерал. – Хочу вам заметить, что освободительное движение захватило здесь все классы населения. Даже военный гарнизон не вполне подчинен мне. Я полагал, что генералу Сухотину известно наше положение.
– Сегодня на вокзале был задержан корпусной командир генерал Бебель. Эшелон ушел без него.
– Мне говорили, что закон не был нарушен: с генералом обошлись вежливо.
– О каком законе вы говорите?
– Генерал был недопустимо груб со служащими станции Харанор. Самоуправление граждан вправе спросить за это.
Подполковник уставился на губернатора с отвергающей презрительной дерзостью. Заезжий мещанин третировал генерала, наказного атамана Забайкальского казачьего войска.
– Если сюда войдут – я торговец, подрядчик… – сказал Коршунов. – Приехал предлагать муку, пять вагонов муки из Омска. – Холщевников кивком принял условие. – Нет ли и среди скорбящих визитеров комитетчиков из рабочей партии?
– Сегодня двери открыты для всех. Однако этих людей нет: они относятся ко мне хуже, чем я к ним.
Под мягкостью, под сглаживающей волной печали Холщевников показал характер и твердость духа.
– В гостиной я заметил даже чесночных торгашей, – не остался в долгу Коршунов. – Неужто и они званы на панихиду?
Сказано не в запальчивости, не опрометчиво, а с холодным, испытывающим взглядом.
– В этом доме, господин подполковник, никогда не делали различия между людьми разной крови и вероисповедания.
Светский разговор исчерпался; Холщевников не оставил надежды на нравственный сговор. Коршунов и прежде в гарнизонах встречал редких, как альбиносы, офицеров, которых передергивало, едва лишь разговор съезжал на глумление над кровью. Они ретировались, оставляли компанию под угрюмое молчание или смех офицеров. А этот держался с вызовом.
– Генерал Сухотин утверждает, что к вам на помощь посылали войска, достаточные, чтобы подавить мятеж.
– Мы только провожали войска. У меня никогда не было достаточно сил, чтобы овладеть положением.
В кабинет заглянула дочь Холщевникова, маленькая женщина в черном бархатном платье, со взглядом деятельным и возбужденным церемонией, защищенная от мертвой матери тысячами верст пространства. Генерал отослал ее неожиданно властным движением руки. Так он поступал еще несколько раз, когда кто-нибудь отворял дверь.
– Вы могли подавить бунт одним только Читинским полком. Тысяча триста штыков. Разве не достаточно!
– Для чего – достаточно? Чтобы стрелять? К выстрелам не было дано никакого повода. И Читинский полк не был единодушен – большинство не согласилось бы на братоубийство.
– Вы не отняли у рабочих захваченное ими оружие.
Непривычно было Холщевникову давать отчет в своих поступках чужому человеку в мешковатом платье, однако же он знал, кто этот человек, помнил и Сухотина, его неотступную мстительность.
– У рабочих нет склада оружия, оно в частных домах. Вокруг депо и в слободке Дальнего вокзала проживает больше десяти тысяч человек. У нас нет сил, чтобы произвести повальные обыски.
– А если припугнуть, что разнесете слободку артиллерией!
– У нас нет артиллерии, и в комитете знают, что ее нет.
– Вы отдали типографию, почту и телеграф, по их требованию посылали солдат для охраны города от погромов.
– Почта и телеграф отданы городской думе.
– А она игрушка в руках социалистов! Прежней думы нет.
– Петербург допустил ошибку, освободив сахалинскую каторгу. Я давал солдат, чтобы пресечь ее набеги и резню.
Коршунов дивился самообладанию Холщевникова: ряженый от Сухотина знал все, значит, истина ведома и Петербургу.
– Полчаса назад я имел случай давать отчет в своих поступках, – сказал Холщевников, словно отвечая мыслям заезжего офицера. – Здесь был подполковник Кременецкий. Слыхали о таком?
– Нет, – слукавил Коршунов.
– Печется о крае, а в Сибирь явился за генеральскими эполетами. На физиономии так и написано: провались все, с голоду подохни, а мне подай производство до срока. Я этаких жестокосердых кучеров в казачьем войске не жалую.
Его гнев имел точный адрес: Кременецкий. Коршунов не заподозрил камня в свое окошко, однако сказал:
– Я – сибиряк. Родился на Урале, на высоком пороге Сибири. Вот и облито сердце кровью.
– А сибиряк, так должны знать: у нас издревле ни помещика, ни крепостного. Казак к вольнице привык, для Сибири государев манифест – чудо!
– Но согласитесь, Иван Васильевич, – искал и Коршунов в интересах дела другого тона. – Потому-то и важен каждый шаг. Вы же не только появлялись в заседаниях комитета, но объявили войскам, что впредь до созыва учредительного собрания решения Читинского комитета должны быть для них законом. Ведь в это поверить трудно.
– Непривычно, диковинно, но не трудно. И сейчас они хлопочут, ищут хлеб для голодного края, не ваши пять вагонов муки от Сухотина! И я буду совместно с ними возить, буду! Не мною сказано: граждане России – должны же монаршие слова иметь вес и цену.
– Не пять вагонов, ваше превосходительство: несколько эшелонов. – Черное лицо Коршунова сделалось непроницаемым. – Они пойдут из России и из Харбина, только без продовольствия. И вы страшитесь не голода, а казни почище сивашской резни Тамерлана!
– Я не могу обвинить их ни в одном насильственном акте.
– Нет нужды в насилии, вы отдаете им любую позицию! Мужики отнимают у государя кабинетские земли – вы молчите, берут телеграф, самый закон, суд…
– Мы призраки власти… – В голосе Холщевникова послышалась подавленность. – Разве Кутайсов хозяин? Разве граф Витте контролирует Россию? Я верный слуга престола и верую в манифест, в доброту государя, в гражданские свободы.
– А они, – Коршунов зачем-то показал на дверь, будто там шептались комитетчики, – в манифест не верят! И двор не верит! Вы между жерновами, генерал. Бунтовщиков нужно подавлять с беспощадной строгостью…
Он осекся, обнаружив, что заговорил словами государевой депеши.
– Это будут делать другие люди.
– Вы, ваше превосходительство, как в воду смотрите. – Он усомнился вдруг, надо ли говорить Холщевникову то, о чем приказано было передать на словах. Сухотин далеко, он не знает образа мыслей генерала, его дурацкой веры в слова государя, случайно оброненные два месяца назад. Можно ли объявить важную тайну в зачумленном доме, где ужились служба и неповиновение, церковное отпевание и печатная крамола?
Дверь в кабинет снова открылась, вошли протоиерей и господин с бородкой клинышком, с легкими волнистыми усами и такими же волнистыми тонкими волосами на крупной голове.
– Господин Коршунов… из Омска, – представил Холщевников гостя. – Предполагает поставить пять вагонов муки.
– Ржаной! – резко ввернул Коршунов.
– Пора! Пора! – проговорил протоиерей живо.
– Если сделка решена, я напечатаю об этом в газете. – Господин в черной тройке одарил Коршунова не слишком внимательным взглядом. – Публика страшится голода, а это хорошая новость.
– Не торопись, мой друг, – остановил его Холщевников, и Коршунов понял, что перед ним редактор Арбенев.
– Непременно печатайте, господин Арбенев, – сказал подполковник со значением. – Авось и сбудется среди ваших небылиц.
– Простите? – насторожился Арбенев.
– Превосходно сказано у вас сегодня в газете. – Коршунов усмехнулся. – Называть себя революционером теперь можно так же спокойно и гордо, как вчера – называть себя тайным советником! Над кем же насмешка – над тайными советниками или над собой? Пугаете либералов или задаете им овса?
– Нужда в хлебе огромная, – вмешался протоиерей, – до того дошло, что просфоры печь не из чего! Намедни настигли отрока в церкви, воровал просфоры и поедал, аки зверь пещерный. Пред алтарем секли, а он ест, ест – и не отымешь, укусить норовит.
Генерал протянул чуть дрожащие руки к светлым, серебряной нити, ризам протоиерея и темному сукну Арбенева и дружески подтолкнул их к дверям:
– Еще несколько минут для дела, и я приду.
Они снова остались одни.
– Святая церковь сечет голодного отрока, а вы, генерал, церемонитесь с преступниками!
Холщевников не ответил, ждал решительных известий, без которых Коршунов не появился бы у него.
– Я имею вам сообщить, ваше превосходительство, что по высочайшему повелению специальные поезда будут отправлены в Сибирь из России, а также из Харбина для покарания бунтовщиков. Генералам, которые поставлены во главе карательных эшелонов, приказано не останавливаться ни перед какими затруднениями, чтобы сломить дух мятежа. Всякое вмешательство посторонних в дела дороги, телеграфа, в управление края будет устраняться с беспощадной строгостью. – Он закончил с оттенком сочувствия: – Не дай вам бог, генерал, чтобы, прибыв в Читу, они застали все то же самовластие черни. А еще не дай вам бог, чтобы генералы встретились в Чите.
– Как будет угодно судьбе, – глухо ответил Холщевников.
– Прощайте, генерал. – Он не протянул руки, понимая, что обременит Холщевникова, двинулся к двери и вдруг остановился:
– Кто у них здесь верховодит?
– Отыщите ротмистра Балабанова, об этом удобнее спросить у него. – Но что-то в Холщевникове надломилось: новость расколола под ним привычную землю. Он не сразу уступил забастовке, отдавал шаг за шагом, разумно, как и следовало патриоту России, отдавал, чтобы избежать крови, худшего, отдавал среди дня, трезво, а ночью терзался тем, что все худо, все рушится, и в далекой Швейцарии, и здесь, что из рук уходит власть, расползается, как гнилая пряжа под пальцами. – Впрочем, могу назвать тех, кого и без меня знает город: Курнатовский и Костюшко-Валюжанич. Вы сибиряк, должны помнить «романовское» дело. Оба проходили по нему. Еще – Попов, Жмуркина, братья Кларк…
– А из пришлых? Из недавних ссыльных? Сероглазый, русый. – Коршунов вдруг отчетливо увидел Бабушкина, не сегодняшнего, а у стены иркутского вокзала, на стуле, сдернувшего в порыве речи шапку. – Косой пробор, роста среднего. Я думаю, два аршина и четыре-пять вершков.
– Вам-то что до них, вы птица перелетная!
– Мне и впрямь наплевать, – Коршунов тихо, удовлетворенно рассмеялся и пальцами осторожно коснулся шеи. – Шее моей любопытно: кто намыливает для нее веревку.
Трое суток не уходили поезда в направлении Харбина. Встречаясь вновь с Холщевниковым, с полковником Бырдиным и ротмистром Балабановым, Коршунов приходил в ярость. Он окопался в «Даурском подворье», час за часом наблюдал новую, ненавистную ему народовластную жизнь Забайкалья, страдал от зрелища содомского города, от своего бессилия, от невозможности прокричать Линевичу через заснеженные сопки и тайгу слова монаршего повеления, от мысли, что его опередят телеграммы, посланные вокруг целого света, обскачут нарочные из Инкоу, Синминтина, Тяндзиня и слуги гиринского дзянь-дзюня.
14
Седой, кудрявый, в неистребимой перхоти на муаровом банте и отворотах бархатной блузы, господин Серж, владелец цирка, стоял в проходе из-за кулис на арену в нескольких шагах от Бабушкина. Серж не решался тронуть чужака, спросить, зачем он здесь, не угодно ли ему убраться на галерку, где забайкальский ветер отыскал щели между стеной и крышей и наметает сухой, не тающий в холодном помещении снег. Во всей труппе у Сержа единственный друг – мизантроп клоун Бондаренко. На этих днях публика укротила его: клоун позволил себе выпад против рабочей милиции, намекнул на особо усердную ее службу у Сенной площади по охране ночных заведений Растатловой и Чебыкиной, – а на следующем представлении, едва господин Серж объявил антракт, на опилки вышли трое дружинников, спросили у публики, доверяет ли она дружинам, и потребовали, чтобы клоун извинился, если труппа и гражданин Серж желают, чтобы они и впредь обслуживали цирк, не допуская внутрь безбилетную сахалинскую каторгу. Пришлось клоуну извиниться.
Сегодня после многих дней недоборов цирк полон, хотя и рождество, пост холодный, а нынче еще и голодный, почище Петрова поста, и новый год замаячил, – в такие дни, пообещай хоть убийство на арене, публика не идет – и вдруг забито все, а от Сержа еще и потребовали в антракте отдать арену под маскарадное шествие, с недавнего маскарада в Общественном собрании. Третий день только и разговоров что об этом кривлянии: тощая, с косою в руках, в образе безносой – цензура; старьевщик, торгующий за ненадобностью царскими регалиями; черносотенцы из братства св. Иннокентия… Серж опасается ввязываться в рискованное предприятие, он знает, как неверна фортуна: сегодня посмеялся, завтра тебе же и вколотят в глотку твой смех, да так, что кровью пронесет, еще и выживешь ли. Узрев публику, господин Серж решил, что она сошлась ради маскарада, потешить плебейскую кровь унижением имени государя императора, но открылось ему нечто посолонее: в цирке ждут матросов-каторжан из Акатуя. Дом жандармского полковника Бырдина в трех кварталах от цирка, долго ли сбегать, но Бырдин впервые встретил Сержа нелюбезно, объявил, что не станет вмешиваться, поскольку более трех недель назад губернатор дал согласие на освобождение государственных преступников из каторжной тюрьмы.
Бабушкину из-за занавеса виден смеющийся Алексей, рядом с ним Борис и Павел Кларки и Татьяна Жмуркина. Бледная, с высоким лбом и глубоко посаженными синими глазами, она хороша небрежной, не сознающей себя красотой. Глядя на нее, Бабушкин вспоминал Пашу на Охте после родов и его возвращения из Лондона. При встрече в Питере он ужаснулся, какой нужде обрек Пашу, ладонями обнял ее лицо, согревал, но и прятал виновато от своих глаз голодные ее морщины, напрягшиеся челюсти, острые скулы, близкую, исстрадавшуюся разлукой и неведеньем плоть. При нем успокоенная Паша менялась быстро, даже во сне уходили следы беды с лица, и в чертах его поселялось счастье материнства, его непостигаемая умом мудрость и доброта, все, что он нынче видит и в Тане Жмуркиной. Но в Паше все было тоньше и беззащитнее, по доверчивому, не без робости, ее характеру.
Слева от Жмуркиной свободное кресло для Антона Костюшко, он сейчас ведет прием в доме Шериха, а там засиживаются и до полуночи, пока примут и горожан, и мужиков из окрестных сел, и бурят из ближних наслегов. Всякий день он близко наблюдал Таню и Антона, они поселили его у себя, и в свободную минуту он брал на руки их годовалого, рожденного в иркутской тюремной больнице, сына. Отчего он не осмелился сказать им о смерти Лидочки в другой тюремной больнице? Многое было переговорено между ними, а этого не сказал: Лидочки для них не было, ни ее рождения, ни смерти. Студент Антон Костюшко, так и не сбывшийся горный инженер, сидел в Екатеринославской тюрьме, когда в город прибыл высланный из Петербурга Бабушкин. С юга России, из тюрем Екатеринослава и Новомосковска, Антон угодил в Сибирь, а за ним и суженая Татьяна Жмуркина. В Верхоянске Бабушкин снова услышал об Антоне Костюшко и Викторе Курнатовском – вожаках «романовки».
Они вспоминали Екатеринослав, днепровские речные острова, Григория Петровского, Якутск, ссылку, дивились, что жизнь не свела их до этой поры…
О Лидочке ни слова.
Почему? Оттого ли, что больно вспомнить? Что не хотелось сочувственного страха в чужих глазах и неизбежной жалости? Может, он берег Антона и Таню, их счастье, их свободу нестесненно любоваться сыном? Он прихватывал пальцами, ласкал пухлую лодыжку чужого малыша, а перед глазами и другая лодыжка – тонкая, голубоватая, поставившая его в тупик: как из этой малости, из теплой, хрупкой косточки сложиться ноге и крепко встать на жестокой земле? Паша смеялась над ним, беспечально радовалась, верила, что все сбудется, она отдаст этим косточкам свои силы и соки, и все, все сбудется.
Господина Сержа раздражало долгое стояние незнакомого человека в проходе, у занавеса. Чего-то он ждет, своего, не имеющего отношения к арене, а в иные минуты смотрит на пробегающих мимо артистов с простодушием подпаска, конфузливо улыбаясь и тут же пряча улыбку. Как понять Сержу, что человек этот впервые в цирке, хоть он и горожанин, петербургский житель, бойкий офеня, лондонский короткий визитер, человек, исколесивший половину России. Все ему внове: женщина, складывающаяся плоско, будто из нее вынули кости, и другая, увертливая, яркая, живехонькой вылезающая из ящика, проткнутого шестью шпагами во всех направлениях, и студенистая, на кривоватых ногах шестипудовая дама, жена Сержа, которая держит над опилками пятерых, и ловкие акробаты, и грузные мужики без шеи, в трико, в мягких, шнурованных ботинках у борцовского ковра. Как же он прожил столько лет на свете и не забрел в цирк? Бабушкину вдруг кажется, что по ошибке, по небрежности, но стоит чуть построже пробежать памятью годы, и не видать ошибки, нет того воскресного дня или вечера, которым он мог бы легко пожертвовать. Что́ горевать о несбывшемся, если в сбывшейся жизни все на месте и делу тесно, если каждый день – его, им слаженный, им выбран свободно без понуждения. Всякий час не в прорубь ушел, не в слепоту и невнятицу жизни – все, по мере сил, обернулось поступками, шло против тех, с кем жизнь не помирит его никогда. Из внезапных, отнявших секунды воспоминаний Бабушкин вышел с добродушной насмешкой над собой: значит, не так уж стар, что мало повидал, все еще встретится ему в жизни, еще он наглядится на всякое диво, и не один, с Пашей, сядут когда-нибудь в кресле с ребятами на руках, между собой и Пашей он посадит мать, которая прожила две его жизни, а тоже не была в цирке…
Чита приняла его, как ни один город в прошлом. В Петербург мать привезла его подростком, там он сложился и на юг России отбыл поднадзорным. В рабочий Екатеринослав входил исподволь, узнавая людей, набираясь нового опыта. И в Петербург, после Лондона, вернулся тайно, озабоченный строжайшей конспирацией, приехал к самой драке, в развал, в шабаш зубатовщины и «экономизма». Рабочий Иркутск только еще знакомился с ним, а в Чите он вдруг, до прихлынувшей радости, до совестливой тревоги, открыл, как заметно сделалось его место в рабочем движении, как его работа, даже и глухая, ссыльная, поставила его среди вожаков. Его по приезде ввели в комитет, хотя он и предупредил, что явился за оружием, и никто не знал, как скоро суждено ему уехать, через месяц или через неделю, но если и через неделю, сказал Курнатовский, то и эту неделю Бабушкин должен быть членом Читинского комитета. Он не стал возражать; это все та же работа, его пожизненная работа, в России не было такого угла, от которого он вправе был бы отвернуться, полагая его ниже своей судьбы. И Чита тормошила его, поднимала ночным стуком, громким, но бестревожным, стук обещал не обыск, а важное, неотложное дело, телеграмму из Красноярска, Томска, Иркутска или Харбина, перехваченную депешу, петербургскую почту генерала Линевича, минутную встречу для напутствия дружинников, увозивших оружие для Верхнеудинска, Петровского завода, Тарбагатая или Шилки, отъезд на дрезине в Могойтуй или Оловянную, необходимость переверстать уже приготовленный набор «Забайкальского рабочего», как это случилось со вторым номером газеты, когда в Читу доставили «Новую жизнь» со статьей Ленина «Умирающее самодержавие и новые органы народной власти», и Курнатовский с Бабушкиным поняли, что мысли этой статьи должны стать основой всей деятельности комитета. Бабушкин много писал для газеты, вровень с Курнатовским и Антоном Костюшко, но статей своих они не подписывали, честолюбие их не угнетало, они свободно правили друг друга, чаще правил Курнатовский, газета говорила с народом голосом не Бабушкина или Антона, а организации. И в цирк Бабушкин опоздал из-за газеты – Костюшко оставался в комитете, а Курнатовский третьего дня выехал в Нерчинск с намерением сломить упорство тюремщиков и привезти в Читу матросов из каторжной тюрьмы в Акатуе: начальник всей нерчинской каторги Метус и начальники тюрем Бородулин и Ковалев до сих пор не подчинились приказу Холщевникова.
В Курнатовском за внешностью просветителя и земского правдолюбца со спокойными глазами в нежно-припухлых веках скрывалась редкостная воля и отвага. Он не был уверен, что кто-либо другой без вооруженного отряда сумеет сломить упорство Метуса и его подручных; ему, недавнему нерчинскому узнику, хотелось поглядеть в их глаза, увидеть, как они отступят, выронят тюремные ключи, – не казнь он нес им, но обещание казни, удары грома, имя которому возмездие.
Мысль Бабушкина часто возвращается к связанному бечевками типографскому набору, к сырой бумаге, которая только что была легким безглазым листком и вдруг ожила в чересполосице темных, глубоко оттиснутых строк. Отчего ему так по душе запах печатной краски, машин, постукивание литер у наборных касс? Может, оттого, что детство было бескнижное, книга пришла поздно, не праздная, заменила классы гимназии и университет. Учителя приохотили его и к письму, то немногое, что писано им за жизнь, отдано газете. Из Покрова, из Орехова, из Иваново-Вознесенска, шифруя, он посылал таинственные листки в «Искру», часто сбивался в шифре, задавал добрым людям в Лондоне загадки, досадовал на себя, но был горяч, а шифровка требовала холодной головы. Теперь путь слова короток: писанное днем, в неудобстве, с тетрадью на колене, на верстаке к вечеру уже сложено перед ним свинцовым прямоугольником из литер.
Сообща решили, что полного выхода из подполья не будет; ни слабость Холщевникова, ни то, что Забайкалье так далеко продвинулось в создании новых органов народной власти, не притупляло осторожности. После Иркутска с изнурительными дискуссиями Бабушкин очутился рядом с людьми одной с ним закалки; в Иркутске ноги увязали в болоте, движение замедлялось, теперь же его привольно нес родственный поток, их дощаник не вертело, не ставило вперед кормой или бортом, он слушался руля, и каждый из них – Курнатовский, Костюшко или Бабушкин – мог спокойно доверить вахту другому. Отдав больше десяти лет подготовке революции, он теперь внятно, осязаемо вошел в нее, они уже клали сообща камни в фундамент новой России, пробовали возводить стены. Вот не сравнимое ни с чем счастье, сознание нужности всей твоей жизни с ее жертвами и потерями! Чита жила своим суровым делом, неповиновением, революционной работой. Газета пошла хорошо: читатель жадно брал до десяти тысяч экземпляров – «Забайкальский рабочий» оставил позади новорожденную «Азиатскую Русь» и казенные, с давним кругом подписчиков, «Забайкальские областные ведомости». Разносчикам дозволено было и продавать газету, и давать ее бесплатно, если человеку нечем заплатить. Хорошо бы печатать газету всякий день, но не хватает сил: ежедневная газета опустится, замельтешит, заговорит с оплошностями. Больше недели шел в Чите первый съезд делегатов от Советов рабочих депутатов и Смешанных комитетов – обсуждался вопрос о захвате всей полноты власти на железной дороге, о создании Центрального комитета для управления дорогой, и вновь от Иркутска, от его делегатов, повеяло робостью, маневрированием, опасением изменить сложившееся в губернском центре равновесие. Надо было поскорее возвращаться в Иркутск, но не с пустыми руками; вернуться в Иркутск без транспорта оружия – значило проиграть все.








