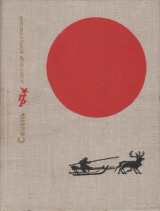
Текст книги "Сечень. Повесть об Иване Бабушкине"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
– Сопротивление неизбежно, и вы это знаете!
– Это судьба не одной России. Гражданская война – несчастье, но ее ведут не одиночки; и это правда не для одной России.
– Сколько же веков должно пройти, чтобы народ захотел защищаться… дополз до этого сознания!
– Здесь ваша слабость, – сказал старик с сожалением. – Слепота. Тщета мысли, – не сердитесь, сестра милосердная. Если бы вы знали, как мы близки к восстанию!
– Мы?! – Маша озиралась, недоуменно смотрела в полутьму уснувшей теплушки.
– Россия! – шепотно воскликнул старик. – И город, и мужик; у сибирского мужика репутация самого благополучного, далекого от бунта, а каков нынче он! Должны же вы и сердцем что-то чувствовать: мое никудышное, в рубцах, а слышит, неужто ваше глухо?
Маша не ответила.
– В моем положении не схитришь; скотом надо быть, чтобы лгать, умирая. – Он глубоко вздохнул, точно проверил, может ли говорить дальше. – Многие клянут нас, что исповедь мы променяли на проповедь, клянут и будут клясть десятилетия. Что не несем совести своей на церковные камни, в суетные руки попа. Разве это возможно для мыслящего человека – облегчать совесть с помощью тех, кто уже два тысячелетия слеп, кто не спас ни одной жизни, а если и облегчил кому страдания, то ложью, короткой ложью у могилы, у ямы. Потому что там, – он шевельнул головой, словно хотел уставиться в потолок теплушки, – там нет ничего: не перед тамошним судией ответит человек, а перед будущим, перед судьбой всех и жизнью своих детей. Какой суд может быть выше этого суда. Говорят, блажен верующий, он отыдет с миром. Ложь! И в смерти вперед выходит живая сила нравственности. Надо не грешить, не быть тварью при жизни. Но если ты хочешь отдать жизнь другим, непременно отыщутся равнодушные скоты, зарычат, ополчатся, найдут и каземат, и погреб в Сибири, и христовы строки, назначенные добить тебя. Меня жизнь напоследок обидела, не дала окончить дела… Уложила! – Он точно удивлялся и негодовал, что распластан, опрокинут навзничь. – Сущность-то жизни земной в человеке. Отними его от природы, от травы, от леса, от реки, оставь все это без людей, – кажется, и камень завопит: дай человека!
– Уж камни обошлись бы птицами, – горько пошутила Маша.
– Это в вас от огорчения жизнью; старое оружие выпало, а другого не знаете.
– Где же вы находите истинного, чистого человека?
– Я ведь тоже из сытого дома вышел, – сказал он, помолчав. – Оттуда, где многое уже было сделано, чтобы не смешаться с толпой. Тронулся в народ: глаза горят, а незрячие. Что народ? – не знаю. Знаю только, что хочу его облагодетельствовать. И вот первый злой урок: невозможно облагодетельствовать народ ни платьем с барского плеча, ни хлебом с чужого стола, все не впрок, все в насмешку. Я и ударился в тоску, в злость – неблагодарен народ! И за бомбу: вот ты каков, так я тебя разбужу; слов моих не услыхал, послушай динамитную музыку. Эту жизнь вы знаете, всю ее тщету: сотни втайне обрадуются гибели палача, а тысячи ужаснутся, отбегут куда подальше, хоть в церковь, чтобы не смешаться с убийцами. Вот тогда я снова пошел к людям, но не пророком, не дарителем, а товарищем. Будущее за теми, кого труд собрал сотнями под одну крышу, тысячами к одному хозяину, кто хочет не землю переделить себе в выгоду, кому-то в ущерб, а переменить жизнь. Этот человек просыпается не для мести, и жечь он не хочет, и стрелять не торопится, хотя защищаться при нужде будет отчаянно. Вы не думали вот о чем: родится ребенок в курной избе или в рабочей казарме, в нищете, – под ним с первого дня кусок стираной холстины…
Состав тряхнуло и затормозило, набегал, усиливаясь, грохот буферов. Заскрипела дверь соседнего вагона, ударилась раз и другой о стенку тамбура, в снег то прыгали, ухая, то сбегали коваными сапогами по ступеням – люди словно по тревоге покидали вагон.
Вразнобой ударили по теплушке приклады: ссыльные знали этот жадный, проламывающий стук, – в нем азарт и темный страх насильника, страх, что жертва ответит выстрелом. Потом громкий голос потребовал, чтоб открыли, и Михаил сказал, что дверь не заперта, пусть входят, кому угодно.
Дверь отъезжала в пазах медленно, клубы пара растаяли, обнажились очертания нар, тусклое ночное свечение чугунной печки, фигуры стоявших и сидевших ссыльных.
– Живо всем из вагона! – скомандовал Коршунов. Приказал обыскивать ссыльных, отнимать оружие и спички, и не торопил, ровно поглядывал, как они запахиваются поплотнее, вяжут деревенские кушаки, посматривают, нет ли близко станционных огней.
– Женщину оставьте… – шепотом просил Симбирцев. – Буду обязан навсегда… аки пес верный, – пробовал он шутить, заглядывая в спокойное лицо подполковника.
Сходили медленно: теплушка словно прихватывала за плечи, втягивала обратно теплом, недавним братством, надо было вырваться из ее плена, понять, что впереди, есть ли тут и другие люди или одни офицеры и унтер-офицеры. Показалась Маша, теплый платок лежал на плечах, руки подняты к растрепавшимся волосам.
У двоих отняли револьверы: без ругани, кажется, даже не запомнили их в сгрудившейся толпе.
– Женщина – пусть останется, – взмолился Симбирцев, и Коршунов снизошел, чубатый унтер прогнал Машу в теплушку, заглянул внутрь, не разглядел за Машей лежащего старика и задвинул дверь.
Место глухое, за пнями вырубки – могучий редкоствольный лес, потом строй деревьев смыкался, и свет луны, голубой и холодный, был бессилен пробиться в глубь тайги.
– Пальто, шубы, поддевки, всю рвань – долой, – сказал Коршунов. – Нельзя эту заразу в Россию везти: карантинная служба не позволяет.
Не сразу и поверилось: они и так продрогли до кости.
– А закурить можно? – послышался сердитый голос Михаила.
– Зажгите ему спичку! – приказал Коршунов. – И закурить, и спеть позволено. И уйти можете гуртом и в одиночку, как угодно: вы на каждой станции желанные гости.
Студент замешкался, нетерпеливый Симбирцев сорвал с него шинель и меховой, неприметный под шинелью, жилет. Легкие сдавило каленым воздухом, почудилось, что упал в ледяную воду.
– Забавляетесь, полковник! – его голос дрожал от холода, и это угнетало Студента. – Царские свободы празднуете.
– По нынешним временам я и расстрелять вас не вправе, – Коршунов присмотрелся к Ипполиту, но не признал в нем того, кого искал. – Был с вами в Иркутске еще один: он тогда на перроне говорил.
– Не захотел поганиться, с тобой ехать, – ответил Михаил: их приговор прочитался в безлюдье тайги, и не о чем было торговаться с подполковником.
– Марш! Марш! – Коршунова тоже трясло, он отвел взгляд от проклятого инородца. – Марш! – командовал ой и стрелял из револьвера поверх голов, в темные лапы елей. За ним подняли стрельбу и другие, срезанная хвоя падала на уходивших ссыльных. Они шли со сведенными лопатками, в ожидании пули, хотя она и принесла бы скорую смерть. Скрывшись за стволом ели, Михаил выхватил из валенка утаенный револьвер и разрядил его в толпу у теплушки. Его бил озноб, прижатая к шершавому стволу рука потеряла твердость, только одна из пяти пуль задела ногу казачьего офицера. За Михаилом не погнались, Коршунов прислушался, понял, что патроны вышли, и сказал:
– Пусть, не надо ему легкой казни. – На ходу бросил Симбирцеву: – Помните – живых свидетелей не должно быть.
При поручике остался чубатый унтер. Они отодвинули дверь, унтер подсадил Симбирцева и забрался сам. Увидели женщину на краю нар, но когда закрылись в теплушке, темнота поглотила и ее. Унтер набросал в печь щепы и сухой бересты, в теплушке посветлело.
– Тут человек! – крикнул унтер.
Старик тяжело приподнимался на локтях; услышав, как щелкнул затвор, Маша заслонила старика:
– Послушайте! Он тяжело болен…
– Вылечим! – Голос унтера срывался от злости на свой испуг: истощенное лицо старика показалось страшным. Поезд тронулся, унтер качнулся, и его пуля пробила вагонку в стороне. – Отойди! Убью! Пусть на ходу прыгает, а то двоих пристрелю!
Симбирцев ухватил Машу за локоть, дернул к себе, и в этот миг раздался выстрел. Унтер-офицер упал, его винтовка глухо стукнулась о пол. Симбирцев, прикрываясь Машей, подвигался к изголовью нар, выхватил из кобуры револьвер, оттолкнул ее, дважды выстрелил в старика и, споткнувшись, падая, почувствовал, что и тот успел выстрелить. Пуля ударила в правое плечо, и кровь потекла к локтю. Симбирцев оглянулся и не нашел женщины. Береста выгорела, снова сгустки тьмы в углах, звуки дороги, металлический скрежет, стук – и ничего человеческого, ни шороха, ни дыхания.
– Послушайте… Где вы?.. – Ни слова в ответ. Неужели он один в теплушке с двумя мертвецами? Вытянув вперед левую руку, поручик двинулся к печке. – Я ранен… мне нужно помочь… – Страх подгибал колени. – Помогите офицеру… вам все простится.
В поезде их не услышат: он будет кричать, его пристрелят, никто не услышит. Поручик бросился к убитому старику, прижался спиной к торцевой стене, бил каблуком в вагонку, звал на помощь.
– Я истекаю кровью… – сказал он сиплым просящим голосом. – Есть в вас что-либо человеческое…. – И, шатаясь, двинулся к печке.
– Стоять! – приказала Маша. – Кто этот подполковник?
– Коршунов! Коршунов! – повторял он, торопясь оказать услугу, увидеть просвет. – Сергей Илларионович Коршунов.
– Эта расправа – приказ Иркутска или Петербурга?
– Знаю! – крикнул Симбирцев и шагнул к ней. – Личная просьба Драгомирова. Спрашивайте, я все скажу.
– Еще шаг, и я выстрелю, – предупредила Маша.
– Богом молю… всем, что для вас свято!.. – Он тяжело опустился на колени, готовый заплакать. – Я молод… война пощадила. Вы не можете меня убить… я спас вам жизнь. – Поручик торопился, дробно постукивали зубы, непрерывностью слов он хотел задержать ужасное. – Вы не выстрелите, не убьете, я понимаю… – Эта мысль ободрила его. Он поднялся с колен и побрел на голос Маши. – Вы не можете убить… У вас благородный вид… Вы добрый человек… осталась с больным…
– Стой! Ты отодвинешь дверь и выпрыгнешь, скотина!
– Я сломаю ногу… такой мороз… – зачастил он, захлебываясь подступившими к горлу рыданиями. – Верная смерть…
Он бросился туда, где белело ее лицо. Маша выстрелила из винтовки унтер-офицера, поручик устоял, согнувшись, будто разглядывал чугунную печь, и Маша выстрелила еще раз.
Она сложила руки старика на груди, закрыла складчатые, мягкие веки и придержала их пальцами, будто, прощаясь, согревала доброго к ней человека. Частые гудки паровоза подгоняли ее, страшила мысль, что вдруг скоро станция и в теплушку придут офицеры. Отодвинула дверь, чтобы в широкую щель протолкнуть плечистого унтера, следом за ним сбросила Симбирцева и ружье, а с револьвером прыгнула сама.
Она упала с откоса на 649‑й версте от реки Обь, выбралась на рельсы, пошла на запад и вступила в каменную скалистую теснину – полотно дороги пробито здесь в базальте и граните – и вскоре увидела освещенное окошко сторожевого дома на 643‑й версте.
В восемнадцати верстах от этого дома станция Кемчуг – деревянный вокзал с двумя фонарями над входом, с белыми, как над избами обывателей, трубами, с пустыми, сиротливо торчащими фонарными столбами.
Эшелон Коршунова проследовал Кемчуг без остановки.
11
Темень и тишина.
Тишина полная, глухая, будто не в депо на скрещении рельсовых путей, а в дремотном окраинном домишке. Серое и днем оконце конторы заслонено бортом вагона, отсвет снегов не проникает внутрь, глаза не различают шкафа, стола, длинной скамьи напротив нар, где устроился Бабушкин, а в спокойные времена засыпали дежурные, деповские сторожа, машинисты, которых задержала пурга или близкий рейс. В полночь ушли на запад два поезда с запасными, еще с полчаса трубил кондукторский рожок, попыхивал, посверкивал огнями маневровый, уводя в тупик порожние теплушки и остов сгоревшего классного вагона. Во втором часу ночи покинули контору Алексей и солдат – представитель союза военнослужащих; умчались в типографию Казанцева печатать составленное вместе с Бабушкиным обращение военно-стачечного комитета к жителям Иркутска о том, что забастовавшие солдаты, казаки и офицеры приняли на себя обязательство перед гражданами города охранять во время забастовки порядок, их личную неприкосновенность и имущественную безопасность. Обращение упрочит вес забастовки, отнимет частицу власти у Кутайсова, сдержит в узде своры черносотенцев из братства св. Иннокентия. Проводив их, он убрал фитиль, дунул в ламповое стекло и улегся, как любил, на спине, с вытянутыми вдоль тела руками, дожидаясь дремоты, когда вдруг потянет повернуться на бок, ноги согнуть, как в беге, и уснуть крепко, не шевелясь до пробуждения. Все обещало скорый сон: усталость, тишина за кирпичной стеной, шорох оседавших поленьев, сухое потрескивание, голос жестяной вытяжной трубы, все просило сна, а сна не было. За спиной еще дышала ссылка заполярным, мертвенным дыханием. Даже и бег ямских лошадей после Кангаласы не казался ему быстрым – мысль летела в Питер с такой яростной поспешностью, что и борзые кони, казалось, топчутся на месте. Быстрее, быстрее – к делу, к любимым; после смерти Лидочки их оставалось на земле двое, но из темноты ночи, из неспокойной завесы снега перед ним возникало три лица, всегда три, – посредине, защищенное матерью и Пашей, нежное лицо дочери. В Иркутске дорога кончилась; сам оборвал, сам запнулся, увидел себя со стороны, как больно ударял носками сапог о рельсы, спотыкался рядом с покатившей теплушкой, бежал за ней, шевелил губами, винился перед Пашей.
Дорога оборвалась, но время помчалось бессонно, словно он снова во Пскове и нет ему покоя, хотя и не крадутся за спиной шпики и дружески открыты многие двери. Время неслось, в чем оно единственно и может нестись истинно и устремленно: в людях, в непредвиденной смене событий, в собраниях и митингах. Неслось, не признавая узды, поток жизни не принимал ни одного из русел, услужливо предложенных губернскими властями, либералами или объединенным рабочим стачечным комитетом. Движение становилось все более массовым, но волны бились врасхлест, сталкиваясь, ослабляя друг друга, рискуя растратить силы и замереть в старых берегах.
На железной дороге двоевластие: 21 ноября железнодорожники решили установить восьмичасовой рабочий день, революция многое поменяла в распорядке Сибирской и Забайкальской дорог, однако узкая стальная магистраль не могла иметь своей отдельной судьбы и отдельной революции. Покинь дорогу последний верноподданный чиновник, перейди она вся, от пылающих горнов мастерских до начальственных кабинетов, в руки рабочих, и тогда она оставалась бы тем же соединительным мостом между Россией, откуда изредка приходили эшелоны с мукой и зерном для голодного края, и военным, солдатским, все проигравшим Харбином. Власть на дороге не надо брать с бою: вот тревожное и непредвиденное состояние! Враг жив, он проезжает мимо на запад, украдкой поглядывая в вагонное окно, или вышагивает по сибирскому кабинету; он не лишен чинов, орденов, оружия, привилегий, но стушевался, хитрит, пребывает в страхе, что его лишат не жизни, а власти, – его упраздняют, но дают отдышаться, набраться сил и злобы. И в этом мирном отпадении и мирных победах таилась величайшая опасность для революции, ибо это был худой мир и передышка, которой одна сторона пользовалась лучше, нежели другая.
Город словно бы созрел для народовластия. Вчерашняя твердая рука уже не тверда, поплыла под ногами земля, генерал-губернатору некого позвать на помощь, кроме сотни зеленых юнкеров, горстки приставов и полицейских. Уже побежали с корабля крысы, отбывают из губернии чины, не сказавшись Кутайсову, кто в Петербург по делам службы, кто в неизвестном направлении; при отменном здоровье подают рапорты о болезни, прошения об отставке, предпочитая жизнь обывателя служебной карьере; находят приют у хлебосольной родни в таежных поселках и улусах. Правительственный корабль накренился, течь велика, волны демократии бьют в сгнившую обшивку, ломают шпангоуты. Город без больших фабрик и заводов подогревал заблуждения меньшевиков: всякий раз, когда на митингах принималось решение продолжить военную забастовку, меньшевистские ораторы добивались непременной поправки – забастовку продолжать мирную, но с оружием в руках. Малочисленность рабочих, недостаток оружия и то, что комитет РСДРП оказался в руках реформистов, превращало Иркутск в слабое звено сибирской революции между Томском – Красноярском и Читой – Харбином. Но в Иркутске обнаружился и непредвиденный властями революционный резерв: солдаты. Загнанные в эшелоны еще в Харбине, они в скудости тащились через Забайкалье и останавливались в Иркутске за получением денежных расчетов. А. Иркутск был так же прижимист, хитер и неласков к запасному, как и Харбин. Вооруженного солдата он часто опасался и спроваживал, безоружного мытарил в здешних казармах и кормил впроголодь. Недовольных скопилось тысячи, солдат потянулся в колонну, нашлось у него и знамя, и список прав, которых он домогается; солдат открыл для себя, что именно забастовщики заняты ремонтом паровозов, сносятся телеграфно с другими комитетами Сибирской дороги, помогая солдатам вернуться в Россию.
И Кутайсов решился на крайность. Собственной властью он приказал уволить запасных четырех сроков, добыл для них денег и спровадил из Иркутска.
Месяц спустя, 22 декабря 1905 года, страшась последствий, Кутайсов писал об этом в докладе царю. Он пугал Николая II призраком революции, стремлением революционных партий «воспользоваться возмущением солдат, чтобы арестовать начальствующих лиц и объявить временное правительство». «Положение было в высшей степени серьезное, – писал генерал-губернатор задним числом, улизнув в Петербург и пытаясь предотвратить свое служебное падение, – готовые к возмущению части, дурной состав офицеров, слабость и неспособность командиров частей, отсутствие надежды получить откуда-нибудь помощь и частные известия из всей России заставили меня принять совершенно исключительные меры.
Я знал, что 23‑го или 24‑го утром войска присоединятся к открытому восстанию, что к этому дню назначен колоссальный революционный митинг и что у меня для прекращения бунта в руках будет одна только сотня юнкеров; но, с другой стороны, я также знал, что если распустить запасных и дать им средства выехать на родину, то от уволенных нельзя будет ожидать беспорядков, а оставшаяся часть войск, увидя, что запасные увольняются, останется спокойно дожидаться своей очереди; необходимо было только принять эту меру, пока войска еще не привели в исполнение свою угрозу, – бунт надо было предупредить, но идя навстречу желанию солдат, вместе с тем не следовало дать им повода думать, что это исполняется не по заранее предвиденному распоряжению начальства, а по их требованию.
Не видя никакого выхода из создавшегося положения, мне ничего другого не оставалось делать, как превысить свою власть и приказать уволить запасных четырех сроков: 1893, 1894, 1895 и 1896 гг.; для исполнения этого приказания я дал два дня, а от железной дороги потребовал экстренный поезд, и 24 ноября вечером около 1 тысячи человек беспокойного люда было увезено из Иркутска.
Мера эта дала ожидаемые результаты: революционная партия на время утратила почву для возбуждения неудовольствия в войсках, батальоны избавились от наиболее опасных элементов, а оставшиеся еще в рядах батальонов запасные младших сроков увидали, что начальство не имеет в виду лишать их ожидаемой свободы и при первой возможности увольняет их от службы».
И что же – остановило это бег времени?
Памятью возвращается Бабушкин к дням, прошедшим после того, как тысяча беспокойных покинула Иркутск. Присмирел ли город?
Отчаянная мера привела к новому взрыву, подкуп был слишком очевиден, а с ним – и слабость Кутайсова. Уволенные уехали, это не были записные бунтовщики: выбирал их не Кутайсов, а случайность срока рождения. И уже через день Бабушкин провел в помещении 1‑го Запасного батальона собрание солдат для выработки революционных требований, а 28 ноября, на четвертый день после отправки экстренного поезда, на восьмитысячном собрании солдат и офицеров требования к начальнику гарнизона были утверждены. На утро 29 ноября солдатская забастовка продвинулась еще на ступеньку: отвергая иркутскую армейскую иерархию, митинг избрал военно-стачечный комитет, своего начальника гарнизона – поручика Осберга и своего же коменданта города.
Враг словно замер, притаился в таежной чаще: иллювия народовластия, победы одними речами и ультиматумами, была для многих так полна, что нечего было и думать о восстании, о борьбе за реальную власть.
И среди обманчиво тихой ночи в напряженном мозгу Бабушкина родилось решение: ему необходимо в Забайкалье. Не на запад, а в Читу: в ближайшие недели не отвоевать Иркутский комитет РСДРП у меньшевиков, рабочие дружины тонут в торговом, чиновном и ремесленном городе, среди взбудораженных толп, расплывчатых и волнующих слов о свободе, о народовластии, о конституции, о мирных победах и мирной революции. Напрасно меньшевики на каждом перекрестке кричат о мирной революции, словно заклиная мятежных духов: восстание сделается возможным только вместе с цепью таких же восстаний на всем протяжении Сибирской и Забайкальской дорог. Отсюда кажется, что революционная Чита победила без боя, Бабушкин и себя ловил на этой иллюзии, – Холщевников уступил рабочим все, чуть ли не ключи от военного арсенала, и успех Читы используют иркутские меньшевики, объявляя его торжеством вожделенной мирной революции…
Его разбудили еще до рассвета Абросимов и чиновник губернской канцелярии Крушинский. Этот человек с вытянутым лицом и печалью в блекнущих синеватых глазах принес после отъезда ссыльных тревожный слух о черном сговоре Драгомирова с Коршуновым; полицмейстер похвастался за карточным столом, и дошло до чиновной братии. Та новость не подтвердилась, ссыльные миновали Красноярск, а там долго ли и до России.
– Принесло во́рона ни свет ни заря, – посетовал Абросимов. – Ни разу еще добрых вестей от него не слышал.
Крушинский отходил от стужи, пальцами сдирал наледь с рыжеватых изрядных усов.
– Откуда же им быть в волчьем логове, – заступился Бабушкин за чиновника.
– Ночью арестовали офицеров, – сказал Абросимов, – тех, кого избрали вчера на митинге.
– Взяли в казарме? При солдатах? – спрашивал Бабушкин у Крушинского.
– Их вызвали обманом. Это самовольный шаг Ласточкина, я уверен. – Крушинский представил себе ярость генерала, когда тот узнал, что солдаты избрали начальником гарнизона вместо него ничтожного поручика.
– Не думал, что Осберга так просто возьмут. – Бабушкин знал Осберга, ценил в нем соединение энергии, ума и вызывающей резкости. – Самому пойти в руки!
– Время такое, Иван Васильевич. И я пошел бы, да и ты, пожалуй. Не пойдешь, скажут – струсил! – Абросимов ободрился в последние дни, он теперь не один стоял перед сложностями жизни.
– Для чего же тогда наши патрули!
– Много ли их! Погром – остановят, если попадут на него, поджечь – не дадут, а эти аресты – хитрые, без шума.
– Ласточкин отступится, – убежденно сказал Крушинский: он только теперь вполне перевел дыхание, пошевелил пальцами рук, будто из них выходили последние остатки стужи. – Никаких петиций, переговоров: идти к гауптвахте солдатской толпой, он освободит офицеров. Ласточкин – трус. – Коснулся пальцами шершавого верха выгоревшей печки, убедился, что терпимо, и, продолжая говорить, прикладывал к теплу ладонь и, нагретую, складывал ее с другой. – Надо действовать быстро. Вчера из Харбина прибыл нарочный офицер, с Дальнего Востока к нам следует семью эшелонами при полном вооружении Второй пехотный Сибирский полк. – Это была его недобрая новость. – Полк не примкнул к революционному движению.
– Его расквартируют в Иркутске?
– Если полк задержится у нас хотя бы на неделю, Ласточкину и этого достаточно. – Он поднялся. – Мне до службы надо домой заглянуть. А на мосту ветром сшибает: этой зимой река рано станет.
– Каширцев тоже ждали как кары господней. – Абросимов надеялся, что обойдется.
– Тех изменил фронт, Маньчжурия, – возразил Крушинский. – А эти – баловни.
– Взорвать бы к дьяволу Хинганский туннель или скалы на Кругобайкальской! – Абросимов сорвался впервые: другие, случалось, тешились анархистской мечтой – отгородиться бы от кипящего харбинского котла, от пушек и казаков, от преданных престолу полков. Абросимов не мог помыслить дорогу мертвой, но вот припекло, загнало в угол, и он о том же, поверил вдруг в губернскую революцию, закрытую от мира рваным, рухнувшим гранитом.
– Что об этом толковать. – Крушинский нахмурился. – Дорога – наш крест, но она же спасение и жизнь. Отнимите дорогу – и что? Таежная глухомань, царство мертвых. Крест! – повторил он. – У нас на спине лежит, мы несем его, а прервите дорогу, и мы будем распяты на нем. Есть жизнь и нужды народные, перед ними отступает все. В революции не может быть ничего, что пошло бы во вред народу, – что ему во вред, то уже не революция.
В словах Крушинского привлекала и логика, и выражение целостной, поднятой до всеобъемлющей веры нравственности. Прежде чиновники редко встречались Бабушкину в революционной работе – единицы, бывшие чиновники, перейдя на нелегальное положение, они спустя год ничем не отличались от других интеллигентов в партии. Сибирь по-новому показала ему это сословие: многолюдное, заметное в жизни края. Были в этом сословии превосходные люди, сами воспитавшие в себе дар конспирации, ненавидящие самовластие двора и губернских князьков.
Крушинский пожал им руки и умчался. Абросимов повел Бабушкина завтракать в дом кочегара, куда по приезде ссыльных в Иркутск определили на недолгий постой Петра Михайловича, Бабушкина и Машу. Всякий раз, приближаясь к калитке палисадника, он вспоминал их первый приход, счастливую Машу, как она, хохоча, показывала рукой на старика, а тот беспечно, по-мальчишески поигрывал калиткой, радуясь ее певучему домовитому скрипу. И в этот раз подумалось о них и завистливо, как о счастливцах, и покойно и благодарно, с надеждой, что кто-нибудь из них уже повидал его Пашу, принес и ей облегчение.
На крыльце Бабушкин придержал Абросимова за локоть, прислонился к перильцам, озирая серые, поставленные вразброс избы. Заиндевелый мир, в рваных дымах над кровлями, еще не отчетливо выступивший из рассветной мглы, рослый человек с добрыми и вопрошающими глазами были с детства близкими, повторяющимися через все бытие Бабушкина, а вместе с тем и зыбкими, готовыми исчезнуть, как исчезало из его жизни многое другое.
– Пойдем, – торопил Абросимов. – На тощий желудок сегодня Ангару не перейдешь: снесет.
– Устоим. – Ему представился деревянный мост, по которому, пригнувшись, бежит чиновник губернской канцелярии. – Мне в Читу надо, Иван Михайлович. И скоро.
Абросимов опешил, вспыхнул простодушной обидой. Когда Бабушкин решил остаться в Иркутске, Абросимов не сразу и поверил в этакую щедрость ссыльного, но скоро привык, не благодетеля нашел в нем, а товарища.
– Ты вольная птаха. Уедешь хоть в Читу, хоть в Америку.
– Меня комитет пошлет, Абросимов. Ты пошлешь! – жестко возразил Бабушкин. – И не одного пошлешь, двоих. Погоди! – Бабушкин рукой загородил дверь. Светлело, ветер налетал долгими, проникающими порывами. – Крушинский прав: нам дорога нужнее, чем губернатору. Без Читы оружия не получить, а митинги прискучат, пойдут на убыль. За Уралом для нас оружия нет, да и есть ли оно там? Я у Мандельберга клянчил адреса…
– У него их и нет. Адреса у эсеров.
– Он тешится, что перезимует в благополучии, а за зиму весь народ в демократы запишется. Кутайсов со товарищи сгинет, по рельсам побредет царю жаловаться, а царя уж и в Петербурге нет и нигде нет, кругом один парламент на немецкий лад! – Бабушкин рассеянно глянул на Абросимова. – В Питер не поспеем ни он, ни я: наша война здесь. Декабрь, январь – другого времени не будет. Два месяца. Мало?
– В два месяца хорошей избы не поставишь.
– Вот и надо в Читу. Не на телеге – в вагонах винтовки привезти. Вооружить всю магистраль – если Сибирь и Россия начнут вместе, можем взять власть, не просто взять – удержать.
– Хватит ли у Читы оружия и для нас?
За их спиной стукнул засов, дверь отворилась, на крыльцо вышла хозяйка, Наталья, не удивилась им, крикнула на ходу, что Григорий не вернулся из рейса, пусть идут в дом. Низкорослая, темнобровая, яркая лицом, шелково-смуглым, с раскосыми, под нежными розоватыми веками, глазами, она кинулась к амбарчику. В руках миска, локтями прижала полы кофты, ветер стрельнул ситцевым подолом, открыл крепкие, с сенокосной поры загорелые икры над короткими валенками. Из амбарчика оглянулась, словно знала, что гости посмотрят вслед, и заранее радовалась этому, как радовалась всей своей хлопотливой жизни с тревожно-терпеливым ожиданием мужа-кочегара.
Не успели сесть за стол, ввалился Григорий, высокий, вровень с Абросимовым, но шире в плечах; рядом с женой – таежный медведь: развалистая походка, спокойствие карих сонливых глаз, нестриженая шевелюра, лицо, заросшее бурым завивавшимся волосом. Им с машинистом пришлось тащить продовольственный состав не до Верхнеудинска, а до самого Петровского завода. В Чите голодно, но дорога – у комитетчиков, на станциях хозяин один, вчерашняя власть сгинула, будто и не было ее.
– Новый, говоришь, хозяин? – Тревога за мужа отпустила Наталью, пришлые люди не мешали их давнему спору. – Взяли не свое и рады! Пришли бы к нам в избу, мол, отдавай, Григорий Ефимович, попользовался – отдавай.
– Здесь все мое, – сказал Григорий. – Наше с тобой.
– Выходит, твое и здесь, и на железной дороге, и в губернии? А ихнее что же? Век было ихнее, а теперь им по миру идти? Им в петлю легче, чем в наши черные руки отдать.
– На земле, Наталья Петровна, только и есть двое хозяев, – вмешался в разговор Абросимов. – Природа и рабочие руки. Чего природа не сотворила – они сделали.
– Зато и плачено им, не даром же.
– Нам – гроши́, деньги – хозяину!
– А ты торгуйся! Говори свою цену, – легко и весело урезонивала Наталья мужа. – Тебя послушать, под Читой не жизнь – рай. Новый хозяин! И что, накормил он голодного? Или злобе пришел конец? Подобрели люди?
– Не сразу, Наталья Петровна, – сказал Абросимов. – На это время нужно.
– А не сразу и они сулят. – Она задумалась. – За паровозы большие тысячи плачены. Иной паровоз и нерусский. Гриша говорил, у немца купленный. И те ваши?
– И те рабочими руками сделаны, – втолковывал Абросимов.
– Ну? Не баламутить же и немца: пусть хоть он спокойно живет. Ты скажи мне, Григорий Ефимович, в Чите не казаки ли верховодят?
– Не они. Хотя и казакам во́ как подошло. – Кочегар вскинул жесткую бороду, ребром ладони уперся в кадык.








