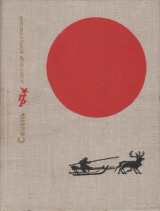
Текст книги "Сечень. Повесть об Иване Бабушкине"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
3
Выходило так, что и ссыльные, изгои, брошенные в Сибирь на гибель, стоят теперь выше мужика, защищены законом, явились вслед за урядником, за податным, за волостным старшиной отнимать у деревни последние крохи; убывающую силу лошадей, ложку похлебки, ломоть замешанного на жмыхе хлеба, тепло прохудившейся избы. По пороге в Верхоянск они, подконвойные, вызывали жалость: горько, совестно было глядеть мужику на посеревшие в казематах лица, на арестантскую рвань, на страшную их несвободу. Теперь же они торопились в Россию под охраной бумаг к другой, быть может, сытой жизни, барской, в глазах темного мужика. Им замаячила надежда, а станки и улусы по Ленскому тракту жили без надежды: ее отняла война, похоронки, повинности и жестокий недород. Как в памятные Сибири холерные годы, иные деревни отгородились от мира заставами, ватагами осатаневших мужиков при берданках и вилах.
Снег валил и валил, санная дорога уходила под сугробы, и серым ноябрьским полднем ямщик привставал на передке, озирался, чтобы не сбиться с примет, не заехать под волка. На третий день пути посветлело, солнце размыло малый круг в косматом небе, впереди показался улус, взыграл колокольчик, радуясь, что первым из-под дуги почуял ночлег и тепло. Но ямщик скоро углядел черную человечью стаю, где ответвлялась от тракта дорога на улус, и осадил лошадей.
– Сюда, барин, нельзя, – объяснил выглянувшему из-за его плеча Бабушкину. – Тут и в сытый год народ дикой! – И бросил пару в объезд, и колокольчик вопил среди сибирского безмолвия.
– Какой я тебе барин! – подосадовал Бабушкин.
– Однако грамоте обучен. Барина в жизни что́ ведет: кого барыш, кого книга… Бежишь в Россию, а зачем? К деньгам, что ли? Или погосты там теплее ваших?
– К делу.
– По другому времени все бы ничего; я и кормлюсь-то при вас. А этот год боязно, как на разбой выходишь. На мне теперь ямской службе – край, дальше обывательская гоньба пойдет, зазимуете. Они лошадей забивать стали, чтобы падаль не исть.
В немногие дни, пока Булатов собирал гужевую дань с якутских толстосумов, ссыльные разведали дорогу, наиболее горячие волости, и раздобылись письмами к учителям и чиновникам, а то и к старостам, мирволившим политическим. Прокурору Гречину напрасно казалось, что они сослепу ушли в западню. Ссыльные предчувствовали, что их ждет, но выбора не было: или коротать в Якутске долгую зиму, в которую, быть может, в России и решится без них все, к чему они готовили себя целую жизнь, или броситься в дорожный омут.
Поначалу держались покучнее, гуртом в три-четыре кибитки, но дорога разметала их. Кончился припас: сухари и до звенящей твердости мороженные пельмени, которыми снабдили отъезжающих жители Якутска. Отлетали в Россию голосистые птицы, и сердце болело у тех, в ком оно живо было, – вместе с залетными гостями убывали и гордые, непокорные слова, и взгляды без тени холопства. И печалились, и радовались за ссыльных, ждала их теперь не верхоянская безлюдная тундра, но тракт на Киренск, на Усть-Кут, на Жигалово и Качугу, ямская служба, станции и дешевая гоньба – радость казне, а мужику разоренье.
Но все рухнуло от далеких маньчжурских разрывов и яростного недорода, словно господь, чтобы не длить муки людские, торопил их к последнему порогу, – все пришло в расстройство и упадок. Иные станции стояли заколоченные, повергая в отчаяние пробившихся до них путников. Гудел набат в волостях, как в чумную пору, ямщики истово крестились, кидая лошадей в сугробы, на мерзлые кочкарники, к черту на рога, только бы от злобы, от смерти в объезд. На мглистом горизонте темнела – то справа, то слева – тайга, вдали возникали приленские увалы, обнажались гранитные речные крутизны.
Лошади бежали ровно, ямщик не понукал их, поглядывал неспокойно туда, где пора бы уже загореться огонькам улуса или сельца, и внезапно его сомнения развеивал разбойный посвист и в два ствола раскатывался выстрел. Лошади прибавляли шагу, будто им передавался страх ямщика.
– Третья деревня за день, – сетовала Маша, – а собаки не лают…
– Тут самый голод, барышня, – объяснял ямщик. – Убереглись бы люди, а собакам – невозможно.
И снова угрюмая тишина и внятный к ночи скрип полозьев.
Такого голода не испытывал прежде и Бабушкин. Может, только в Леденге затяжными зимами, гнилыми веснами, когда в махотку клали и кору и с осени собранные коренья; может, в год, когда умер отец, – но детская нужда легче, она забывается от первой ласки, от запаха свежего подового хлеба, от прозрачного, сладкого петушка на палочке, привезенного отцом из Тотьмы. Тот голод был, был, он и бросил его с матерью в нищие дворы и закуты Петербурга, в мальчики на побегушках к зеленщику. А может, голод всегда один – на всех голодных, один – на целую человеческую жизнь? Голод шел за ним неотступно; о тюрьме и ссылке и говорить нечего, – даже за границей, в Штутгарте, и на пароходе через Ла-Манш, ряженый, в темном пальто, в котелке и с саквояжем в руках, он не был сыт.
В кармане еще оставались гроши, но он помалкивал, каждое его неумелое слово в трактире, в съестной лавчонке могло выдать: лучше уж потерпеть до Лондона, до нужного ему дома на Холфорд-сквер, 30…
Бабушкин то забывался под раскачивание кибитки, впереди Маши, которая стонала во сне, будто никак не отъедет от вырытой в мерзлоте могилы, то делался памятливым, трезвым, мысли бежали по прожитому кругу. Долго ли он жил или коротко? На это разум не умел дать верного ответа, а чувства давали, чувства вели его память долго, пока она не срывалась, как в пропасть, в тюремную камеру, и снова слышался стук в стену, и, холодея, он утешал себя, что этот стук – ложь, тюремщики задумали сломить его упорство. Стук разом состарил его, будто не годы, а десятилетия прошли в скитаниях, в тайных сходках, в печатании прокламаций, и Прасковья Никитична, Паша, Пашенька была всегда с ним, всю нескончаемую жизнь, в которой и встреч и расставаний хватило бы на век. Жизнь казалась такой долгой, что и здоровье, и неубывающую силу он принимал, почти совестясь, как нечаянный дар.
С пригорка они увидели разбросанное в ложбине село. От окраинных изб кинулись люди, быстро сложилась черная застава.
– Волость? – Бабушкин встал в кибитке.
– Видишь – они и убить могут.
– Езжай вперед! – упорствовал Бабушкин. – Нам отступать нельзя. Некуда.
– И бери вожжи, если черта не боишься!
Поменялись местами: ямщик укрылся в кибитке. Мужики стояли угрюмой кучкой, зажимая под мышкой берданки, ждали.
– Стой! – Путь преградил волочивший ногу старик. – Гони в объезд! Вези господ от нас куда хошь.
– Мы не господа, мы ссыльные, – сказал Бабушкин.
Старик в упор глянул на незнакомого возницу, зашел сбоку, хлопнул гнедого по крупу, рассмеялся:
– Мы тут от веку – ссыльные. Тебе срок, а у нас – бессрочная. Тебе кормовые да прогонные, а нам – розги. Ямщика куда девали?
– В кибитке он.
Старик ударил огромной, в рукавице, рукой по кибитке, и ямщик сошел на дорогу. Старик воззрился на него с укором и пьяным разочарованием.
– Сильвестр! Не ездил бы, время худое.
– Голодом сидите, а вино жрете, – выговорил ему ямщик.
– Казенную пьем! – крикнули из толпы. – Ферапонт, приказчик, поит. Он нас в сотню пишет.
– В казачью, что ли?
– В черную, – похвастал диковиной старик. – Свобода вышла: политикам свобода и публике тоже – политиков бить. Ты их на смерть не толкай, давай в объезд.
Простой этот разговор и старик, переступавший на недужных ногах, сделали ямщика несговорчивым.
– У нас подорожная. Доставлю их – и обратно.
– Они и сядут у нас, коли не лягут, – сказал старик. – Дальше не повезем, на порог не пустим.
За беседой они не доглядели ссыльного, услышали свист кнута и удар копыт, – кибитка понеслась навстречу избам, по деревенской улице, к площади, к волостному правлению, к рубленой церковке и магазину. Старик выстрелил вслед, не в кибитку, а беззлобно, для порядка.
В волостное правление ссыльные вошли под хмурые взгляды мужиков и баб, усадили на лавку Петра Михайловича и сбросили с себя верхнюю одежду, показав, что намерены заночевать. Народ прибывал молчаливо: люди посматривали то на ссыльных, то на старосту и статного мужчину в короткополом кафтане и плисовом жилете поверх красной сатиновой рубахи, с лицом испитым до радужно-свекольной синевы. Слышался скрип ступеней крыльца и жесткое шорханье метелки: баба подметала волостное правление. Старосту смутила хозяйская основательность, с какой держались ссыльные, а более всего один из них, молодой, с непрощающим взглядом приметливых глаз. Он похаживал среди мужиков, запустив ладони под широченный пояс, какой старосте пришлось видеть только раз на казачьем офицере, приезжавшем валить медведя.
– Ты зачем против царя пошел? – спросил он у старосты. – Почему позволил этому мерзавцу торговать вином без патента?
Староста опешил. А приказчик не смутился – хмель глушил сомнения и страхи, толкал его на середку избы.
– Ты кто же будешь: податной али акцизный? – спросил он, подмигнув мужикам. – Может, ты урядник? Или, спаси и помилуй нас господи, сам губернатор якутский?
Приказчик развеселился; остальным виделось что-то необычное в нагрянувших людях, и похожих на виденных прежде ссыльных, и непохожих, немерных.
– Ты зачем разрешил приказчику писать мужиков в преступную черную сотню? – донимал Бабушкин старосту, глядя мимо Ферапонта. – Он что – казачий чин? Офицер? Ну-ка, список! Немедля список!
О списке сказал наугад, выражение писать в сотню вовсе не означало обязательного списка – людей поили, сговаривали, а затем уже и числили за сотней, держали их на примете. Но староста приблизился к Ферапонту, протянул руку за бумагой, а тот с хмельной удалью захлестнул полы кафтана и попятился к двери. На пути встал Михаил и кто-то из мужиков. Ферапонт пожал плечами – черноликий человек в башлыке чем-то пугал его – и отдал бумагу.
– Он и баб в сотню пишет! – пожаловались из толпы.
Бабушкин не спешил развернуть список. Как хорошо понимал он власть любого клочка бумаги с несколькими строками, выведенными писарской рукой, над жизнью сельского мира! С печатью она или без печати, правая или неправая, а пришла в волость, и беда, поборы, повинности, кара, и новая нужда, и безответные слезы. Не было бумаг радостных, облегчающих, возносящих, а только взыск и кара, кара и взыск. Так и теперь: пьяный ор в трактире, вино на дармовщину, и море тебе по колено, ты и сам себе кажешься грозным защитником царя-батюшки от смуты, ты в списке, твое там имя, твое, тебе его дали при крещении. Не читая, Бабушкин изорвал бумагу.
– В забастовке все, – пожаловался староста. В правление ввалились мужики из дорожной заставы, с ямщиком. – Они чего говорят: деньгами, если вдвое против нынешнего платить, и то расчет ли?
– Чего деньги – мука кончилась!
– А была она – мука?!
– Нам теперь подыхать!
– Слыхали? – Староста был рад взрыву: пусть узнают, каково ему приходится. – Бастуют. Как фабричные.
– Это их право – бастовать! – отозвался седой старик, и все услышали, какой у него густой, значительный голос. – Хватит, покуражились над мужиком, обложили земскими повинностями…
Староста поразился прихоти ссыльных: рубят сук, на котором сидят, – ведь и почтовая гоньба, за которой они здесь, – та же земская повинность.
– Везите их, мужики, подальше от греха, – посоветовал он. – С девицей оне…
Мужики молчали. Страх перед списком ушел, выветрился, тяжкое нестроение собственной жизни вышло вперед.
– Сам и вези! У тебя кони овес жрут, – тоскливо сказал сухонький, жидкобородый мужик. – Небось копытом доску прошибут, а мои на шлеях висят.
– Дети голодом сидят, а ты – арестантов корми!
Тому, кто везет ссыльных, полагалось дать им ночлег и пропитание, и была тут неловкость бо́льшая, чем с лошадьми: нищенство, назойливое, насильственное, с соизволения начальства. И от растерянности Маша спросила не в пору:
– Что же это молодых мужиков не видно?
Изба откликнулась горласто, изливая душу:
– Выбили молодых!
– Теперь и седой мужик в цене!
– У нас один кобель остался – Ферапонт!..
– Милая! – Скорбная старуха, переждав шум, приблизилась к Маше, будто разговор этот давал ее полузрячим глазам право рассмотреть приезжую в упор. – Наших двое вернулось: мой внук и вот Катерины брат… – Она показала на женщину с метелкой в руках. – Побитые, из двух одного мужика не сложишь. Веди их, Катя, пускай смотрят. Я далёко живу, у леса, а Катя – за церквой.
– Поведу! – густым, низким голосом отозвалась женщина, вышла из притененного угла избы на свет и стала туго заматывать платок вокруг нежного глазастого лица. Она была невысока и чем-то впору Бабушкину, – может, так казалось потому, что они стояли друг против друга, русые и светлоглазые. – Им с дороги отогреться надо, – оправдывалась она перед односельчанами. – Нешто мы звери… Дед живой ли? – показала она на Петра Михайловича.
– Ты веди! – озлился хромой старик из дорожной заставы. – Вызвалась и веди, покорми их кусочками! А лошадей запрягать не смей: отберем… под опеку.
Женщина порывисто повернулась на ненавистный голос, но перечить не стала, а от порога вдруг обратилась к старосте:
– Прежде ты им про учителя скажи!
Все притихло в избе, послышался вздох ссыльного, поднявшегося с лавки, и рывком, всполохом – звон колокольчика: это унес ноги ямщик.
– Учителя третий день под замком держат, – сказала Катерина. – Прежде кашлял, а нонешний день его и не слыхать.
– Не я сажал – становой пристав. Учитель из губернии приехал, смутили его там. – Староста не знал, как определить вину учителя. – Сюда прискакал – манифест объявил. Свободу!
– Царь объявил манифест, – сказал Петр Михайлович.
– Царь – потом, – уперся староста, – а вперед он. Царь манифест объявил, а этот, видишь, свободу!..
Шли через вечернюю, в синих тенях, площадь. Староста робел, сомневался, по закону ли держит он в холодной больного учителя. Недолго бы и выпустить, учитель в тайгу не убежит и старушки матери не бросит, но и выпустить по нынешнему времени боязно, Ферапонт уверял, что теперь учителя и убить можно, никто в ответе не будет, манифест спишет. Выходит, что, заперев учителя, он сохранил ему жизнь, а накормить его не получалось – не берет ни хлеба, ни воды. Толпа в молчании обступила глухой сруб, староста загремел ключами и амбарным замком, отворил дверь. Черная тишина дохнула из сырого, могильного зева сруба.
– Ко-о-лень-ка! Сы-ынка! Живой ты?..
Староста откашлялся: страх за себя сдавил ему грудь.
– Собирайся, Николай Христофорыч, уж отлежался. Явилась твоя свобода! – сказал он прощающе и льстя ссыльным.
Ответа не было: ни стона, ни чахоточного, сиплого дыхания.
– За-а-мерз! – закричал кто-то.
Толкая друг друга, люди бросились внутрь. На деревянной скамье, прикрытый овчиной, лежал учитель. Вечерний, снегами отраженный свет обозначил его заросшее, диковатое лицо, впросинь окрасил щеки и лоб. Он медленно сел, свесил худые ноги в валенках.
– Кто вы? – спросил у ссыльных удивленно.
– Ссыльные. Бывшие ссыльные! – поправилась Маша.
– А-а-а! – протянул он апатично. – Революционеры!
Он снова растянулся на скамье, уставясь в темные доски над головой.
– Христом богом прошу! – взмолился староста. – Иди ты отсюда, Христофорыч, иди, покудова жив… Возьмите его, матушка!
Мать хлопотала над дитятком, то гладила его по волосатой щеке, то подтыкала тулуп, чтоб не дуло, не морозило, то обнимала, поверх овчины, грудь. Взгляд учителя оставался неподвижен и горд, на губах появилась сострадательная к людям улыбка.
– Иди отсюда! – Староста потянул его за валенок. – Совести у тебя нет: детишки с наукой заждались.
– Желаю от законной власти обрести свободу! – сказал учитель торжественно. – Меня запер становой пристав, ergo[2]2
Следовательно (лат.).
[Закрыть] – освободить меня может киренский прокурор!
– Били тебя, Коленька? – страхом, тоской исходила старушка, опасаясь, что ее вытолкают, навесят замок и снова она будет бродить вокруг, мучаясь, жив ли сын. – Били?
– Самую малость, матушка, – успокоил ее староста. – С толком, как ученого: головы не касались. Нешто мы дики́е?!

4
Она молодо сновала по избе, собирала на стол, будто дело шло к щедрому застолью, а не к скудной, голодной трапезе. В печи в чугунке закипела вода, приправленная чагой, в махотке варилась картошка в мундире, на противень легли ломти хлеба, которые Катерина окропила водой и сунула к огню. У ссыльных нашлась горстка голубых на изломе кусочков сахара и немного сбереженных для старика пельменей; эти лакомства отдали двум малолетним девочкам Катерины, отец их погиб в Маньчжурии. При малых детях и Катерина казалась моложе: совсем не старая солдатка, крепкая, плечистая, тонкая в талии, с округлым и плавным стволом шеи. Ее безрукий брат, Григорий, – правую укоротило по плечо, левую выше запястья – двигался мало, зачем трудить ноги, если они не вынесут его к живому посильному делу, и Катерина суетилась по избе за двоих, всюду поспевая, все примечая светлыми, прозрачно-зеленоватыми глазами. Она терялась в догадках, кто из ссыльных муж темноволосой женщины – Михаил или тот, кого звали Иваном Васильевичем, и склонялась к тому, что, верно, второй. Может, думалось так оттого, что и ей он приглянулся больше. Он редко взглядывал на Катерину и все вскользь, но его взгляд она принимала остро, отдельно от внезапного многолюдства избы и самого течения времени. И все ей казалось, что на сироток ее он смотрит особенно, радуется им, но и тоскует, будто думает о них, смотрит и думает, знает что-то о них, об их прошлом и будущем. Катерина с ковшом воды вернулась в избу из сеней и увидела, как Бабушкин принял из рук ссыльной жакет и повесил его на гвоздь у двери.
– Чудно́ как у вас, – сказала она вполголоса, чтоб ее не услышала приезжая, – муж с женой, а будто чужие.
– Мы и есть чужие.
Катерина повела глазами по избе, по гостям: не смеется ли он над ее доверчивостью?
– Он, что ли? – кивнула на Михаила.
– И он – товарищ. Мы все друг другу товарищи. Тюрьма, ссылка, общее дело.
– Теперь-то вы вольные! – сказала, словно завидуя. – Теперь вам на все четыре стороны воля.
– Теперь нас дело приневолит, Катерина Ивановна. А мы и рады. – Он разглядывал ее, будто теперь только, после девочек и безрукого Григория, после пляшущего в печи огня и потемневших венцов сруба, пришел и ее черед. – Вы старика и Машу уложите потеплее.
– Жалеешь ее? – усмехнулась Катерина.
– Чего ее жалеть? Она сильная. Эта барышня в губернатора стреляла, чудо его уберегло.
– Человека бог бережет.
– А его – черт! Простить себе промаха не может.
Катерина вывалила из противня хлеб на скобленную до костяной белизны столешницу. Он лежал перед ними темными горбушками и рваный, и обрезками, будто несколько хозяек разного достатка сообща собрались сушить сухари: у кого и пшеничная мука еще не вывелась, а кто и к ржаной примешивал толченую кору.
– Гриша мой не бездельный, он наш кормилец, не смотрите, что без рук. – Ссыльные не понимали, каким образом калека кормит сестру с дочерьми, и Катерина гордо объявила: – Он сбирает.
– Что делает? – переспросила Маша.
– Сбирает! – удивилась Катерина непонятливости ссыльной. – По избам ходит. Христарадничает…
И побежала взглядом по рукам, не дрогнут ли, не вернут ли на стол хлеб, не побрезгают ли. Маша торопливо откусила от нищенской горбушки, подняла глаза на Бабушкина и поразилась его отсутствующему взгляду. А он на миг, с ломтем в руке, увидел русого мальчика в чунях поверх онуч, в отцовском, ненужном уже мертвому, картузе, бегущего по сугробам к избе с лукошком, полным кусочков. Видел, как вбегает с хлебом в избу, бросается счастливый к полатям, где лежит больная мать.
Он коснулся хлеба губами, словно поцеловал его, и взволнованный встал из-за стола.
– Гриша у нас тверезый, не пьет.
– Не подносят, я и не пью, – отшучивался Григорий. – А мне можно: никого, без рук, не обижу.
– Обидеть и словом можно, – сказала Маша. – Тяжко.
– А ты не обижайся, – присоветовала Катерина. – Отходи сердцем, и никто с тобой не сладит. Не злобись.
– А сама! – Григорий благодушно покачал головой. – Чуть что, как сатана…
Катерина засмеялась тихо и благостно, будто обрадовалась упреку. Правда, правда, в избу к мужу пришла кроткая, добрая, хоть к ране прикладывай, потом смерть пошла вырубать семью, кашлем, горячкой задохся первенец, свекор и свекровь в прошлую голодуху ушли, мужа отняла война.
– Испортилась я, правда, – призналась она.
Бабушкин слышал и не слышал их. Мысль снова проделывала путь от Верхоянска до этой избы и летела дальше, мимо деревень и улусов, за Урал, в родные места, и повсюду мысль и память ранила горькая нужда. Чем только живы истерзанная плоть и дух человеческий? Захотелось выбежать из избы, найти на дворе свежих лошадей, упасть в розвальни и только слышать, как свистит, подвывает ветер, как храпят кони и чьи-то быстрые руки перепрягают их у станций, живо, без отдыха, и он снова мчится навстречу судьбе. Только бы не опоздать, не явиться к шапочному разбору, быть в деле – неужели оно сделается без него?..
Заговорили о свободе, ведь и царь в манифесте помянул свободы, значит, полагал безрукий, слово дозволенное; и о том шел разговор, что если не привезут из России зерна, то и сеять будет нечем: у кого дети мрут, тот не станет беречь и последнее зерно. Маленькие руки Катерины вдруг перестали летать над столом, легли, чуть развернутые жесткими ладонями кверху, будто набирались сил перед будущей пахотой. И нисколько ее не тревожило, что некому, кроме нее, приналечь на соху, бросить зерно в оголодавшую, темную, сырую землю, – было бы зерно, она и одна управится. Взрежет, распластает, разровняет землю, пухом ляжет поле под зерно, и зазеленеет, заколосится, отплатит ей за труды, только бы зерно… И так ясно – вся, до седых волос, до ранней старости – представилась Бабушкину жизнь Катерины, что руки его сами потянулись к сонной трехлетней ее дочери, он усадил ее к себе на колени, прижал к груди, нежно погладил темя подбородком. Хозяйка вспыхнула мгновенной радостью и смущением.
– Свобода! Народу много чего посулили, – сказал Григорий, – а штыки генералы за собой оставили.
– Генералы – лакеи, – горячился Михаил, – сами они ни черта не стоят. Царь, думаешь, святой?!
Брат Катерины склонялся робкой мыслью к тому, что не на царе главная вина. Мыслимо ли ему из Петербурга уследить за всем, упечь казнокрада, вызнать, доставили ли в такой-то полк снаряды и патроны или оставили солдат беззащитными? Без царя мир Григория как-то не устраивался, оказывался мертвым и будто несуществующим.
– Выходит, по-вашему, – руби, круши царя, казну! – сомневался он. – А вожжи кому?
– Народу, – ответил старик. – Рабочим. Тому же мужику.
– Старосте нашему, что ли?
– Староста царю нужен был: ему-то и нужны старосты, урядники, податные, становые приставы. Я говорю – народу. Вам!
– Мне, безрукому, – и не суйся.
– Для управления голова нужна и совесть, – сказал Бабушкин тихо, оберегая засыпавшую девочку.
– А если война, кто ее народу объявит? А подати будут?
Бабушкин неясно представлял себе эту сторону неизбежного, на его взгляд, народного будущего. Подати, оброк, повинности – все это постыло, ненавистно, в самих словах нечистота и зло.
– Ну, не подати, пожалуй… налоги. Налоги, взносы.
Неуверенность ссыльного укрепила Григория в сомнениях.
– Какая свобода при нашей-то нищете! Ты прежде накорми человека, дай в свое сознание войти, пристава укороти, фельдфебеля, чтоб морду не били. А то – свобода!..
Темная изба наполнялась дыханием спящих; калека ни одной ночи после окопов не проспал спокойно, все в клокочущем храпе, в стонах, в скрежете зубовном. Катерина бессонно лежала с уснувшими девочками на полатях и думала об Иване Васильевиче, и не могла понять, зачем он ушел в холодную горенку, зачем дверь притворил, осторожно, без скрипа, – а Катерина услышала, жарким лицом ощутила, как пресекся легкий ток прохлады. Не верилось, что он уснул, выбросив из головы мысли и заботы, и то, как притихла у него на руках Оленька и как она, Катерина, сняла ее с его бережных отцовских рук, как коснулась его плечом. Думалось ей, что ушел он с умыслом, для чего-то, ради кого-то, и от робкого, мимолетного предположения, что он в горенке ради нее, сердце обмирало.
Зачем же ради нее – ради барышни, которая в кого-то стреляла. Уж она-то отчаянная, не испугается греха, да и грех ли это, если власти отняли их ото всего и бросили на чужую сторону. Катерина ревниво ловила ночные звуки: тихий звон стекла в стиснутой морозом окончине, шорох мыши в щели и в корье, скрип кровати под заворочавшимся стариком; ссыльная не шевелилась. С полатей Катерина смутно различала фигуры спящих, стол, синеватый выруб окна. В горенке светлее, там два окна, стекла, не обросшие в холоде льдом. Ах ты беда! Она не завесила окна, может, там от снегов так светло, что ему и не уснуть? Сон отлетел, голове сообщилась дневная ясность, а телу – дерзкая легкость, жажда двигаться, не дать темному сну отнять эту ночь. В памяти пробегал прожитой день, его последние часы, с той минуты, когда шальной примчался, не по-ямщицки нахлестывая лошадей, мчал будто не по селу, а по волчьему логу. Вспоминала первый быстрый взгляд, когда она вызвалась вести ссыльных, а он будто обрадовался ей, вызову, брошенному колченогому старику. Дело шло о том, чтобы показать им калеку, повести в избу на горькие смотрины, а Катерина и он тоже знали уже, знали, что к постою. Ведь ни слова не было сказано, пока шли из волостного правления, пока выволакивали тронувшегося умом Николая Христофорыча и белой тропой, молча, в затылок, двигались к ее двору. Значит, судьба? Значит, так было им назначено, и оттого он посадил на колени Оленьку, а потом ушел с хозяйским тулупом за дверь. Так, все так, и не было ни одной приметы против, ни одного недоброго знака, и жалость Катерины к постояльцу будоражила, торопила сойти с полатей, задернуть занавески, чтобы свет луны не помешал ему спать.

Приподнялась на локтях, напряженно смотрела на лоскутное одеяло, которым укрыта ссыльная, лежала до полуночных петухов, потом скользнула вниз, уверилась, что Маша спит, вышла в сени, вернулась, что-то неся в руке, и, как была, босая, шагнула в горенку. Широкие доски по-уличному студили ступни, в горенке все открыто глазу: диковинный пояс, брошенный на табурет, поверх одежды; ссыльный, уснувший на боку. С распушившимися волосами, с отчетливыми, показавшимися длинными ресницами, он выглядел мальчишески молодо, и Катерина усовестилась вдруг. «Господи! – подумала она с горестным облегчением. – Нет ему до меня дела… Он своего доможется, возьмет лошадей, уедет, а о них старшой и не вспомнит, об их скучной, несытой избе. А ее и подавно: с чего бы он стал вспоминать ее, злую сибирскут вдову, невидную, плечистую бабу…» Устыдилась, что стоит у постели с чашкой мороженой клюквы и с другой, где сахарился на донышке мед, будто пришла покупать ссыльного, ублажать его.
Катерина поставила чашки на стол и бесшумно задвинула занавески; горенка погрузилась в густые сумерки. Деревянный, со спинкой, диван скрипнул у нее за спиной; она порывисто обернулась.
– Катерина Ивановна?
– Лежу на полатях, думаю, не уснете при луне.
– Мне свет не мешает. – Он лег на спину, завел руки под голову. – Мысли донимают, а луна – пусть.
О мыслях сказал не жалуясь, к слову, как если бы в горенку вошла его сестра и они давно не виделись. Разговор получался добрый, и смотрел он по-хорошему, не гнал ее ни взглядом, ни тоном.
– Голодный, поди… – Ее морозило снизу, от незакрытых ног, бросало в дрожь. – Совестился, что ли?.. Кусочками брезговал, – упрекнула она, хоть и чувствовала, что напрасно.
– Нет, не брезговал. Я и сам мальчишкой, случалось, тот же хлеб ел.
– Тогда чего ж постился? Мы вам не жалели.
– Это на Руси – святой хлеб, – сказал он негромко: во всем была ночь, тяжелая тишина обложила их на сотни верст кругом. – Я бы его под стекло сложил и в столицах господам показывал. – Он заметил ее босые ноги и как ее трясет, как сами собой подергиваются губы. – Что это вы босая, Катерина Ивановна? – Он быстро сел на диване, и Катерина поняла его так, что он освободил ей место и ей можно сесть, поднять ноги с полу.
– За что же такая насмешка? Под стекло…
– Пусть бы увидели, как мы платим мужику, который и кормит Россию и жизнь за царя-батюшку отдает.
Катерина поджала ноги, уперлась пятками в край дивана, накрыла подолом, мяла в руках настывшие пальцы.
– Все ты о народе печешься… – сказала она с ласковым упреком. – О себе когда подумаешь?
– О-о! – легко сказал он. – На Яне времени хватало.
– И чего удумал? – спросила серьезно.
– Торопиться! Спешить удумал, Катерина Ивановна!
– Уж вы и так всюду поспели: и в злодеи, и в святые угодники.
– Именно что в злодеи, да еще нераскаянные.
– Она правда в графа стреляла?
– Уж не знаю, в графа или в князя, а бросала.
– Как это – бросала?
– Бомбу.
– Господи! – вырвалось у нее. – И седой туда же? И ты?
– Мы с ним мирные, – усмехнулся Бабушкин.
Катерине непонятно: как это девица, тонкая в кости, с барским темным пушком над губой, бросает бомбы, убивает, а мужики – мирные?
– Всё вы летите мимо, – сказала она с женской отрешенной тоской, – а куда летите? Сел бы ты, Иван Васильевич, на землю, тебя бы земля признала.
– Я и был при ней, – охотно откликнулся он, и ей показалось, что он благодарен ей за то, что разбудила и помогает коротать ночь. – Мальчишкой. У меня и земельный надел мог быть под Тотьмой. Только не суждено мне вернуться к земле.
– Жандармы тебя там караулят?
– Меня фабричная жизнь забрала.
– А что в ней – сиротство! – убежденно сказала Катерина. – Прорва сатанинская.
– Ты фабрику-то живую видела?
– Тятя рассказывал: в Петровском заводе год жилы вытягивал, когда прошлый раз голодом помирали. Он и сказал – пекло железное. Денег немного привез, а для кого? Одну меня у соседей нашел…
– Да, железное пекло. – Жалость кольнула сердце, он коснулся ее руки, словно хотел увериться, жива ли она среди стольких бед. – А при этом пекле сходятся люди, не на год, на всю жизнь. Тысячи сходятся: побратаются в одну семью, и, сколько жив будешь, ни на что ты этой семьи не променяешь.
– Есть ли вернее дело, чем на своей земле жить?
Он вытянул ноги под тулупом и задел ее, и вся она откликнулась невольному прикосновению. Соскочила на пол, взяла со стола чашки и вернулась к дивану, не к изножью, а к подушке, близко к его глазам, к доброму, сочувственному лицу.
– Я тебе ягод принесла… И медку чуток…
Он потянулся мимо чашки, теплыми пальцами сжал ее запястье:
– Девочкам оставь.
– Об них не печалься, – шепнула она, присаживаясь на корточки, заглядывая в его лицо. – Я ими только и жива… им лучший кусок. Вторую зиму без отца: я и забыла, какой он был, мой мужик, – прошептала она горячо, бесстыдно, пристукнула о пол чашками и схватила его руку. – Молоденький ты, гордый… не укротила тебя жизнь. А ведь ссыльная жизнь – хуже смерти.








