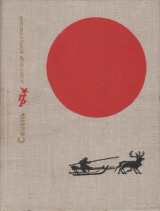
Текст книги "Сечень. Повесть об Иване Бабушкине"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Над подъездом каменного двухэтажного здания пласталось красное полотнище с аршинными буквами: «Союз союзов». Люди шли густо, кто входил внутрь, пригнув голову, будто и эта надпись страшила вольнодумством, а кто задерживался на ступеньках благоговейно, готовый обнажить главу и осенить себя крестным знамением. Свежим глазом, отдохнувшим среди заполярных снегов от сочного жанра российской сословности, Бабушкин отличал в толпе чиновную знать, промышленников в куньих шубах, с плутовскими мужицкими физиономиями, инженерную братию, независимых интеллигентов, которых камчатский бобер защищал от сибирской стужи, приказчиков, суетливых лавочников и немногих, будто не по адресу заглянувших сюда мастеровых, складских грузчиков и путейцев. Явился и фотографический мастер с черным аппаратом и треногой.
– Тут, брат, не скажешь: семь пар чистых и семь нечистых, во как чистые поперли, – дивился Бабушкин.
Узкая полоса мокрого от нанесенного снега паркета отделяла толпу чиновников и буржуа от группы рабочих. У высоких окон, против входной двери, стол под зеленым сукном, какие-то люди в распахнутых шубах, листы бумаги, чернила и ручки, колокольчик, принятый в публичных собраниях. Пока он не прозвенел, Алексей показал Бабушкину иркутских знаменитостей. Доктор Мандельберг, член Иркутского комитета РСДРП, вошедший и в состав военно-стачечного комитета, и глава либералов князь Андронников о чем-то совещались у стола, а вожак эсеров – низкорослый, краснолицый Кулябко-Корецкий свирепо похаживал по паркету, размахивая при поворотах концами башлыка и испепеляя взглядом толпу не нюхавших запаха селитры говорунов. Мандельберг – львиногривый, небрежный в одежде, с пылким взглядом темных глаз, в бархатной блузе под шубой; рядом с ним худой и стройный Андронников, рыжевато-русый, с живым, ироническим лицом, в темно-серой тройке, в теплом и легком, как и все на нем, пальто, – само изящество и артистизм. Даже и скошенное в нижней половине лицо не лишало его привлекательности – странная асимметрия и скорбные выпуклые голубые глаза будто обещали неординарность, ум насмешливый и энергичный. Он и заговорил первым, не затрагивал партийных споров, или, как примиряюще выразился князь Андронников, благородных партийных страстей: то, что рядом стоял доктор Мандельберг, спокойно посматривая в зал из-под лохматых угольных бровей, как бы говорило, что Иркутский комитет РСДРП тактически держится тех же взглядов и только Кулябко-Корецкому, этому elefant terrible[6]6
Сорванец (франц.).
[Закрыть] революции, она мнится во взрывах бомб и очистительной крови. Князь Андронников говорил от лица тех, кто хочет сотрудничать во имя демократии в эпоху, когда ничьим усилием не надо пренебрегать, ни одной руки нельзя оттолкнуть – он даже поднял узкую руку с перстнем на безымянном пальце, – когда надо открыть объятия любому, кто готов быть не верноподданным, а гражданином, голосовать за республику и конституцию.
– Мы свидетели того, – говорил Андронников, – как вырастает самодеятельность народа даже в условиях обещанной свободы. Все сословия пришли в движение, люди не ждут, когда их взгляды созреют для партийных платформ; сегодня с них достаточно, что, сходясь в своем цехе, если угодно, и в сословии, они говорят: мы за республику! За российское учредительное собрание! Союзы растут, как сказочный царь Гвидон…
– Ваши союзы растут, как поганки в дождь! – сказал Кулябко-Корецкий, ни в ком не ища одобрения.
– Пожалуй, как грибы при благодатном дожде! – снизошел Андронников. – А кровь, которую хотели бы пролить господа Кулябко-Корецкие, чужда ниве русской демократии. – Он проводил взглядом смачно плюнувшего на пол и уходящего Кулябко-Корецкого и заговорил о том, что все сословия Иркутска охвачены союзами и назрела необходимость в Союзе союзов – едином центре, представляющем все оттенки демократии. Вскользь он упрекнул рабочих депо и типографий в сепаратизме, в нежелании войти в единый союз на началах равного представительства. – Сегодня мы делаем последнюю попытку объединить разрозненные усилия, создать действенный Союз союзов, который возглавит борьбу за демократию.
– За революцию! – подал голос Абросимов. – Руководить надо революционной борьбой, а не демократией, которой нет.
Внезапно по залу раскатился бас тучного чиновника: старчески розовое его лицо и острые глаза азиатского кроя обратились к толпе без всякого расположения.
– Предупреждаю, господа: по долгу присяги его императорскому величеству я воздержусь голосовать за крайние меры. Дешевый кумач над входом, черт знает что! – трубил брезгливый сытый старик. – Нет, господа, так не начинают солидного дела.
– Кто вас прислал?! – озлился всетерпимый Андронников.
– Присылают лакеев, а я де-ле-гат. От служащих Сибирского банка.
Легким движением плеча, заведенными за спину руками, будто старик предлагал мировую, а он – нет, дудки‑с! – князь Андронников показал, что недоволен, но надо терпеть даже и монстра во имя единства российской демократии. Граждане, делегированные в Союз союзов от каждого из союзов, сказал он, должны выйти к столу, занести свои имена в списки – так сложится единый список руководства Союза союзов. Хорошо бы обойтись и одним представителем от каждого из союзов, но время таково, что делегаты могут уезжать по неотложным делам, отправляться в служебные командировки, даже пасть от рук реакции, потому наиболее важные союзы должны быть представлены двумя, а то и тремя делегатами.
Бабушкин стоял в кучке железнодорожных и типографских рабочих. Он уже знал, что в Иркутском комитете РСДРП с недавних пор верховодят меньшевики. В Петербурге, после Лондона, он тоже натолкнулся на яростное сопротивление «экономистов», там, поддержанный Лениным, он повел борьбу против людей с неуловимыми, уклончивыми взглядами, но и те, примирители, не доходили до открытого братания с толстосумами и лабазниками. И время было другое – время собирания сил, размежевания, споров и подготовки будущей революции. Теперь же революция придвинулась, она уже отмечена кровью, она в гудках сибирских паровозов, увозящих калек и запасных с маньчжурского военного театра, в солдатских митингах, в воинственном радикализме двух тысяч иркутских приказчиков. Рабочие создали свой стачечный комитет, согласившись входить только в практические соглашения с либералами: создание Союза союзов – новая попытка подчинить революцию реформизму. Бабушкин жадно вглядывался в разношерстную толпу; велика же должна быть сила народной революции, если она подняла и этих с банковских кресел, от вощеного фигурного паркета и свободно играет каменно-тяжелым мусором.
– Граждане! – воззвал Андронников в разноречивом шуме и гомоне. – Сначала объединимся в Союзе союзов для общих целей российской демократии, а там и шпаги скрестим. – Он заглянул в лежавший перед ним список. – От союза инженеров предлагается два делегата.
Зал откликнулся благодушно: «Утвердить! Принять!», и двое инженеров двинулись к столу, чтобы внести свои имена в список. Сняв фуражку и склонившись к чистому листу бумаги, один из них приготовился писать, когда послышался хриплый голос Абросимова:
– Прошу называть число членов каждого союза; от какого числа мы избираем двух делегатов?
– Это бессмысленно, – возразил Мандельберг. – Мы бы ограничились одним представителем от каждого союза, если бы личная неприкосновенность была гарантирована уже сейчас.
– Нас двадцать девять человек. – Инженер пренебрег поддержкой Мандельберга. – Двадцать девять дипломированных инженеров.
Инженерных союзов оказалось несколько, самый представительный из них – службы пути и тяги. Затем сквозь толпу под одобрительный гул протиснулись два делегата от двадцати трех членов союза казенной и контрольной палат. Они шли к столу канцелярской робкой иноходью, словно и в этом зале, овеваемые ветрами демократии, ощущали свою малость.
– Два делегата от союза дантистов! – Андронников улыбнулся: славная пора наступила, вот благодетельные курьезы демократии, в ней все равны, всякий цех в цене.
Люди почему-то смотрели не на худощавого брюнета, который, бросив на согнутую руку пальто, пробирался к столу, а на зубы сопредседателей: длинные зубы Андронникова, отчетливые, как и все в нем, и разномастные, покривившиеся, немало пострадавшие от зубодеров – Мандельберга.
– От союза лавочников – три делегата…
Под одобрительные выкрики тронулись к бумагам делегаты: церемонно, будто на подмостках, со всею важностью своего распространенного сословия, но и с готовностью засеменить, если потребуют обстоятельства.
Путь им преградил Алексей.
– Как можно, господа! – заговорил он с притворным возмущением. – В городе две тысячи благонамеренных патриотов с патентами – и всего-то три делегата? Что же вы ниже провизоров садитесь?
Лавочники обошли обидчика и двинулись к столу, но расписаться не успели – размахивая бумагой, в зал вбежал телеграфист.
– Из Читы! – крикнул он Мандельбергу еще от порога.
Читинские новости с каждым днем все больше удивляли; народовластие, укреплявшееся там, использоваловь в Иркутске каждым в своих интересах. «Вот как сильна революция, когда рабочий класс организован и не ждет подаяний, а берет власть», – говорили иркутские большевики. «Помилуйте! – возражали меньшевики. – В Чите и не пахнет вооруженным восстанием: только однажды среди всеобщей сумятицы прозвучал выстрел и была отнята жизнь одного рабочего, это был свинец охранки… Читинская революция мирная, как и наша в Иркутске. Съезды, митинги, волеизъявления народа, единство всех демократических сил – вот путь к народовластию!..»
– «…В Чите и Иркутске настроение отличное», – послышался голос Мандельберга, – «все твердо веруют в успех дела. В настоящее время в руках наших телеграф в Харбине, Маньчжурии, Чите, Верхнеудинске, Иркутске, Томске, Красноярске…» – Вот она, карта сибирской революции, могучей, в тысячи верст российской земли, и в центре ее – Иркутск. В такие минуты Мандельбергом овладевало волнение, которого он стеснялся: до юношеского восторга, до потных ладоней, до срывающегося в хрипе голоса. – «В Чите успех на стороне социал-демократической партии, в городе своя милиция, войска перешли на сторону народа».
Телеграмма адресована не одному Иркутскому, а местным стачечным комитетам всей Сибирской дороги. Забайкальцы обещали добывать в больших количествах оружие, организовать переброску оружия в Иркутск и дальше на запад. Иркутск получал особое значение: пока Чита на пути к военному Харбину, пока Томск и Красноярск на западе уверены в Иркутске, им легче держаться, воевать, имея крепкий тыл, непрерывную линию революции по всей Сибирской дороге.
Мандельберг с простодушной обидой в темных глазах смотрел на толпу. Он сдернул очки, которые хороши для чтения, но мешали рассмотреть лица в отдалении. Странно, странно! Почему они не радуются, не кричат «ура»? Ведь все так, все именно так и обстоит: и телеграф в наших руках, и мы смеем получать такие телеграммы, не опасаясь жандармов…
– Не оскверним своих рук оружием! – сказал Андронников непримиримо-резко. – Все бомбы – Кулябко-Корецкому! Себе оставим разум и сплоченность демократических сил. Вооруженную революцию Кутайсов утопит в крови.
– Ему бы штыков побольше, а предлог для крови он найдет! – крикнул кто-то из деповских.
– Мы безоружны, а безоружное восстание – абсурд, – сказал Мандельберг, утишая страсти. – История открыла нам другие пути. Мы будем брать уступку за уступкой: сегодня – телеграф, депо, завтра – типографии, городское самоуправление. Дойдет черед и до казарм, освобожденный народ разрушит их до основания! У нас будет конституция, и мы будем парламентскими социал-демократами, как в Германии. Грозное единение народа вырвет у правителей уступки одну за другой…
– Чтобы потом разом вернуть правителям все! – ровно, будто в размышлении, возразил Бабушкин. – А нам захлебнуться в крови.
– Пусть на них ляжет кровь! – опередил Мандельберга Андронников. – На них, не на нас!
– Они любой погром за доблесть сочтут, а расчет ли нам отдавать свою кровь.
– Кто вы такой? – Мандельберг заметил, что перед ним чужак, пришлый человек. – Вы политический ссыльный?
– Бывший. Эту уступку мы вырвали. – Бабушкин усмехнулся. – Но за то, чтобы нам называться бывшими ссыльными, в России отдано много рабочих жизней.
– Кто же вы такой? – уже осмотрительнее, без вызова спросил Мандельберг.
– Рабочий. Верхоянский сиделец.
– Вот, вот! Как это крепко сидит в вас: привычка к подполью, боязнь собственного имени, боязнь света, когда он уже пролился, когда история требует открытых действий. А мы вышли из подполья…
– С визитными карточками, что ли? – спросил Бабушкин.
– С фотографической карточкой! Мы пригласили мастера, сделаем снимок и напечатаем его в газете; пусть Кутайсов убедится, что все слои против монархии.
– Вы окажете добрую услугу жандармам. По этой фотографии легко будет повыкосить иркутских демократов: поди отопрись, когда на карточке твоя физиономия, шуба, жилет, даже брелоки видны… – Публика пришла в беспокойство, запахивая шинели и шубы, хмурясь от подозрения: уж не ловушка ли это собрание? – Им терять нечего, – Бабушкин показал на железнодорожников. – Их погромщики не забудут, они уже в списках, не в ваших – в других. А вы-то зачем шеи суете?
– Вы хотите восстания? – Выйдя из-за стола, Андронников почти по-дружески приступил к рабочим.
– Надо быть готовыми к восстанию, – сказал Абросимов скучным голосом: он еще не испытывал публично сил в споре с первыми ораторами города, и не ждал добра. – А будем сильны, вооружены и солдаты с нами, авось и уступки будут побольше; к вооруженному не просто подступиться.
– Всё авось да небось! – возликовал Андронников. – За восстание высказываются только те, кому нечего терять!
– При банковском счете в огонь не полезешь! – сказал Алексей.
– Пошлый, низменный аргумент! И русской демократии уже есть что терять: наши первые свободы и завтрашний парламент! – Андронников стоял вплотную к рабочим, хотел заглянуть в самые души, понять, отчего в них поселилась эта ужасная слепота и темное упорство. – Вы что же, думаете, нам не дорога свобода России? Что же мы – спектакль играем? Так невелика же честь: столько лицедеев, – движением руки он обвел большую часть зала, – а вас, зрителей, кучка.
– Это вы допустили сюда кучку, – хмуро ответил Абросимов. – На нас, пожалуй, списка не хватит: нас миллионы.
– Чистейшая демагогия! Миллионы рассеяны по стране, они – народ, а я говорю о спектакле в этом зале. Неужто нам не дорога свобода?
Так далеко Абросимов и в мыслях не заходил; ведь и слово-то свобода они произносили чаще, чем сам Абросимов и его товарищи, и звучало оно у них торжественно, громко, соборно. Ах как они хотели свободных трибун и кафедр, парламентского регламента, ничем не стесненного дыхания, свободы-птицы, чудом спустившейся к ним на руку. Они хотели свободы в дар, но никто в грешном мире не делал таких подарков. Эти мысли медлительно, сердито ворочались в голове Абросимова, но сильных слов не находилось, и в спор вмешался Лебедев:
– Вы лучше нас ответили на свой вопрос: за восстание только те, кому нечего терять! Хорошо сказано: рабочим нечего терять в восстании, кроме своего рабства…
– Кроме своих цепей! – провозгласил Андронников, давая понять, что и он начитан, знаком с этой фразеологией.
– Можно и так: кроме своих цепей, – согласился Лебедев. – Хотя неправда, рабочий может потерять в борьбе жизнь. Но его жизнь и теперь похожа на медленную, мучительную смерть. А ваша жизнь – другая. Я не завидую вашей жизни, но она другая.
– Что же она – позорная или недостойная?! – сила Андронникова в его истовости. – Не вредит ли будущей свободе стремление иных помнить о сословном неравенстве? Когда наступит век свободы, оно умрет само собой.
– Жизнь ваша может быть и благородной и позорной – от человека зависит. Но тот, кто имеет магазины, прииски или заводы, если и вооружится, то чтобы защитить свое добро.
– Мы хотим монархию разрушить, а вы на магазины заритесь?
– Хозяин фабрики боится вооруженного рабочего, а ну как он прогонит царя, а потом захочет и фабрику отнять. А, думаете, адвокат, который на суде защищает хозяина против машиниста, изувеченного паровозом, захочет восстания? Или инженер, который переводит рабочих с поденной оплаты на сдельную в каторжных штольнях, ему-то зачем в рабочую дружину? Он не лучше пристава, только что безоружный. Революция может отнять их доходы, сделать бедняками вроде нас. Солона́ им такая свобода!
Андронников подавлял в себе оскорбленное чувство: конечно, мальчишка не имел в виду его, когда упомянул адвоката. Андронников умел выбирать себе подзащитных, не марать себя грязными делами, его репутация стояла высоко. Разумеется, и лавочнику жаль своей лавчонки, а ты успокой его, растолкуй, что никто не зарится на его прилавок, пусть стоит за ним хоть до второго пришествия. Так нет же, нетерпеливые все погубят, всех застращают, пока не останутся в одиночестве, как голодные волки. Обернулись бы хоть на природу, как мудро все в ней устроено: есть птахи зимующие, а есть отлетающие, разве завидуют они друг другу, северной стуже или африканскому зною?
– Так недолго и дело погубить, молодой человек, – сказал Андронников, сокрушаясь невозможностью внушить славному юноше истину. – Мы готовы на жертвы, и неизвестно, чья жертва больше, кто больше теряет, голосуя за свободу. А вам не терпится привести всех к алтарю социализма, которого еще нет, нет ни в России, ни в других, цивилизованных странах…
Поднялся изрядный шум, обиженная публика роптала, убеждаясь в гордыне и несправедливости рабочих. В либерале – просвещенном или кухонном, по неосторожности, – пробуждалась гордость: он так самоотреченно вошел в здание, осененное кумачом, бросил вызов жандармскому ротмистру, самому Кутайсову, перед которым привык трепетать, – ему ли слушать попреки неумытых, с въевшимися в руки и лица угольной пылью или типографским свинцом, рабочих, а тем более своих же приказчиков, бездельников, мечтающих разделить по справедливости чужое добро! И публика закричала, что хватит болтовни, у всех дела, служба, семья; Мандельберг потрясал колокольчиком.
– От союза рабочих иркутского депо, – объявил он, когда зал стих, – четыре делегата. Самая высокая квота, но не по числу рабочих, а потому, что железнодорожники часто в отлучке.
Зал неохотно давал эту поблажку, не взяли ее и рабочие.
– Требуем не меньше десяти делегатов, – сказал Абросимов. – В нашем союзе за тысячу человек, выйдет по одному от ста рабочих – не слишком жирно.
– Четырех! Четырех! – разоралась публика.
– Хватит четырех!
– Они и вчетвером изведут нас проповедями!
Никто из рабочих не тронулся с места.
– Я напоминаю: мы формируем представительный орган с равными для всех возможностями. – Мандельберг устал от несогласия этих упрямцев и в комитете РСДРП. Ведь вот зовут себя большевиками, а на съезде партии никого из них не было, о съезде знают понаслышке! Да? И о Марксе едва ли не понаслышке, и откуда набрались упрямства. – Что ж, ваша воля. От торгово-промышленного союза – два делегата.
– У них в союзе и десятка не наберется!
– Девятнадцать нас! – огрызнулся владелец типографии Коковин, с виду больше похожий на одичавшего в тайге целовальника, человек богатый, успешнее других соперничавший с губернской типографией. – Мы крепко на ногах стоим: при царе жили и при конституции, даст бог, не помрем.
Собрание жалко влачилось, распадалось на кучки раздраженных людей, озиравшихся, туда ли они попали, действительно ли нужно было им сойтись в одном зале с людьми крайности, чья худоба и одежда и без слов просили о лавочном кредите?
– Выходит, и в революцию сто рабочих не стоят одного толстосума! По какой же это правде? – потерял наконец терпение Абросимов и обратился к старику, служащему Сибирского банка: – Да на что она тебе, революция, любезный?
– Па-а-пра-шу не тыкать!
– Вы дезертируете! – выкрикнул в гневе Андронников.
– Они в пасынки к вам не пойдут! – Бабушкин ощутил волнение и азарт не наблюдателя, а участника событий. Все, все было знакомо, все пережито за годы борьбы и скитаний; и этот барский взгляд свысока, и несчастное желание говорунов увести за собой в болото людей действия, задушить худосочными теориями ростки жизни и то, что златоусты эти – часто люди искренние до слез, до искупительных воплей, верящие в спасительность своей тактики. Повидал он и рабочих с умной головой, совестливых, на первых порах терявшихся в диспутах с прорицателями: и сам он прошел этот путь, переделываясь из числительного молодого человека в социалиста. – Рабочие делегаты образовали свой стачечный комитет, и они не пойдут в подчинение буржуазному Союзу союзов…
– У нас не будет подчиненных и правящих! – прервал его Андронников.
– Но голосования будут? – спросил Бабушкин. – А голосование, значит, и подчинение вашему большинству. Вот вам и кабала и рабство.
– Кто вы такой, что говорите от имени наших рабочих! – возмутился Мандельберг.
– Один из рабочих России.
– Раскол! – выкрикнул Андронников. – История не простит вам этого! Я буду свидетельствовать на суде истории!
– У вас свое место и на суде истории и в суде присяжных, – возразил Бабушкин, и негромкость непривычного им, глуховатого голоса, обдуманность спокойных слов лучше крика заставили публику прислушаться. – Вы адвокат, говорят, с хорошим именем, выступите легальным защитником на политическом процессе, если с ними, – он кивнул на рабочих, – не разделаются без суда.








