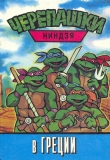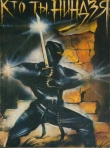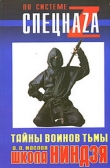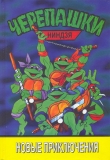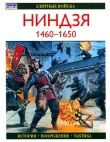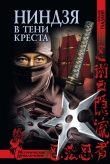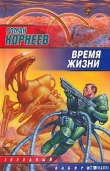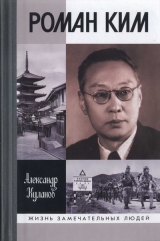
Текст книги "Роман Ким"
Автор книги: Александр Куланов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
Глава 18
ПРИКЛЮЧЕНЕЦ
Если Роман Ким и был в Японии после войны, то самое вероятное время его нахождения там – 1946-й – начало 1947 года. Мы знаем, что он встретился с Окада Ёсико в декабре 1947 года[404]404
В статье Кимура Хироси указано «в феврале». Вероятно, это опечатка: в современном японском языке февраль – 2-й месяц, а декабрь – 12-й.
[Закрыть], но и шестью месяцами ранее он тоже был в Москве.
Еще в мае в столице состоялось заседание секции приключенческого жанра Союза писателей СССР. Ким был приглашен, хотя в СП не состоял. И не просто приглашен, а выступил с докладом по одной из главных тем заседания. Уже началась холодная война, уже всем стало ясно, кто́ новый главный противник для Советского Союза, и «в разрезе», как тогда говорили, приключенческой литературы возникла проблема. Книги о Шерлоке Холмсе и Нате Пинкертоне, многие другие детективы – все они автоматически становились теперь образчиками «вражеской» – английской и американской литературы. Необходимо было найти им замену, как сказали бы сегодня, «разработать стратегию импортозамещения» острого, интеллектуального, но увлекательного западного чтива идеологически выдержанным, но не менее интересным советским продуктом творческой мысли.
У советских писателей было особое положение. Еще в довоенные годы они привыкли писать, что велят, а не что хочется. Цена привычки: сотни расстрелянных, уничтоженных или морально раздавленных в лагерях литераторов. А те, кто избежал расстрельного полигона или тюрьмы, как, например, Михаил Булгаков, жили в обстановке травли, в нищете и страхе за близких. Для управления «писательским коллективом» – немыслимая на Западе формулировка – в 1934 году по заданию Сталина был создан Союз писателей. Еще даже до появления этой организации слишком многие писатели в массе своей – и мало заметные, как Григорий Гаузнер, и такие мэтры литературного мира, как Максим Горький или Алексей Толстой, – были настолько послушны воле вождя, что покорно участвовали в, мягко говоря, сомнительных акциях вроде воспевания «освобождающего труда» заключенных концлагерей на строительстве Беломорско-Балтийского канала. С появлением же организации лишь очень немногие смогли оставить свое имя не запятнанным сотрудничеством с преступной властью, как, например, Михаил Зощенко, задавленный той же властью уже после войны.
С точки зрения читательского рынка, одна из слабых сторон советской литературы предвоенных лет – почти полное отсутствие детективной составляющей. Об этом было трудно и опасно писать, ведь если верить газетам, шпионы были везде и шпионом мог оказаться каждый. А политические векторы Советского государства менялись настолько стремительно и кардинально, что даже чекисты и судьи не успевали ориентироваться в этом калейдоскопе. Например, на судебном процессе по результатам операции «Мечтатели», направленной против японской разведки на Дальнем Востоке, подсудимым запрещали произносить слово «Япония», когда они рассказывали, на какую страну им пришлось работать. Люди, которых через несколько часов должны были расстрелять, в зале суда, постоянно сбиваясь, произносили вместо предписанного: «некая иностранная держава» совершенно нелепое: «некая иностранная японская держава» или «некая японская военная миссия»[405]405
Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 207.
[Закрыть]. Но этих людей мало кто слышал на закрытом заседании сибирского трибунала. А как быть писателям, чьи книги выходили тиражами в сотни тысяч экземпляров? Как было писать про Германию, которая несколько лет считалась одним из основных врагов Советского Союза, а затем, после заключения пакта Молотова – Риббентропа, сразу стала нашим основным союзником? А какой политический детектив без иностранного шпиона? Такой, с позволения сказать, сюжет Агате Кристи или Артуру Конан Дойлю и в страшном сне не мог бы привидиться. Неудивительно, что в столь быстроменяющейся ситуации вовремя сориентироваться способны были только газетчики. Приключенческая отрасль была развита слабо, и среди крупных довоенных произведений, затрагивающих тему иностранного шпионажа, на память приходит разве что роман Григория Адамова «Тайна двух океанов», посвященный, кстати говоря, борьбе именно с японскими разведчиками и диверсантами, да, пожалуй, еще «Ошибка инженера Кочина» – повесть Льва Шейнина, экранизированная в 1939 году (в роли следователя НКВД снялся блистательный Михаил Жаров!), и без указания на страну, в пользу которой работали шпионы.
После войны мировой, с началом войны холодной настало самое время пером и бумагой нанести удар по западному империализму – так считали участники заседания 1947 года, и это мнение протесту и обжалованию не подлежало. Не случайно друг Кима Лев Славин сказал о нем: «По внешним признакам забрили в строй приключенцев»[406]406
Славин Л. И. Указ. соч. С. 336.
[Закрыть]. Как забривали в солдаты, так и писателей рекрутировали в идеологическую армию Страны Советов. Но выступавший на заседании Роман Ким, вероятно, был счастлив такой мобилизации, рад возможности снова оказаться в строю. Его, только полтора года назад вышедшего из тюрьмы, не бывшего ко времени доклада членом писательской организации, не издавшего ни одной книги на обсуждаемую тему, позвали (интересно кто?), чтобы он рассказал о своем видении приключенческой литературы главного противника – Соединенных Штатов Америки. И пусть он еще не стал настоящим писателем, только подбирался в своих замыслах к первому серьезному детективу, которым станет вышедшая через четыре года «Тетрадь, найденная в Сунчоне», ему уже тогда было что сказать.
Во-первых, он вырос, был воспитан на японской литературе, в которой, в отличие от западного и даже от советского мира, написание детективов не было зазорным, не считалось «низким жанром». Близкий Киму Акутагава Рюносукэ создавал вещи, которые нельзя было назвать детективами, как нельзя назвать детективом «Преступление и наказание» Достоевского, но многие из произведений знаменитого японца, включая переведенный Кимом на русский язык рассказ «В чаще», – вещи, несомненно, остросюжетные. Почти ровесник Кима, родившийся в 1894 году в префектуре Миэ – родине кланов ниндзя, писатель Хираи Таро к 1947 году уже стал живым классиком японской остросюжетной прозы. Как и Ким, он восхищался Эдгаром Алланом По. Больше того, он взял в его честь псевдоним – произнесенное с японским акцентом имя любимого американского писателя: Эдогава Рампо. Как раз когда в Москве определяли направления развития детективного жанра, Эдогава создал в Токио Клуб японских детективных писателей (позже Рампо и Роман Николаевич станут друзьями по переписке – им было что обсудить).
Во-вторых, в период тесного общения с Борисом Пильняком Ким уже писал о японских детективах в статье «О современной японской литературе», изданной ВОКСом в 1926 году. Писал о том, что в Японии «ружей кирпичом не чистят» – не разделяют писателей на авторов низких и высоких жанров, потому что читателю нужны и те и другие. А писателям нужны аудитория и деньги. Ким уже тогда говорил о том, что высокопрофессиональные литераторы могут себе позволить сочинять беллетристику для популярных журналов – их уровень мастерства и репутация только выиграют от временной смены жанра. Умение сочетать высокий слог с захватывающим сюжетом не каждому дано. Кто так может, тот и есть – настоящий писатель.
Наконец, Ким уже не был лишь японоведом. За последние 20 лет, восемь из которых он провел в тюрьме, горизонты его литературных интересов расширились до идеальной формы – сферы, охватившей всю писательскую планету. Поэтому, говоря об американской литературе, интеллектуал и полиглот Роман Николаевич рассказывал будущим коллегам, многие из которых, несмотря на имеющиеся у них писательские звания и премии, были настоящими питомцами советских писательских организаций 1930–1940-х годов – плохо образованными и слабо эрудированными, – о литературе не только японской и американской. Он говорил о литературе мировой, подводя под свой доклад всем понятную пропагандистскую основу: «Виднейшие мастера художественной прозы параллельно пишут детективные произведения. Их серьезной репутации это не наносит никакого вреда. Уже по одному тому, что детективная литература входит в число полноправных жанров художественной литературы, ее нельзя игнорировать. Но прежде всего она заслуживает внимания, потому что является литературой, имеющей массового читателя»[407]407
Просветов И. В. Указ. соч. С. 189–191.
[Закрыть].
Именно поэтому, говорил докладчик, Америка – ГП («главный противник»), как уже начали именовать ее в своих закрытых документах бывшие соратники Романа Николаевича по госбезопасности, правильно понимает важность детективной литературы. Америка – «великая федеративная республика… ценит своих писателей, ценит в миллион экземпляров». Это справедливо, считал Ким, ведь «произведения американских детективных писателей с точки зрения литературной техники стоят на уровне художественной литературы». Рассказывая об этих писателях, он назвал коммуниста, позже, в годы печально известной «охоты на ведьм», попавшего в тюрьму Дэшила Хэммета, Эллери Куина (он фигурирует и в «Японских пейзажах» Кима, но на самом деле это псевдоним двух братьев Ли), эксцентричную, но безумно талантливую пьянчужку Крейг Райс (Джорджианна Рендольф), не менее яркого Рэймонда Чандлера и многих других восходящих звезд американского небосклона (многие, впрочем, поднялись туда ненадолго).
«Сейчас Америка ведет идеологическое наступление на весь мир, – вещал с трибуны Роман Николаевич, – “Тек” сейчас – одна из главных статей литературного экспорта Америки. “Тек” и кино – весьма эффективное средство завоевания рынков, их занимательность и доходчивость используются для духовного закабаления масс». «Тек» – это детективы в широком понимании этого слова. Духоподъемная патриотическая речь, разумеется, была обращена к «светлым чувствам» собравшихся, которым теперь предстояло дать «асимметричный ответ» американской идеологической экспансии, противопоставить пустенькому, хотя и щекочущему нервы – «духзахватывающему сюжету» высокодуховный советский детектив. В его центре должна будет располагаться, конечно, фигура не супермена с толстой «черчиллевской» сигарой в презрительно опущенном уголке рта, а затянутого в портупею советского героя на манер невозмутимого, проницательного и высококультурного «майора Пронина», тоже, к слову сказать, персонажа, родившегося еще до войны – в 1939 году (автор – Лев Овалов (Шаповалов) с 1941 по 1956 год сидел по той же 58-й – политической – статье, что и Ким)[408]408
В том же 1941 году Виктор Шкловский неосмотрительно похвалил Овалова в «Огоньке» (№ 18): «Советский детектив у нас долго не удавался потому, что люди, которые хотели его создать, шли по пути Конан Дойла. Они копировали занимательность сюжета. Между тем можно идти по линии Вольтера и еще больше – по линии Пушкина. Надо было внести в произведение моральный элемент… Л. Овалов напечатал повесть “Рассказы майора Пронина”. Ему удалось создать образ терпеливого, смелого, изобретательного майора государственной безопасности Ивана Николаевича Пронина… Жанр создается у нас на глазах… Книга призывает советских людей быть бдительными. Она учит хранить военную тайну, быть всегда начеку».
[Закрыть].
Ситуация на международном книжном рынке в то время была очевидно выгодной для Советского Союза – победа над Германией сулила торжество идей коммунизма во всём мире уже в самом скором времени. И даже страхи, которые питали западные страны перед всемирной революцией, могли служить хорошим стимулом для интереса к советскому «теку», для увеличения продаж и, как следствие, такой же всемирной победы советской детективной идеи. «В японском журнале в прошлом году – в самом архиреакционном журнале, где печатаются исключительно американские писатели (детективные и другие) – был напечатан рассказ Ефремова, и это очень характерно. Китайские и японские рынки сейчас проявляют большой интерес к советской литературе… Интерес показывает, что от нас ждут продукцию приключенческого сектора советской литературы», – говорил Роман Ким, не уточняя, где он этот журнал читал и что это было за издание вообще. В завершение доклада он напомнил о подрастающем поколении: всё ради них, ради молодых – чтение должно быть увлекательным и несущим полезную нагрузку. Детектив как способ интеллектуальной гимнастики и как средство воспитания высокой коммунистической морали – вот что надо советской молодежи.
Ведущий заседание секретарь правления Союза писателей СССР Лев Матвеевич Субоцкий – в прошлом завотделом литературы и искусства главной советской газеты «Правда» и одновременно прокурор Главной военной прокуратуры, отправивший на расстрел десятки ни в чем не повинных людей, а потом сам севший на два года (всего!), доклад Кима одобрил. Если советский детектив ведет к «познанию жизни и воспитанию народа» – так тому и быть, пусть ведет. Фантаст-очеркист (была и такая литературная специальность) из Детгиза Кирилл Константинович Андреев прокурора-редактора поддержал: «Жанр романа тайн может быть возрожден и развит».
Доклад Романа Николаевича произвел благожелательное впечатление на секретариат. Через пять месяцев, в октябре 1947 года, Ким был принят в союз – без книг («Три дома напротив…» не в счет) и с минимальным количеством публикаций. Первое произведение новобранца – критический и не слишком интересный памфлет о пороках штатовской литературы «Путешествие на американский Парнас» появился в первом номере «Нового мира» за 1948 год.
«Тетрадь, найденная в Сунчоне» впервые вышла в майском номере журнала «Новый мир» за 1951 год. Значит, окончена она была вряд ли позднее конца 1950-го. Сразу после выхода повесть становится известна японцам. Кому именно – непонятно, но не исключено, что это произошло с помощью Отакэ Хирокити, сидевшего во время войны в тюрьме за свои левые и русофильские взгляды, а теперь освобожденного. Каким-то образом повесть очутилась в издательстве «Гогацу сёбо» в руках переводчика Такаги Хидэто[409]409
Обнаружено В. А. Бушмакиным.
[Закрыть]. Интересно и то, что в ежегодно издаваемом Союзом писателей СССР списке переводов советских авторов на иностранные языки этой книги Романа Кима нет вообще. Она попала в Японию тайным, контрабандным путем. Для советского времени, да еще в отношении автора – вчерашнего заключенного, это был неслыханный поступок. К сожалению, в маленьком токийском издательстве «Гогацу сёбо», существующем и сегодня, не сохранились архивы тех лет, и ныне работающие сотрудники ничего не знают о Такаги. Неизвестно даже, настоящее это имя или псевдоним. В пользу последнего соображения то, что никаких упоминаний о таком переводчике в истории японской литературы нет, за исключением 1952 года, когда была издана книга Кима. И в этом же году в переводе Такаги Хидэто, и в том же «Гогацу сёбо», вышли еще две книги – других советских авторов.
Мы уже знакомы с довольно странным предисловием к «Тетради…» и говорили, что книга Кима в японском переводе получила тяжеловесное название «Сэппуку сита камботати ва икитэ иру», то есть «Штабные офицеры, совершившие сэппуку, живы». Сэппуку – это привычное уже нам слово «харакири». По цензурным соображениям книгу сократили примерно на четверть. Полный ее вариант, в другом переводе, появился в Японии лишь в 1976 году, уже после смерти автора. К тому же в руки Такаги Хидэто попала версия книги, известная нам только по первым двум изданиям. Во всяком случае, в предисловии он упоминает сознательные или несознательные ошибки Кима, связанные с географическими названиями. Этих ошибок в советских изданиях после 1952 года нет. Значит, Ким их исправил уже после того, как текст книги попал в Японию. Наконец, в финале предисловия переводчик сообщает о том, что Ким написал книгу о югославском лидере Иосипе Броз Тито. Но единственным романом о Тито, написанным и изданным в СССР, была «Югославская трагедия» Ореста Мальцева, вышедшая в 1951 году.
Несмотря на восторженные отзывы переводчика, «Штабные офицеры…» не произвели фурор в Токио, хотя тираж и был распродан. Судьба «Тетради…» в Советском Союзе сложилась счастливее. В июле 1951 года, когда вышла рецензия в «Правде» (ее автором был фронтовик, Герой Советского Союза Сергей Борзенко), Роман Николаевич отдыхал в Доме творчества писателей в Юрмале. 30 июля в письме Анатолию Тарасенкову – заместителю главного редактора «Нового мира», где и вышла повесть, он рассказывал о том, как сначала сильно испугался, узнав, что о книге написали в «Правде», а затем стал новой звездой советской литературы: «В нашей комнате уже толпились люди, жали руки моей жене, потом кинулись ко мне, директор Дома творчества Бауман всунул мне в руки роскошный букет – и начался суматошный день, один из самых радостных в моей жизни. Жена сбегала на вокзал, купила три номера “Правды” и убедилась, что во всех трех номерах текст статьи одинаков»[410]410
РГАЛИ. Ф. 2811. Оп. 1.Д. 241.
[Закрыть]. Рецензия «Правды» была командой: если она была отрицательной, автора немедленно сживали со свету, как это было в случае с Зощенко примерно в те же годы. Если же рецензия выходила хвалебная, автор книги в мгновение ока достигал вершин успеха сталинской эпохи. Справедливости ради надо сказать, что «Тетрадь…» была действительно хороша: правдива в деталях, увлекательна по сюжету и достаточно легка для восприятия. Книгу высоко оценили и массовый читатель, и специалисты. Военный переводчик японского языка Аркадий Стругацкий в начале декабря 1952 года писал брату Борису с Камчатки: «Да, непременно прочитай “Тетрадь, найденную в Сунчоне” Романа Кима. Это вещь!»[411]411
Неизвестные Стругацкие. Письма. Рабочие дневники. 1942–1962 гг. М., 2009.
[Закрыть] Братья еще только задумывались о литературной карьере, до их первой книги оставалось еще семь лет, но одним из ориентиров для них в понимании того, что такое «настоящая вещь», стало произведение Романа Кима.
Зимой 1953 года Анатолий Кузьмич Тарасенков уволился из «Нового мира» из-за политического давления на редакцию – в журнале публиковали слишком много «неблагонадежных» поэтов. Возможно поэтому Роман Николаевич не смог, как обещал, быстро подготовить «новую вещь – листов на 7–8»[412]412
РГАЛИ. Ф. 2811. Оп. 1.Д. 241.
[Закрыть]. Очередная книга, она называлась «Девушка из Хиросимы», вышла только в августе – сентябре 1954 года, и не в «Новом мире», а в «Октябре». Повесть получилась «проходной» – сегодня она уже практически забыта. Скорее всего, это произошло из-за переизбытка, не без ущерба для художественного достоинства, идеологических мотивов. В 1954 году трагедия Хиросимы и Нагасаки была близка и болезненна, но сконцентрированный вокруг этой темы сюжет оказался слишком уж злободневным, журнальным. Роман Николаевич был, безусловно, блестящим журналистом, но мало кто из представителей этой профессии остался в памяти потомков в качестве самобытных писателей (самое яркое исключение – Владимир Гиляровский).
События в «Девушке из Хиросимы» развиваются предсказуемо до шаблонности, несмотря на их очевидную правдоподобность: девочка Сумико выживает после атомной бомбардировки ее родного города 6 августа 1945 года. Поступив работать на фабрику, она становится членом подпольной коммунистической организации, естественно, борющейся за мир во всём мире и против американских баз – в 1950-х годах это было широко распространенным явлением в Японии. В организацию внедрен провокатор, и Сумико участвует в его выслеживании и разоблачении. Всё очень реалистично, но не всегда реалистичность – это именно то, что нужно остросюжетному роману.
Самое удивительное, что в повести есть и очевидная сегодня фантастика, но эта фантастика исторична и относится не к самой логике развития событий, а к теме, где Роман Ким постарался раскрыть свои таланты и знание японской культуры в полной мере. И всё же, читая сегодня эти строки, поневоле задумываешься, где автор почерпнул знания, чтобы составить вот такое, например, описание искусства борьбы: «Способы защиты в карате называются укэ. Защищаться от ударов врага следует не только путем ухода – отпрыгивания в стороны и назад, не только путем уклона и нырка – движениями туловища в стороны и наклоном вперед и не только парирующими движениями рук и ног – подставкой и отбивом, но и другими приемами, каких нет в дзюдзюцу и боксе, например, прыжками вверх. Каждый, кто изучает карате, должен как следует отработать технику прыжка. Настоящим мастером карате считается только тот, кто может во время боя подпрыгивать так, чтобы попадать ногой в грудь врага.
В тот момент, когда враг наносит удар, его вышагивающая нога отрывается от земли и тело теряет свою устойчивость из-за перемещения веса. В это мгновение враг неизбежно раскрывает ту или иную часть тела, и этим надо пользоваться для нанесения стремительного, сшибающего с ног и выбивающего дух контрудара. Главное в карате – усвоить технику молниеносного перехода от обороны к нападению.
Особенно важно знать карате женщинам. По части голой силы женщины уступают мужчинам. Но в карате дело решает не голая сила. Побеждает тот, на чьей стороне не только сила, но и умение. Важную роль играют проворство, быстрота соображения и хитрость, например, умение делать ложные камаэ и такие движения, которые вводят врага в заблуждение, и он получает удар с той стороны, с какой не мог ожидать. Этими способностями природа наделила женщин в достаточной степени. Недаром в числе сильнейших мастеров карате в прошлом столетии была молоденькая девушка Итона Цуру. Слава о ней гремела по всему королевству Рюкю. Она швыряла на землю всех мужчин подряд. Единственный, кого она не смогла одолеть, был Мацумура, лучший мастер того времени. Их схватка кончилась ничьей. Он влюбился в нее, они стали мужем и женой, и когда между ними иногда случались ссоры, он выходил из дому и отводил душу на прохожих».
«Сумико боролась в третьей паре. Ее партнершей была Мацуко, рослая, скуластая девица, левша. Против левши требовалось особое камаэ. В ответ на попытку Мацуко схватить за пояс Сумико сделала отбив правой рукой и отпрыгнула вбок, но, получив подсечку, пошатнулась; Мацуко поймала ее руку и закрутила. Сумико ударила локтем назад и вырвалась, но тут же, не успев перенести вес на левую опорную ногу, получила кекоми – удар ногой – и растянулась на полу…
Мацуко сразу же перешла в наступление. Сделала обманное движение и, выбросив левую руку, вцепилась в пояс Сумико и подтянула ее к себе. Сумико хотела защититься встречным коленным ударом, но было поздно, ее взяли на один из приемов нагэ: приподняли, как только ее ноги оторвались от пола, перекинули движением бедра, – она грохнулась на спину, не успев даже ударить рукой о пол, чтобы смягчить падение».
Необходимость помещения в текст длинного и довольно занудного описания техники тогда еще не известного в СССР карате и вообще приемов борьбы можно объяснить тем, что бывший Кин Кирю по кличке Пушечное ядро всю жизнь интересовался японскими единоборствами и хотел увлечь ими читателя. Не было случайным знакомство Кима с первым русским дзюдоистом и основателем борьбы самбо Василием Ощепковым. В ноябре 1936 года Ким просил переводчика советского посольства в Токио Александра Клётного привезти ему из Японии книги по ниндзюцу – «искусству синоби», как он назвал их на следствии, и расшифровал: «…то есть кодексу старой японской разведки, поскольку собирался писать по этому вопросу целый трактат»[413]413
АСД T. 1. Л. 235.
[Закрыть]. При этом все тексты, в которых Роман Николаевич постарался изобразить поединки, вне зависимости от вида борьбы, выглядят весьма странно и бесконечно далеки от жизненных реалий. Больше всего они похожи на попытку вербализации, литературного описания увиденных им в учебниках и свитках мокуроку и без того не слишком жизнеспособных картинок в стиле «лягушки демонстрируют приемы дзюдзюцу». В них, безусловно, присутствует таинственный восточный колорит, и они способны произвести сильное впечатление: положительное – на дилетантов и неофитов, противоположное – на искушенных в японской борьбе людей. Если бы книги Романа Николаевича кто-то попытался бы экранизировать (а ни одной такой попытки до сих пор предпринято не было), то подобное описание поединков поставило бы режиссера в тупик. В результате мы увидели бы не то, о чем пытался рассказать автор, а то, что смог снять режиссер (как в фильме о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды»), ибо такое – невнятное, противоречивое и далекое от реального единоборства описание оставляет бесконечное и открытое поле для экспериментов.
«Девушка из Хиросимы» в этом смысле – не исключение. В «Тетради, найденной в Сунчоне» Роман Ким дает описание фехтовальной техники. Учитывая реалии – место и время событий, – герои должны были использовать военные мечи – гунто и соответствующую оружию, слегка упрощенную технику владения мечом. Однако снова происходит нечто совершенно фантастическое:
«Муссолини показал пальцем на рыжеватого парня:
– А ну-ка. Покажи на нем свой класс. Одним ударом надвое.
Дзинтан кивнул мне:
– Покажи ты сперва.
Я засмеялся:
– Нет, одним ударом не умею. Несколько раз пробовал на острове Макин, но ничего не получалось, только портил материал.
– Вы, наверно, били горизонтально, – сказал Муссолини. – ударом “полет ласточки”. Это очень красивый, но трудный удар. Лучше рубить сверху наискось, от плеча к бедру, ударом “опускание журавля”.
Флотский лейтенант, стоявший рядом с Дзинтаном, счел нужным вставить замечание:
– А самый чистый удар – это рубить от макушки до копчика на две равные половинки, в стиле Миямото Мусаси…»
Описанными Кимом приемами совершенно невозможно разрубить человека одним движением так, чтобы обнажилась печень и ее можно было бы достать руками, а именно этого пытались добиться японские фехтовальщики, чтобы исполнить обряд поедания сырой печени поверженного противника и набраться таким образом дополнительной храбрости и силы для боя. Удар «полет ласточки» существует в реальности, но его никак нельзя назвать горизонтальным. По геометрии выполнения он больше похож на тот, что упоминается в диалоге как «опускание журавля», и в современном японском фехтовании называется «монашеская перевязь», да это и не так важно. Значительно важнее то, что японским мечом, в том числе гунто, вообще невозможно за один раз вертикально располовинить человека по той простой причине, что таковы особенности этого оружия. Японский меч не рубит, а режет. Быстро, эффективно, но режет мясо, а не грудину с ребрами и позвоночник – у него другие задачи, под них он и заточен. Разрубить человека от макушки до головы, как предлагал это сделать флотский лейтенант, «мог» не Миямото Мусаси, а другой фольклорный герой из другой страны – Евпатий Коловрат. Но во фразах, произнесенных лейтенантом и офицером по кличке Муссолини, скрыт ответ на происхождение всей сцены. Удар «полет ласточки» – любимый прием Сасаки Кодзиро, главного противника Миямото Мусаси. Сам же легендарный мастер фехтования действительно легендарный – как и его стиль владения мечом. Именно в 1930-е годы, перед самой войной, когда Роман Ким так активно интересовался японскими единоборствами, в Токио с необыкновенным успехом издавались и продавались книги Ёсикава Эвдзи, ныне объединенные и выпущенные на русском языке под названием «Десять меченосцев». В этих книгах как раз и описывались, и весьма красочно, приключения Миямото Мусаси, его былинные подвиги, невероятная сила и мастерство во владении мечом. Похоже, что Роман Николаевич Ким произведения Ёсикава внимательно прочел, принял на веру, ибо проконсультироваться ему было негде и не с кем, а затем элементы художественного вымысла японского автора вставил и в свою книгу.
С «Тетради, найденной в Сунчоне» и «Девушки из Хиросимы» началась быстрорастущая слава Романа Кима как маститого писателя, приключенца, мэтра советского детективного жанра. В советский период писатели были личностями уважаемыми, а отношение к ним носило оттенок сакрального преклонения. Роман Николаевич много работал, а блага, предоставляемые Союзом писателей популярным авторам, принимал с удовольствием, направляя их на поддержание хорошей творческой формы. Наряду с отдыхом в санаториях и домах творчества, он с радостью пользовался представлявшимися ему теперь возможностями посмотреть мир. В реалиях 1950–1960-х годов XX века имевшие такую привилегию писатели действительно были почти небожителями. Ким, еще не реабилитированный, с неснятой судимостью, по официальным документам фактически уголовник (сидел-то по хозяйственной статье!) должен был чувствовать свою особую значимость, когда оказался в списке «выездных писателей» – тех, кого отправляли за рубеж в «творческие командировки». Ким ездил и раньше, но то было совсем другое. В анкете Союза писателей СССР, заполненной им 23 апреля 1952 года, указано, что он «неоднократно выезжал за границу по служебной линии во время работы в органах ОГПУ – НКВД». Теперь же всё волшебным образом изменилось. Командировки стали творческими, а бывший спецагент – знаменитым писателем.
Первая из командировок в новом качестве состоялась в 1956 году – в Китай. Результатом поездки стало создание повести «Агент специального назначения». Начиная от названия, которое, пусть и не использовалось в Советском Союзе, но наиболее точно определяло довоенную должность старшего оперуполномоченного Кима, всё в книге имеет аллюзии на разные эпизоды биографии Романа Николаевича. Главный герой – молодой и прокоммунистически настроенный китаец Ян известен как большой любитель детективов. Относится он к ним не как к оружию против времени, не как к приятному, но бессмысленному по сути чтиву, а «по-кимовски». Ян детективы пристрастно и тщательно изучает, ибо уверен, что они учат наблюдательности и развивают логику, совершенствуют аналитическое мышление и могут пригодиться в подпольной работе. Рядом с Яном неожиданно происходит убийство (а какой настоящий детектив без него?) богатого беглеца из Китая, что сразу наводит на мысли об отце Романа Кима, ушедшем когда-то с капиталами вана Коджона в Россию. Ну а дальше начинается цепь таинственных событий, расследований, противостояний разведки и контрразведки – словом, всего того, что так хорошо знал и к чему привык Ким и что оставалось только перенести на богатую экзотикой китайскую почву.
Вторая поездка состоялась в не менее удивительное, чем Китай, место: в Африку. Было бы странно, если бы и здесь обошлось без путаницы. В деле Кима в Союзе писателей отмечено, что в 1958 году он в составе делегации побывал в Эфиопии[414]414
РГАЛИ. Ф. 2809. Оп. 1. Д. 173.
[Закрыть]. И действительно, с этой страной тогда необыкновенно бурно выстраивались культурные отношения. Но вот Кимура Хироси, лично познакомившийся с Кимом в том же 1958-м, получал от него «приветы из Африки» и позже: «Новый 1961 год Ким-сан встретил в египетском Каире и послал мне письмо на бланке гостиницы “Рас” в эфиопской Аддис-Абебе. До того он путешествовал в группе писателей по Европе и Америке, но, кажется, Африка ему понравилась особенно. В письме было написано: “Ко мне попали интересные материалы, и я хочу написать произведение об Африке”. На следующий год в Москве я получил в подарок старинного стиля сосуд, изготовленный в деревне, где родились предки Пушкина»[415]415
См. Приложение 2.
[Закрыть]. По какой «линии» Ким ездил в Египет, непонятно. Да и ездил ли? Может быть, снова Кимура Хироси что-то напутал? И почему из Каира Роман Николаевич отправил ему письмо на старом бланке эфиопского отеля «Рас Амба» (он и сегодня существует)? Или он был и в Эфиопии, и в Каире? Невероятно для советского писателя в 1958 году. Но… не для Кима. Возможно, именно в это время он приобрел себе новую курительную трубку. Вообще, по воспоминаниям А. В. Федорова, курил он мало, и трубка для Романа Николаевича скорее элемент имиджа писателя-детективщика, немедленно вызывающего ассоциации с Шерлоком Холмсом и комиссаром Мегрэ. Трубка недорогая, простенькая, производства фабрики «Главтабак», что находилась когда-то недалеко от Белорусского вокзала в Москве. На чубуке таких трубок ставилось соответствующее клеймо на русском языке. Маститый приключенец Роман Николаевич Ким, получив карт-бланш на поездки за рубеж, очень не хотел, чтобы в нем признавали гостя из-за «железного занавеса», а потому перочинным ножом (это видно по многочисленным неловким срезам) русские буквы с чубука срезал. С этого дня «трубка русского Сименона» сопровождала его до конца дней – и дома, и в поездках.