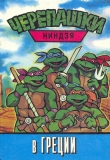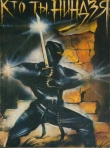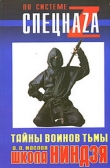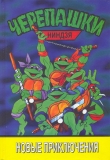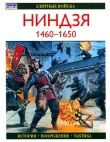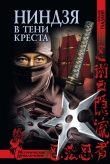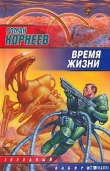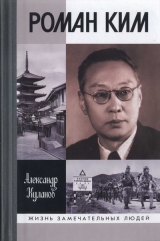
Текст книги "Роман Ким"
Автор книги: Александр Куланов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
Глава 11
КОНОВОД
Полковник КГБ А., еще заставший Романа Николаевича живым, будучи знаком с историей ряда операций, проведенных будущим писателем против японского посольства в Москве, рассказал мне, что Кима на Лубянке за глаза называли «коноводом». Заметив мое недоумение, ветеран японского отдела контрразведки КГБ пояснил: «У него была особая специализация – он руководил агентами-женщинами, соблазнявшими японских дипломатов и военных. Японского языка эти дамы не знали, но прекрасно говорили на европейских. Большинство были из хороших семей, часто из дворянских, получили отличное образование и воспитание. В советской Москве они нередко подрабатывали преподаванием нужных дипломатам языков – английского, французского, немецкого. В реалиях голодной и холодной столицы такое учительство нередко было связано и с оказанием услуг интимного характера, и они часто попадали в поле зрения ОГПУ. Их брали на заметку, шантажировали и предлагали помочь Родине. Отказаться, конечно, было нельзя». Вот такие преподавательницы и обхаживали японцев. Со временем они запоминали несколько слов из японского языка, бытовых выражений. Прежде всего, «здравствуйте», по-японски – «конничива». Мягкое сдвоенное «н» в середине на слух воспринималось как «нь», и получалось слово, которое легко было запомнить, разложив на два: «Конь» и «ничива», похожее на русское простонародное «ничиво». Поэтому японцев девушки называли просто «конями», о встрече с клиентами говорили «ловить» или «пасти коней», а Романа Кима, который «пас» и японцев, и самих девушек, называли «коноводом».
Советские дамы – преподавательницы русского и европейских языков – были одними из немногих легальных контактов японских дипломатов в Москве с внешним миром. Бывший начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант Хата Хикосабуро (Хикодзабуро), взятый в плен в Маньчжурии в 1945 году, в конце 1920-х и в начале 1930-х годов служил военным атташе Японии в СССР. На допросе в контрразведке Смерш он довольно подробно описал жизнь в советской столице тех лет, разъяснив сложности работы японских разведчиков и обрисовав круг возможностей, которыми они располагали[229]229
Здесь и далее показания Хата цит. по: Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 363–390.
[Закрыть]. Говоря о трудностях сбора информации о Советском Союзе (не только секретной), он отметил, что «в СССР налажена совершенная система борьбы со шпионажем», но благодаря полной унификации всей советской системы, «собрав сведения об одном предприятии, можно составить представление и о других». Естественно, что Второй (разведывательный) отдел японского Генерального штаба это учел. В соответствии с такими специфическими условиями, как рассказывал Хата, были определены основные направления сбора информации о СССР. Прежде всего использование литературы и периодических изданий – это было проще всего. Такой рутинной и затратной по времени и усилиям работой в основном занималась Японская военная миссия в Харбине с большим штатом переводчиков из числа местного русского населения. Разведывательная служба связи японцев прошла обучение в Европе, у польских разведчиков и, как был уверен Хата, могла раскодировать «простейшие советские шифры».
Сам Хата Хикосабуро, в ту пору еще майор, впервые приехал в Москву в январе 1927-го и два года был помощником военного атташе при полковнике Микэ Кадзуо и полковнике Комацубара Мититаро («умер» – сказал о нем на допросе Хата). «В то время в канцелярии атташата было всего два человека – сам военный атташе и я. Получить тогда квартиру было очень трудно. По этой причине и морской атташе, капитан 1-го ранга Мадзаки [Масаки Кацудзи] жил с нами в одной квартире. В то время ни у военного, ни у морского атташе не было собственного автомобиля. Жизнь наша была очень бедна и совсем непредставительна. После этого мы сняли дом у некоего еврея, проживавшего в районе Арбата. Сам еврей работал в то время в московском универмаге. Его фамилию не помню. Это была семья из трех человек: муж, жена и сын 18 лет», – рассказывал генерал Хата в 1946 году.
В следующий раз, уже в качестве военного атташе Великой Японии подполковник Хата прибыл в Москву в начале 1933 года. В его московской канцелярии тогда служили помощником военного атташе капитан Танака Ватару (по показаниям Хата на допросе, он «покончил жизнь самоубийством») и два секретаря: майоры Ваки и Мидзуно Кэйдзо. Еще четверо японских офицеров проходили в то время годичные стажировки в частях Красной армии под Ленинградом, Феодосией, Ростовом и Рязанью. Из советских граждан в японском военном атташате работали: «машинистка Женя (около 28 лет, жена служащего одного из трестов; знала французский язык) и Агнесса (около 21 года, еврейка). Горничные: Зина (около 50 лет, вдова, полька) и Маша (около 52 лет, жена подмосковного крестьянина). Шофер Яцевич (около 32 лет, имел жену и сына)».
Ежедневный график работы атташата был вполне обычным для любой канцелярии, если исключить поездки в редкие командировки, которые удавалось согласовать с советскими властями, и собственно разведывательную деятельность, распорядок которой Хата воздержался указывать. Каждый день офицеры атташата занимались просмотром и анализом советской прессы, составлением срочных отчетов о полученных новостях в Токио, переводами учебных пособий Красной армии (посол Японии Хирота Коки, будучи мастером дзюдо, даже переводил и отправлял в Японию сводки о становлении советской борьбы вольного стиля – будущего самбо), заботой об офицерах-стажерах, приемом и проводами японских военных, транзитом следующих через Москву в Европу и обратно, и тому подобной военно-дипломатическая рутиной.
Разведкой заниматься было трудно. Подкрепляя свой тезис о «совершенной системе борьбы со шпионажем» в Советском Союзе, Хата рассказывал: «После маньчжурских событий (сентябрь 1931 года. – А. К.) наблюдение со стороны властей СССР за представителями японского посольства и за военными атташе приняло исключительно строгий характер. На посту перед моей квартирой круглые сутки дежурили два наблюдателя, обеспеченных автомашиной. Когда я выходил или выезжал из своего дома, они шли за мной или следовали сзади на автомашине. В театре, ресторане и других общественных местах наблюдатели садились неподалеку от меня. Такое наблюдение не прекращалось ни на один день, шло и днем, и ночью, начиная со времени моего прибытия к должности и кончая моим отправлением из Владивостока. Исключение следует сделать только для моих поездок за границу. Такое неусыпное наблюдение в известной степени предоставляло мне большие удобства во время поездок по СССР, посещения театра, ресторанов и пр. Однако с населением я совершенно не мог общаться. Мне приходилось встречаться с советскими офицерами только на торжествах, организовываемых советской властью или представителями иностранных государств в посольствах и дипломатических миссиях. Там я встречался с маршалом Ворошиловым, маршалом Буденным, маршалом Тухачевским и другими представителями командования Красной армии. Все переговоры велись только с начальником отдела внешних сношений Наркомата обороны, кажется, Геккером…
Поскольку и моим подчиненным была дана инструкция ни в коем случае не пользоваться тайными агентами, пошедшими на это дело из простого корыстолюбия, так как они обычно дают либо фальсифицированный, либо, хотя и подлинный, но неполный материал, который может только дезинформировать, я совершенно убежден, что мои тогдашние подчиненные воздерживались от подобного шага».
Полковник Хата действительно был вынужден не просто «дать», а написать инструкцию сотрудникам японской разведки в СССР о необходимости быть осторожными в общении с «тайными агентами». Москвички – эффектные блондинки с роскошными формами сводили японцев с ума. Хата понимал, что через этих женщин ОГПУ осуществляет вербовку сотрудников японского посольства. В 1935 году произошел широко известный ныне «инцидент с двумя чемоданами» (о нем речь еще впереди), собственно, и ставший поводом для написания инструкции, но и до этого события японской разведке хватало причин для беспокойства[230]230
Кириченко А. А. Из записок чекиста-япониста// Япония наших дней. 2012. № 2(12). С. 107.
[Закрыть]. Название инструкции оказалось столь простым и гениальным, что можно было обойтись только им. «Берегитесь женщин!» – призывал коллег военный разведчик Хата, оказавшийся более осторожным и внимательным, чем они (недаром он был родом из мест, славящихся своими профессиональными разведчиками-ниндзя). Но призыв запоздал. Роман Ким – единственный специалист в КРО ОГПУ по работе с японцами, свободно владевший японским языком, действовал почти как ниндзя: мгновенно, хладнокровно и абсолютно безжалостно.
И. В. Просветов приводит в связи с этим пример с самоубийством капитана Танака Ватару[231]231
Просветов И. В. Указ. соч. С. 98.
[Закрыть] – того самого помощника военного атташе, о гибели которого упомянул генерал Хата. Напомню: Хата и о генерале Комацубара сказал, что тот умер. Однако это совершенно не означает, что командир 23-й дивизии Квантунской армии Комацубара Мититаро умер в Москве. Точно так же и упоминание о самоубийстве капитана Танака никак не связано с его службой в Советском Союзе. Действительно, этот офицер работал в Москве в 1932–1934 годах и, по мнению профессора Индианского университета в Блуменгтоне (США), специалиста по истории советских спецслужб Куромия Хироаки, вполне мог «обрабатываться» Романом Кимом или его девушками с целью вербовки[232]232
В переписке с автором.
[Закрыть]. Однако этому, по крайней мере пока, нет никаких доказательств, хотя есть загадочная фраза Кима о том, что «…в отношении помощника военного атташе комбинация оказалась неудачной». Но «неудачной» – не значит «смертельной». Капитан Танака благополучно покинул Советскую Россию в декабре 1934 года, вернулся в Токио и занял должность преподавателя в специальном военном училище, позже переформированном в разведывательную школу Накано. В феврале 1936 года Танака принял участие в Путче молодых офицеров, недовольных слишком, по их мнению, нерешительной политикой Японии в Азии. Как и многие другие ультранационалисты, Танака Ватару был признан виновным, но получил время самостоятельно свести счеты с жизнью. Воспользовавшись привилегией, он вскрыл себе живот коротким самурайским мечом. Об этом писали газеты[233]233
Токио Асахи симбун. 1936. 20 октября. Вечерний вып. С. 2.
[Закрыть] (с публикацией фото капитана и его прощальной записки), и об этом, конечно, знал его бывший шеф в разведке полковник Хата – потому он и упомянул этот факт на допросе, не вдаваясь в подробности.
Но ведь сам Роман Ким на допросе в 1940 году рассказывал: «Я заставлял намеченных японцев идти на вербовку, располагая на них материалами. “Болтун” был завербован в результате компрометационной комбинации. В процессе этой комбинации одно японское официальное лицо даже распороло себе живот»[234]234
АСД. T. 1. Л. 278.
[Закрыть]. Шантаж на основе «медовой ловушки», то есть в результате угрозы компрометации за незаконную или опасную связь с женщиной – фирменный знак Кима. Но кто этот «Болтун» и что за «официальное лицо» распороло себе живот? В первом случае мы вряд ли когда-либо что-то узнаем об этом, за исключением того, что в результате «Болтун дал нам один материал чрезвычайной важности»[235]235
Там же.
[Закрыть]. Во втором – история с харакири относится, скорее всего, не к 1932 году, как пишет Просветов, связывая ее с капитаном Танака, а к более ранним временам. Произошедшее тогда свидетельствует о том самом стиле ниндзя в работе Кима против японцев – коварном и беспощадном.
За семь лет до токийского Путча молодых офицеров, 26 февраля 1929 года, газета «Вечерняя Москва» опубликовала короткую заметку в жанре «происшествия» и в стиле бессмертного булгаковского Швондера. Вот ее содержание, с соблюдением орфографии и пунктуации:
«“Подвиги” капитана Коянаги.
В доме № 44 по Новинском бульвару, жильцы, обитающие по соседству с кв. 22, не имеют покоя от постоянных пьяных оргий и дебошей, устраиваемых в своей квартире (квартира 22) японцем Кисабуро Коянаги, капитаном 1-го ранга, состоящим морским атташе японского посольства. Эти дикие оргии, сопровождающиеся побоищами, делают соседство с таким жильцом не выносимым.
3 февраля капитан Коянаги устроил на этой квартире очередной вечер, на который пригласил советских граждан, в том числе и женщин.
“Прием” на этот раз закончился грандиозным скандалом и побоищем, учиненным Коянаги. Особенно сильно пострадавшей от гостеприимства “знатного иностранца”, оказалась советская гражданка, – его же учительница русского языка, отклонившая упорное приставание храброго капитана, и не пожелавшая удовлетворить его прихоть. Оскорбленный неудачей, капитан Коянаги, в пылу страсти, тут же за столом запустил в учительницу столовым ножом. Обезумевшая и окровавленная женщина бросилась бежать, а атташе Коянаги вдогонку ей начал бросать со стола посуду и т. п. В коридор за женщиной полетели даже стулья и прочая мебель, с грохотом разбиваясь о стены и пол… В передней квартиры этот “дипломатический” вечер закончился общей свалкой гостей.
Следовало бы указать подобным дипломатам, что хулиганство у нас преследуется по закону.
Почему не вмешается в это дело милиция или Наркоминдел, чтобы, наконец, положить предел этим оргиям и дать возможность спокойно отдыхать трудящимся названного дома».
Учитывая строгий советский контроль над средствами массовой информации, трудно поверить, что подобная статья могла появиться в городской газете «без санкции соответствующих органов». Значит, к тому времени надежд на сотрудничество у советской контрразведки с темпераментным капитаном уже не было, и ОГПУ решилось на компрометацию военного разведчика в прессе, что само по себе было беспрецедентным шагом. Однако насколько мы можем верить столичной газете 1929 года? Так ли всё это было на самом деле? Вопрос не праздный. Ответ на него нашел профессор X. Куромия. В своей статье «Загадка Номонхана, 1939» он не только впервые опубликовал отчет советской газеты, но и раскрыл японские данные о скандале, случившемся на Новинском бульваре[236]236
Kuromiya Hiroaki, The Mystery of Nomonhan, 1939 // The Journal of Slavic Military Studies. 2011.11.16. P. 662–664.
[Закрыть].
Капитан 1-го ранга Коянаги Кисабуро был ровесником своего коллеги, проходившего по сухопутному ведомству, подполковника Комацубара Мититаро – оба родились в 1886 году. Коянаги с блеском окончил в 1914 году Высшую военно-морскую академию Императорского флота. Впервые побывал в России в период Гражданской войны. В 1927 году вернулся – уже в качестве военно-морского атташе в Москве. Квартира 22 в угловом доме 44 по Новинскому бульвару служила не только его жильем, это, собственно, и был военно-морской атташат Японии. В отличие от атташата военного, располагавшегося вместе с посольством на Большой Никитской, 42. Старый москвич Борис Маркус вспоминал: «Представляете, около крайнего подъезда красовалась маленькая табличка. Белая с красным кругом в центре и расходящимися во все стороны лучами. А в круге было написано: “Военный атташе Японии”. Я не очень точно знал, что такое “военный атташе”, тем более японский. Мне объяснили, что это значит шпион. Как же это так? Шпион, и так запросто, даже с вывеской живет у нас под боком. Этого я просто не понимал. Меня успокоили: это, мол, официальный шпион при посольстве»[237]237
Маркус Б. С. Московские картинки 1920–1930-х гг. М., 1999. С. 4.
[Закрыть]. Так что жители дома прекрасно знали и понимали, что за «нехорошая квартира» 22 находится у них по соседству, и поостереглись бы идти просто так жаловаться на ее жильцов домоуправу. И, конечно, надзор со стороны ОГПУ за всем происходящим в ней был установлен строжайший и даже «случайная» драка не могла произойти в этом помещении без разрешения ответственного лица. Профессор Куромия считает, что это и был наш «коновод».
Дело в том, что на вечеринку оказались приглашены учительница русского языка и некий «доктор». Прислуживала за столом горничная (вдова) – не исключено, что та самая полька Зина, которую упоминал генерал Хата. Все эти подробности раскрыла газета «Токио Асахи симбун» 4 апреля того же года. Уже тогда японские журналисты, возможно с подачи более информированных источников, заявили, что инцидент был спровоцирован «советскими шпионами». Коянаги, впрочем, действительно был сильно пьян – тут «Вечерняя Москва» не преувеличила, – кидался в преподавательницу посудой и легко ранил ее. Она немедленно потребовала компенсации за нанесенные ей травмы в размере трех тысяч рублей, и чуть протрезвевший Коянаги сразу же согласился. Тогда женщина запросила еще пять тысяч, и японец снова бросился в драку, которая и привлекла внимание соседей.
Приняв на себя ответственность за дипломатический скандал и поступки, порочащие мундир офицера Императорского флота, Коянаги Кисабуро 6 марта 1929 года совершил сэппуку или, как чаще говорят, харакири. Не вполне понятно, где именно он это сделал. Логично предположить, что в той самой «нехорошей квартире» 22, служившей ему и жильем, и кабинетом, но «Асахи» в своей статье указала посольство. Впрочем, токийские газетчики могли и не знать особенностей жилищного вопроса в далекой Москве. Через два дня тело Коянаги кремировали и похоронили на Донском кладбище с соблюдением воинских ритуалов, в присутствии японских дипломатов и разведчиков, коллег из других стран, а также советских представителей.
А при чем же здесь Ким? Дело в том, что, по данным X. Куромия, несколько позже японская разведка получила сведения от тесно сотрудничавшей с ней в 1920-е годы разведки польской. Ее агент в Москве сообщал, что преподавательница русского языка была агентессой ОГПУ, и Коянаги, чья супруга и двое детей не смогли поехать с ним в Москву, вступил с этой женщиной в любовную связь. Похоже, что ОГПУ специально тормозило решение жилищного вопроса для иностранных специалистов, создавая идеальные условия для их попадания в «медовую ловушку». Любовница Коянаги и горничная специально напоили его, чему он был только рад, будучи большим любителем спиртного. Но вся его радость, как и опьянение, улетучилась, когда, внезапно очнувшись, Коянаги увидел, что девушка достает у него из кармана связку ключей и печать от сейфа с секретными документами. Немного придя в себя, Коянаги применил приемы дзюдзюцу (джиу-джицу), чтобы обезвредить «советских шпионок». Однако те вырвались и убежали. Интересно, что ни о каком «докторе» – скорее всего, еще одном субагенте Кима, польский «крот» не сообщал.
Как и подобает в таких случаях, Коянаги немедленно написал рапорт о случившемся в Токио, не скрывая своей вины в создании опасной ситуации. По непонятным причинам, а скорее всего, из-за обычной нерасторопности и нежелания брать ответственность на себя, адмиралы из Генерального штаба Императорского флота Японии тянули с ответом. Не исключено, что они делали это специально, давая тем самым понять Коянаги, что теперь он сам должен решить вопрос о собственной виновности и степени ее искупления. Во всяком случае, капитан расценил это именно так и, прождав месяц, совершил харакири. И вот еще какую любопытную деталь удалось узнать X. Куромия: два года спустя, то есть в 1931 году, Москву посетил «один буддийский священник», который провел в «офисе военно-морского атташе Японии поминальную службу для военного атташе, который совершил самоубийство, будучи пойманным на интрижке». Из этого следует, что харакири произошло именно в квартире 22. Священником же был, конечно, Ота Какумин – культовая, во многих смыслах этого слова, фигура для многих жителей Владивостока начала XX века. Ота жил в этом городе с 1903 года и служил настоятелем уже упоминавшегося храма Урадзио Хонгандзи, где, помимо всего прочего, располагалась штаб-квартира тайных националистических обществ в Приморье. Время от времени он покидал Владивосток, в том числе (и неоднократно) для службы войсковым священником в японской армии, а к 1931 году решил вернуться на родину окончательно. Строго говоря, его вынудили это сделать советские власти, отказав в продлении визы. Тогда, перед отбытием в Японию, Ота решил, как пишут сегодня некоторые почитатели этого персонажа, «посетить Ленинград и Москву, чтобы поблагодарить японского посла и представителей центральной власти за поддержку и длительную совместную работу»[238]238
Мартов И. Миссия Какумина в России: от храма до Сталина // Русская планета, http://rusplt.ru/world/Ota-Kakumin-7556.html
[Закрыть]. Учитывая, что его пребывание на советской территории было осложнено, решение проехать через всю страну выглядит, мягко говоря, странным. Мало того, в Москве Ота встретился… со Сталиным – по своей личной инициативе. В своих записках Ота рассказал, что просто пришел в Кремль (!), в приемную советского вождя (!), передал ему через секретаря свою визитную карточку и вскоре был приглашен в кабинет. Пусть каждый сам для себя решит, можно ли верить в такую историю, но время, выбранное для посещения японским священником советского лидера, наводит на некоторые размышления. В сентябре 1931 года произошел «маньчжурский инцидент», после которого Япония начала продвижение в Маньчжурию. Странная поездка в этот важнейший для Японии период к руководителю государства, в сторону которого была направлена агрессия, очень напоминает миссию «неофициального посла» Отакэ в 1923 году, но сейчас речь о другом. Профессору Куромия удалось установить, что при посещении места самоубийства Коянаги буддийский священник руководствовался не только мотивами ритуального характера. Ота узнал, кто был учительницей покойного капитана. Этой женщиной оказалась сестра красного партизана, которого священник спас во Владивостоке во время Гражданской войны. Более того, во время пребывания в Москве священник «встретил вторую сестру этого партизана, которая рассказала, что после самоубийства Коянаги ее сестра, работавшая несколько лет на ОГПУ, перебралась из Москвы на Украину, потому что “в Москве было небезопасно”». Из этого следует, что в японском посольстве знали, кто и как против них работает, но почему-то не предпринимали никаких мер. Почему? Сбрасывали ОГПУ дезинформацию, подставляя своих военных? Судьба Коянаги показывает, что ставка в такой игре, если она вообще имела место, была исключительно высока, а приемы не бесспорны. Сотрудники ОГПУ и прежде всего агент Мартэн использовали в своей деятельности старых знакомых по Владивостоку, тем или иным способом заставляя их работать против японцев.
Полковник А. убежден, что малоизвестная история самоубийства Коянаги либо рассматривалась до сих пор слишком упрощенно, либо это не единственный случай провала Романа Николаевича. Ветеран КГБ, служивший в послевоенные годы в том же управлении, что и Ким, ссылаясь на некоторые документы о наблюдении за японскими разведчиками, рассказал о провальной попытке вербовки японского офицера с помощью компрометирующих его материалов[239]239
Из беседы с автором.
[Закрыть]. Самое удивительное, что подобный эпизод позже был в красках описан в художественной литературе. В книге ветерана разведки КГБ М. П. Любимова под названием «Декамерон шпионов» есть «Новелла о том, как трудно быть японцем, если вокруг одни русские» – о неудачной попытке заставить японского разведчика в Хабаровске работать на КГБ[240]240
Любимов М. П. Декамерон шпионов. М., 1998. С. 415–440.
[Закрыть]. Эпизод вербовки в новелле донельзя напоминает знакомую нам историю. Фабула такова. Японский разведчик по имени Ясуо приглашает в гости своего приятеля (чекиста), а тот приходит с дамой легкого поведения, которую выдает за свою сестру. После долгих, но тщетных попыток споить японца и зафиксировать его на фото в объятиях женщины было принято решение скомпрометировать его другим способом. При следующей встрече чекист в одиночку напоил японца и «…аккуратно, стараясь не шуметь, снял со стены фото императора, поставил на ляжку спящего Ясуо, осторожно дотронулся до худосочного, вызывающего жалость фаллоса, деловито взял его двумя пальцами и водрузил прямо на грудь императору, стараясь не заслонить его бесстрастное лицо». Доведя эту «композицию» до откровенно порнографической, чекист сфотографировал спящего японского разведчика, а затем попытался шантажировать его.
В литературном произведении и японец, и советский контрразведчик погибли: первый вскрыл себе живот мечом, второй – выстрелил в висок из табельного оружия. Полковник А., комментируя данный эпизод, рассказывал, что вариант, описанный М. Любимовым, совершенно невозможен хотя бы потому, что эпохи не совпадают: в книге действие происходит в либеральных 1970-х годах, и попытка завербовать японского офицера, шантажируя его непристойным снимком с портретом императора, была абсурдом. А вот в 1920–1930-е годы, на фоне расцвета националистических и ультрапатриотических настроений в Японии, это было очень серьезно. К тому же есть и другие отличия реальной и вымышленной истории. По словам полковника А., на фото была видна обнаженная женщина, которая, вероятно, и проделала всю операцию по спаиванию и компрометации. Другой человек («доктор» —?) подключился на завершающем этапе, сфотографировав японца. Вполне возможно, что при попытке достать у него ключи офицер очнулся и всё понял. Тогда это действительно мог быть Коянаги. Скандал с битьем посуды тоже был, но повод получается уже другой, более веский. Да и долгое ожидание ответа из Токио, поздняя реакция японской прессы, сообщившей о трагедии лишь месяц спустя, отлично вписываются в общую картину произошедшего.
Если бы Коянаги попался на обыкновенной «бытовухе», он так не переживал бы – в конце концов, пьянство в разведке не настолько тяжкий проступок. Чтобы понять это, достаточно вспомнить хотя бы шокирующее временами поведение Зорге примерно в те же годы и в не менее пуританской Японии. Попытка похитить ключи и печати – да, это серьезно. Но, как мы знаем со слов священника Ота Какумин, для японцев не было тайной стремление ОГПУ подобраться к ним через русских женщин. Тем более что ключи и печати в итоге всё равно остались у Коянаги, предотвратившего кражу. Не слишком ли слабое основание для харакири? А вот если тем вечером действительно были сделаны фотоснимки, о которых говорил полковник А., и они потом были предъявлены капитану Коянаги с целью вербовки, тогда всё встает на свои места. Это был жесткий, даже жестокий шантаж, при котором действительно была задета не только офицерская честь, но и честь божественного тэнно – императора. К тому же, если Коянаги честно рассказал в своем рапорте, отправленном в Токио, о том, что произошло, то становятся понятны и шок Генерального штаба, и его отказ отвечать на рапорт, и попытки всячески замолчать эту историю в прессе, сведя ее к банальной «интрижке».
Кстати, Михаил Петрович Любимов в беседе со мной рассказал, что японский эпизод в его произведении придуман им полностью – от начала и до конца из сугубо литературных соображений. Существовала необходимость расширить «географию» книги, действие в которой изначально происходило почти исключительно в Москве. Так появились Хабаровск и в нем японский разведчик высокого ранга, что противоречило реальности 1970-х годов. А вот уже конструировал японский эпизод автор «Декамерона шпионов» по классическому шаблону вербовки на основе шантажа и с учетом национальных особенностей жертвы – даже специально консультировался с родственником-японоведом. Так что в этом смысле совпадение литературы и истории вполне закономерное. Ким работал по строгой схеме, а Любимов, сам будучи профессионалом, не раз сталкивался с такими схемами в своей практике. Из экзотики тут только портрет императора, но нельзя исключать, что в молодости Михаил Петрович слышал от коллег о чем-то подобном, со временем забыл, а потом воспроизвел «хорошо забытое старое» как творческую находку (хотя сам он об этом и не говорил). Так или иначе, можно с уверенностью говорить, что такая неудачная попытка вербовки в истории Романа Кима была, но для его карьеры это осталось без последствий – никаких упоминаний о наказании за провал в его делах нет (два выговора за утрату служебных удостоверений, например, там зафиксированы).
Возможно, это связано с тем, что инцидент с капитаном Коянаги (а вероятно, и еще с одним официальным лицом) потонул в бурном и мутном потоке вербовочных подходов, которые осуществлял Роман Ким в конце 1920-х годов. Обстановка тому способствовала: часть дипломатов и разведчиков не имела опыта работы в России, относилась к советской системе безопасности и вообще к людям свысока, пренебрежительно, экстраполируя на них книжный опыт победы над Россией в 1905 году. С противной же стороны, ОГПУ успешно модерировало условия для вербовок, создавая жилищный кризис, сажая японских разведчиков под столь плотную опеку, что у тех не было выбора в общении, предлагая для этого только свою агентуру без всяких других вариантов.
После ареста Кима его руководство с сетью агентесс разбиралось особо. Благодаря этому мы знаем имена и связи некоторых из них. София Шварц «вертелась около Касахара» (полковник, военный атташе в 1930–1932 годах), гражданка Броннер сожительствовала с помощником Касахара майором Ямаока Мититакэ, Чернелевская «опекала» третьего секретаря посольства Огата Сёдзи – профессионального русиста и разведчика (в 1937 году для ряда наших японоведов оказалось достаточно факта знакомства с этим человеком, чтобы получить высшую меру наказания – расстрел). Еще один роковой «знакомец» – выпускник Токийской православной духовной семинарии Юхаси Сигэто был возлюбленным агентессы по имени «Амазонка». Она же сожительствовала с разведчиком Таяси (не установлен) и вообще «работала недисциплинированно, знакомства заводила по своей инициативе». Были в этом списке еще и «Высоцкая», «0–36», «Рис», Дудунашвили и другие любительницы «пасти коней»[241]241
Просветов И. В. Указ. соч. С. 99.
[Закрыть]. Одним словом, с каким бы энтузиазмом и прославленной тщательностью ни относились японцы к своей разведывательной деятельности, в Москве их усилия сводились на нет исключительно плотным контрразведывательным обеспечением, в центре которого – пусть это прозвучит банально – словно паук в паутине, находился Роман Николаевич Ким.
В какую бы сторону ни пытались уйти от него японские разведчики, да и просто дипломаты, они оставались в паутине. Иногда доходило до курьезов, впрочем, вполне показательных. Корреспондент газеты «Асахи» Маруяма Macao – тот, что в 1925 году прибыл в Читу, чтобы писать репортаж о перелете японских летчиков в Москву, а там познакомился и влюбился в молодую красавицу Мариам Цын, – в 1931 году оказался в Москве. Влюбленный журналист приложил все усилия, чтобы найти свою Мэри, как он называл Мариам Самойловну. Это оказалось совсем не сложно. Вместе с Маруяма в столицу приехал Отакэ Хирокити, и, конечно, он немедленно встретился с Кимом. От Отакэ Маруяма и узнал, что его платоническая любовь вышла замуж. «Когда он узнал, что я являюсь женой Кима, перестал интересоваться мною»[242]242
Там же. С. 111–112.
[Закрыть]. Так это или нет (в изложении Мариам Цын история нередко выглядела не совсем так, как мы ее представляем), но Маруяма пошел по стандартному пути – завел себе в Москве любовницу. Ее звали Валентина Гирбусова, и она тоже была подчиненной Романа Кима. Неизвестно, насколько продуктивна была ее работа, зато мы знаем, что встречи с ней, как и с другими агентессами, Роман Николаевич нередко проводил у себя дома, в присутствии жены – Мэри Цын[243]243
Там же. С. 148–149.
[Закрыть]. Если же Маруяма, который привлекался японской разведкой для ряда операций, докладывал о их результатах в посольстве, то особый агент Кима передавал ему эти материалы[244]244
См. Приложение 13.
[Закрыть].