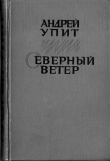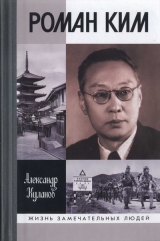
Текст книги "Роман Ким"
Автор книги: Александр Куланов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
Глава 16
ВОСЕМЬ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
Как только в отношении Кима, ставшего теперь Мотоно, у следствия появилась какая-то ясность (во всяком случае, отпускать его точно никто не собирался), в оборот взяли жену Романа Николаевича – Мариам Цын. В первый раз ее допросил 14 июня тот же следователь Верховин. Его интересовал круг японских знакомых Мариам Самойловны (режиссеры Сано и Хидзиката, прибытие в Москву Отакэ в 1931 году, коммерческий атташе Каватани, пролетарский писатель Акита Удзяку, приезжавший в Москву в 1927 году). Мэри Цын вспомнила странный эпизод, когда, вскоре после приезда в столицу, познакомилась с двумя китайцами, приняв их за японцев, – это было занесено в протокол. Такое впечатление, что Верховин искал хоть что-нибудь, в чем можно обвинить задержанную, не находил, но всё же вынес постановление: «Цын М. С. следствием изобличается в том, что оказывала содействие своему мужу Ким P. Н. в разведывательной работе в пользу Японии».
Финальный вопрос был зафиксирован в дополнительном протоколе:
«– Вам предъявляется обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 58, п. 6, то есть в том, что вы оказывали содействие Киму Роману Николаевичу в шпионаже в пользу Японии. Признаёте ли вы себя в этом виновной?
– Виновной себя не признаю. Я не только не помогала ему в разведывательной работе, но даже не знала о его причастности к каким-либо иностранным разведывательным организациям»[348]348
Просветов И. В. Указ. соч. С. 146–147.
[Закрыть].
«Не знала» не означает «он не шпион». Подписывая протокол с такой формулировкой, сотрудница НКВД Мариам Цын понимала, что выносит мужу, а значит, и себе, и – что самое страшное – ребенку, приговор. Вот только поделать с этим она не могла ничего. Первичное следствие закончилось, и с Лубянки Мэри перевели в Бутырский изолятор. 26 июля следствие было продлено «в связи с выявленными новыми обстоятельствами в отношении арестованной», но на следующий допрос ее вызвали только через месяц и ни о чем важном не спрашивали. Тем не менее 28 августа было готово обвинительное заключение: «Еще до поступления в ОГПУ – НКВД Цын имела обширные связи среди японцев, занимавшихся шпионской деятельностью… В 1925 году в г. Чите познакомилась с корреспондентом японской газеты Маруяма, установленным разведчиком… Встретив двух студентов КУТК’а, приняв этих китайцев за японцев, проявила инициативу к сближению. Позднее, несмотря на прямое нежелание новых знакомых встречаться… энергично принимала ряд мер к сближению… Находясь на работе в аппарате ОГПУ – НКВД, Цын самостоятельно и через своего мужа Кима P. Н. заводила новые знакомства с японцами (Каватани, Отаке, Хиджиката, Секи Сано, Акита)… Цын, заведомо зная, что Ким своими преступными отношениями с отдельными негласными сотрудниками НКВД, выразившимися в переходе с агентурой на короткую ногу, установлении интимных отношений с женской агентурой, не только не принимала мер к пресечению таких явлений, а, наоборот, всячески содействовала в этом Киму: Цын принимала агентов в качестве своих гостей. На основании вышеизложенного обвиняется в том, что на протяжении ряда лет систематически поддерживала связь с японцами, подозреваемыми в шпионской деятельности. Являлась женой крупного японского шпиона Кима P. Н. и содействовала ему в его предательской деятельности. Дело направить на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР»[349]349
Там же. С. 148–149.
[Закрыть]. Комиссар госбезопасности 3-го ранга Минаев утвердил постановление в тот же день, и Мариам Цын стала ждать определения срока заключения. Это случилось только 20 сентября 1937 года. Особое совещание – внесудебный орган НКВД СССР – приговорило ее к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и отправило по этапу в Коми. Ехала она опустошенная – перед этапом Мэри официально известили о том, что ее муж – изменник родины и японский шпион Ким Роман Николаевич приговорен к расстрелу. На самом деле в сентябре Роман Ким был просто очень занят – он много работал.
После «признания» и подписания обвинительного заключения Кима на время оставили в покое – Сталину и Ежову надо было решить, что с ним делать, а тут как раз начались важные процессы против военных. В июне были расстреляны Тухачевский и его соратники, затем начались чистки в НКВД (в августе расстреляли замначальника контрразведки М. Горба, арестовывавшего Кима). До сентября руки до Кима так и не дошли. А затем…
В августе 1945 года – восемь лет спустя после описываемых событий, новое следствие по делу Кима установило, что арестованный, которому благородным решением комиссара Фриновского было разрешено работать прямо в тюрьме, уже летом 1937-го «выполнял ряд экспертиз и делал переводы японских документов», а «с сентября 1937 года и до настоящего времени используется органами НКГБ СССР на специальной работе, которая оценивается весьма положительно». Это еще не был перелом – военного разведчика и дипломата, резидента ИНО и генконсула СССР в Харбине Бориса Мельникова так использовали около года, а потом всё равно расстреляли. Но для Кима это был шанс уйти от тяжких мыслей. Ведь в тюрьме – даже в переполненной камере, в которой и сидеть-то не получается, а можно только стоять плечом к плечу с такими же изможденными, грязными, вонючими зэками, как ты, видя, как переползают с руки одного на руку другого вши, – ты всегда один. Внутренне – абсолютно одинок. В одиночной камере – тем более. Поэтому работа, да еще интеллектуальная, была для Романа Николаевича спасением. К тому же теперь, после перевода его из Лефортова во внутреннюю тюрьму на Лубянке, его перестали пытать бессонницей и здоровье начало быстро восстанавливаться. Это видно по показаниям арестованного в разные месяцы следствия: от нелепой, путаной, сбивчивой фантастики весной 1939 года до взвешенных и даже вызывающе дерзких – весной 1940-го.
Первый после перерыва допрос состоялся 9 сентября. Следователь Григорьев поинтересовался, кого именно из агентов НКВД Ким провалил. Подследственный не спорил и соглашался со всем. Признал агентом японцев гражданку Чмуль, у которой квартировал майор Ямаока, и – что, наверное, было для него непросто – заявил, что Тверской – Полонский, тот самый суперагент НКВД и Штаба РККА, который на протяжении десяти лет выдавал японцам дезинформацию и который должен был бы стать одним из настоящих героев нашей страны, тоже – японский шпион. Ким об этом якобы знал, а «зная, что они являются двойными агентами, не предпринял никаких мер к удалению их из сетей». В конце концов Роман Николаевич признал, что все его люди в Москве перевербованы японцами: «указанная мною агентура на протяжении длительного периода “благополучно” работала или имела отношение к японцам»[350]350
Там же. С. 150.
[Закрыть]. После этого допросы снова надолго прекратились – дел у оперативного переводчика накопилось невпроворот.
Сейчас очень сложно установить штат специалистов по Японии в НКВД летом – осенью 1937 года, в горячее время, когда Квантунская армия готовилась к боевым действиям в Маньчжурии. Можно предположить, что этой работой занимались В. Д. Плешаков и Н. П. Мацокин, но уже в октябре оба они были «изъяты» навсегда. Возможно, работали еще несколько человек (в том числе женщин), ставших позже известными учеными, но масштаб репрессий против востоковедов был таков, что де-факто осенью 1937 года даже получаемые донесения, перехваченные шифрограммы и материалы из дипломатической почты попросту некому было переводить, проверять и анализировать. Даже хороший уровень японского языка не гарантировал правильного понимания этих документов – специфика языка, обильное использование азбуки катакана, омонимичность японских слов – всё это представляло огромные трудности для дешифровщиков и переводчиков. «Подполковник Мотоно», кем бы он ни был на самом деле, явно справлялся с этой задачей лучше всех. Перевод Мартэна-Мотоно был гарантией качества. И если уж его не расстреляли сразу, имело смысл использовать его как можно дольше – как Бориса Мельникова, а от пули он никуда не денется.
Один из самых известных среди перехваченных летом-осенью 1937 года материалов японского посольства – доклад помощника военного атташе капитана Котани Эцуо, подготовленный им к заседанию японской дипломатической ассоциации в июле 1937 года. Дело Тухачевского только что прогремело на всю страну, и доклад так и назывался: «Внутреннее положение СССР (Анализ дела Тухачевского)». Провозились с переводом долго. Ежов доложил его Сталину только 10 декабря, акцентировав внимание на том, что по оценке иностранных экспертов дело Тухачевского является ярким проявлением политической чистки, начатой в Советском Союзе несколькими годами ранее и потрясшей всю страну. Причем сама по себе чистка провоцирует недоверие и доносительство, в том числе в Красной армии, и воспроизводит сама себя. За арестами следуют новые аресты, приговоренные к высшей мере тянут за собой в расстрельные рвы пока еще живых… Чистка углубляет взаимную подозрительность в руководящей прослойке советских органов и среди комсостава Красной армии, как следствие – репрессии продолжаются. «Всё это наносит вред духовной спаянности народа и не подлежит никакому сомнению, что с точки зрения синтетической оборонной мощи или государственной обороны в широком понимании, моральная слабость СССР будет всё больше сказываться. Нужно, однако, иметь в виду, что диктатура Сталина необычайно сильна и что нынешний процесс проведен для усиления диктатуры Сталина, то есть процесс как таковой является успехом…»[351]351
Цит. по: Просветов И. В. Указ. соч. С. 152–153.
[Закрыть]
Но если доклад японского разведчика о том, что Сталин и сам прекрасно знал, мог подождать, то события на Дальнем Востоке носили совсем иной, непредсказуемый и неподконтрольный Москве характер. 7 июля 1937 года произошел инцидент у моста Лугоуцяо (Марко Поло) в Пекине. Сегодня официальная китайская историография ведет отсчет Второй мировой войны именно с этой, непривычной для Европы даты. Для того есть основания: японская армия перешла в решительное наступление против войск Гоминьдана, начав вторую японо-китайскую войну, которая закончилась только через восемь лет войной советско-японской. С театра военных действий начали поступать важные материалы. Резко активизировалась японская военная разведка в Харбине и Москве, а противопоставить ее усилиям было уже почти нечего и некого. Майор Котани был последним адресатом сгинувшего в подвалах НКВД Полонского. Сейчас следовало бы запустить дезинформацию в японский Генеральный штаб, но… все, кто этим занимался, либо сидят, либо уничтожены. Странное признание Кима в том, что он на самом деле не Ким, спасло ему жизнь. А НКВД теперь уже стало не важно – японец он или не японец. Надо было переводить.
В течение всего 1938 года Романа Николаевича на допросы не вызывали – у него опять было много работы. Ким ждал окончания следствия, почти неминуемого расстрела и трудился над переводами, зная, что каждую минуту дверь камеры может распахнуться и его вызовут в последний раз. Оснований для этого становилось всё больше. Несмотря на прекращение допросов, «работа по делу» подполковника Мотоно продолжалась в рутинном, бюрократическом режиме. В период с октября 1937-го по май 1938 года на Кима дали признательные показания как минимум пять человек. Сначала юрист производственного объединения «Востоксталь» из Свердловска Александр Мартынов, «сознавшийся» в работе на японскую разведку, сообщил, что ее резидент, некто Ней, передал ему информацию о том, что Ким – японский разведчик, имеющий на связи «шпионскую сетку»[352]352
АСД. Т. 1.Л. 143.
[Закрыть]. Через пять месяцев, в марте 1938-го, бывший сотрудник КРО ОГПУ и Разведупра Штаба РККА Воронинов, работавший на Дальнем Востоке, «признался» в том, что «в ноябре 1923 года… работая в ОГПУ, связался по данному ему паролю с одним корейцем, представителем японской разведки. Кореец дал ему указания работать в ОГПУ так, чтобы быть на хорошем счету, заявив, что он, Воронинов, предназначается для особой роли в запасную сеть, которая будет действовать только в момент войны. До 1927 года Воронинов, как агент разведки, активно не работал. Кореец, с которым Воронинов периодически встречался, оказался впоследствии сотрудником КРО ОГПУ – Ким Романом Николаевичем (арестован)»[353]353
АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 406. Л. 10–32.
[Закрыть].
Одновременно упомянул о Киме в своих показаниях и Трофим Юркевич. В сохранившемся протоколе его допроса от 27 марта 1938 года следователь вписывал одни данные поверх других, вымарывал ненужные фамилии и дописывал тех, кого теперь надо было «прижать». Имена Кима и его жены подчеркнуты там красным карандашом. Подпись Юркевича под протоколом едва различима – он, больной туберкулезом человек, уже умирал от пыток и подписывал всё, что было угодно следователю[354]354
ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–50 737. Л. 37.
[Закрыть].
Даже рисовод из Ростова Василий Когай, тоже кореец, 7 июля 1938 года на допросе подтвердил, что в 1928 году в Москве, когда он поступил во Всесоюзную академию соцземледелия, то познакомился с резидентом японской разведки Кимом P. Н., который год спустя поручил ему «под предлогом изучения сельскохозяйственных земель выехать в Казахстан для налаживания контрреволюционной работы и подготовки повстанческих кадров. А в Ростове-на-Дону он, также по заданию Кима, собирал сведения об экономике края, расположении предприятий оборонного значения и дислокации частей РККА»[355]355
Просветов И. В. Указ. соч. С. 155.
[Закрыть].
Еще через месяц кадровым японским разведчиком назвал Кима хорошо его знавший капитан госбезопасности, бывший заместитель полпреда ОГПУ по Дальнему Востоку и один из создателей советской контрразведки Иван Чибисов: «…я также подозреваю в связях с японцами Ким P. Н., бывшего переводчика 5-го отделения КРО, который в период интервенции Дальневосточного края, работая в разведотделе японской армии, был секретарем корреспондента японской газеты во Владивостоке»[356]356
АСД. T. 1. Л. 216.
[Закрыть]. Через две недели самого Чибисова, стоявшего у истоков создания ОГПУ в Сибири и на Дальнем Востоке, расстреляли как «японского шпиона».
Романа Николаевича в камере контролировали подсадные. В его деле подшита только одна грязная, мятая бумажка: записка-донос, но полковник А. утверждает, что их было больше. Характерен текст сохранившейся (орфография и пунктуация оригинала): «Мне известно из разсказа ар. Именитова М. С.[357]357
Именитов Марк Семенович. Родился в 1907 г., Латвия, г. Режица; еврей; образование высшее; б/п; начальник отдела конструкций треста «Гормост» Гормостпроекта. Проживал: Москва, ул. 2-я Извозная, д. 366, кв. 86. Арестован 10 декабря 1937 г. Приговорен: ВКВС СССР 15 апреля 1939 г., обв.: в участии в к.-р. шпионско-террористической организации. Расстрелян 16 апреля 1939 г. Место захоронения – Московская обл., Коммунарка. Реабилитирован 6 февраля 1958 г. ВКВС СССР.
[Закрыть] в камере Внутренней тюрьмы НКВД от 3.IX до 15.IX. 1938 с которым я находился вместе в камере в отношении арестованного бывшего сотрудника НКВД Ким следующее: Ким в разговорах с Именитовым неоднократно выражал чувства глубокой ненависти в отношении народного комиссара гр. Ежова… Считал что по вине народного комиссара было разгромлено японское отделение НКВД, так что теперь Советский Союз остался без контрразведки в отношении Японии… Так как ему была дана возможность работать, будучи в тюрьме, он часто возвращаясь с работы в камере разсказывал о том что он делал… Разсказал что в иностранной печати, которой он имел обязанность разработать, он читал статью Керенского против народного комиссара… Неоднократно с Именитовым говорил о Борис Савинковым, который он очень хвалил и в котором видел личность очень подходящей в нашем времени…»[358]358
АСД. Т. 1. Л.86.
[Закрыть]
Несмотря на то что записка подписана 15 декабря, то есть через месяц после описываемых разговоров, Киму пришлось объясняться со следователем: он никому не говорил о своей работе «наверху» и уж, конечно, «о содержании документов, которые мне, несмотря на мое положение арестованного, давали прорабатывать… Говорил только, что хожу наверх на положении “временно используемого” для сдачи своих дел». Разговора о статье Керенского Ким не вспомнил, а вот Савинкова действительно обсуждали: «Я рассказал в камере о судебном процессе над ним в Ленинграде. Я, возможно, сказал тогда, что Савинков вел себя на суде очень хорошо, мужественно признав преступность всей своей предыдущей деятельности»[359]359
Просветов И. В. Указ. соч. С. 155–156.
[Закрыть]. Очень к месту пришлась зафиксированная критика Ежова. Страшного карлика уже сняли с должности главы НКВД, и его расстрел был только вопросом времени. Некоторые из «ежовцев», причастных к аресту Кима, тоже пошли по этому пути – их арестовывали и очень быстро передавали коменданту НКВД Блохину. В его распоряжении была специальная команда палачей в резиновых фартуках и перчатках, которые умывались одеколоном, чтобы хоть немного смыть запах крови своих жертв[360]360
Петров Н. В. Палачи. Они выполняли заказы Сталина. М., 2011. С. 191–203.
[Закрыть].
Спустя два года, весной 1939-го, в камеру к Роману Николаевичу неожиданно пришел новый начальник японского отделения контрразведки Александр Гузовский – в какой-то мере ученик Кима – и сообщил, что в его деле много сомнительного. «Наверху» это понимают, и скоро Роман Николаевич будет передопрошен. Так и произошло. Гузовский подал рапорт об очередном продлении срока следствия по делу Кима в связи с тем, что арестованным представлен ряд фактов, опровергающих имеющиеся в деле сведения[361]361
Просветов И. В. Указ. соч. С. 159.
[Закрыть]. Расчет Кима оправдался полностью: в замешательстве его не успели расстрелять. Потом, пока дело простаивало, изменилась международная обстановка, и его уникальные способности оказались востребованными. Теперь новые начальники с удивлением листают страницы его дела, ничего не понимая в фантастическом противоречии и нагромождении фактов. Доследование – новый шанс на жизнь.
Начинается новая череда допросов: 3, 5 и 17 июня их проводит уже новый следователь – сержант госбезопасности Дарбеев – «спец» по дальневосточникам. Снова и снова повторяются одни и те же вопросы: где и когда родился, где учился, кто родители. Как и многих других арестованных разведчиков, Кима никто не спрашивает о его подпольной работе – реальность неинтересна, пока еще идет игра «кто кого посадит». Ким уже насиделся, и он начинает раскрывать карты. 10 и 22 июня 1939 года, ровно за два года до войны, он говорит правду: «На следствии в 1937 году мне заявили, что я являюсь японцем, что Ким – это не моя фамилия, и требовали от меня, чтобы я назвал настоящую японскую фамилию… Я пытался утверждать, что никогда японцем не был, но мои утверждения не принимались следствием во внимание… Должен сказать, что я никогда не был завербован в японскую разведку… Данные мною показания в 1937 г. являются вымышленными, т. к. я пришел к выводу, чтобы скорее написать показания и тем самым дать возможность следствию закончить мое дело…»[362]362
АСД. Т. 1. Л. 104, 120–121.
[Закрыть]
Однако закончить его дело не так просто, как кажется арестованному. В это время вопрос о связях с «японским шпионом» Кимом задают бывшему резиденту ИНО НКВД в Шанхае Михаилу Добисову-Долину. Тот, конечно, соглашается: да, связь с Кимом установил еще в 1925 году, а в середине 1930-х Ким даже порекомендовал Добисову перейти в другое подразделение, чтобы эффективнее работать на японскую разведку, что, впрочем, у него не получилось. Впервые за два с лишним года Киму и свидетельствующему против него арестованному устраивают очную ставку: почти в 11 вечера 15 июля 1939 года. В помещении присутствует Гузовский, чья заинтересованность в возвращении бывшего коллеги рискованна, но очевидна.
Добисов в неожиданных подробностях вспомнил свою «вербовку» Кимом осенью 1925 года в Московском институте востоковедения: «Ким заявил мне, что ему известно о том, что, будучи в Китае, я связался с японской разведкой… Это было начало моей шпионской связи с Кимом». Добисов выполнил задание Кима «достать материалы по Восточному отделу Коминтерна», а годом позже, перед отъездом в Китай, получил от Кима пароль для связи с японской разведкой в Шанхае – почтовую открытку, разрезанную по диагонали. Со второй половиной открытки на связь пришел сотрудник японского консульства в Шанхае Савара. С ним Добисов оставался на связи до своего возвращения в СССР в 1931 году. Потом он еще несколько раз встречался с Кимом, чтобы передать ему списки агентуры ИНО ОГПУ на Дальнем Востоке: в Корее, Китае и Японии – ими очень интересовались в Токио. Осенью 1933 года Ким сам пришел к Добисову и не один, а с неким японским дипломатом по фамилии Сато. Ему Добисов доложил о политике СССР на Дальнем Востоке, прежде всего в Маньчжурии, и о резидентурах ОГПУ. В 1935 и 1936 годах состоялись еще две встречи с Сато и Кимом: говорили об убийстве Кирова (в те годы опасная и запретная тема – формально за эти разговоры был расстрелян еще один разведчик-японовед – В. Н. Крылов[363]363
Куланов А. Е. Указ. соч. С. 157–178.
[Закрыть]) и о возможных в связи с этим изменениях обстановки на КВЖД. Напоследок Добисов получил очередные разведданные от японца.
Шокированный Роман Ким всё отрицает: ничего этого не было, о встречах с Сато он слышит в первый раз и Добисов просто врет. Да, с самим Добисовым они знакомы, но «встречались только в ИНО, т. к. Добисов работал в 7 секторе, куда я заходил по делам службы. Больше я нигде с ним встреч не имел…». Ким спрашивает Добисова, как был одет Сато, когда они с ним якобы встречались. Конечно, Добисов таких деталей не помнит – давно было. Невозмутимый следователь Дарбеев уточняет у свидетеля:
– Вы не оговариваете Кима?
– Не оговариваю, так как никакого смысла оговаривать его у меня нет»[364]364
Просветов И. В. Указ. соч. С. 162.
[Закрыть].
Очная ставка, как и следовало ожидать, ничего не дает. Судьба Кима решается теперь не на Лубянке, а в Кремле, и еще дальше – на полях Маньчжурии. Уже вовсю гремят орудия – в разгаре бои с японцами в Монголии, на Халхин-Голе. И положение на театре военных действий складывается явно не в пользу Красной армии. В день очной ставки – 15 июля – Сталин направил на Халхин-Гол специальную комиссию во главе с печально известным комиссаром Мехлисом для проверки причин неудач.
Сразу после очной ставки Ким «пропал» – в его следственном деле нет никаких записей вплоть до 21 марта 1940 года. В ходатайстве перед прокурором о продлении сроков следствия есть пояснение: «…следственное производство по делу № 1626 по обвинению Ким P. Н., согласно приказания Народного комиссара внутренних дел Союза ССР – комиссара безопасности I ранга – тов. Берия, было приостановлено, а Ким был использован для выполнения спецзадания»[365]365
АСД. T. 1. Л. 262.
[Закрыть]. Что это значит? Неизвестно. Учитывая, как и с кем работал Ким, любой опытный японовед, поразмыслив, может вспомнить о «феномене Онода». Онода – это тот самый японский офицер, выпускник разведшколы в Накано, специалист по партизанской войне, который, будучи заброшен в джунгли Филиппин в январе 1945 года, а затем, прекрасно зная о том, что война кончилась, вел боевые действия (сначала в составе группы, затем один) против американской армии и филиппинской полиции до весны 1974 года. Извлечь упорного диверсанта из джунглей сумел только его командир, по счастью, выживший в боях и прибывший на остров Лубанг, чтобы приказать младшему лейтенанту Онода сдаться. Для нас здесь исключительно важна та черта японской психологии, особенно психологии военных, самураев, о которой обычные люди либо никогда не задумываются, либо забывают. Солдат, обреченный вести боевые действия в окружении, один, получивший приказ не сдаваться, будет повиноваться только тому, кто этот приказ отдал. Если же командир, отдавший приказ, погибнет, остановить такого солдата может только смерть. Японские офицеры, завербованные Романом Кимом, стали против собственной воли его солдатами, ведущими тайную войну со своей родиной. Нравилось им это или нет, но естественный для них кодекс чести должен был заставлять их подчиняться тому человеку, который их вербовал, кто ими руководил. Если мы когда-нибудь узнаем, что время от времени Романа Николаевича Кима вывозили из тюрьмы НКВД на встречу с его японскими агентами или даже отпускали за границу, чтобы он там руководил ими, не стоит этому удивляться: «феномен Онода» вполне закономерно должен был сработать, хотя сам Онода в то время еще только готовился к своей тридцатилетней войне. Конечно, версия малоправдоподобная, но когда мы имеем дело с Кимом…
С агентами встречался Роман Николаевич или нет, логично будет предположить, что по возвращении его ждало если не освобождение, то, во всяком случае, какое-то ослабление режима и хотя бы надежда на скорую свободу (кстати, свидетельствовавшего против него М. Е. Добисова-Долина за это время успели расстрелять). Но на Лубянке работает своя логика. Пока не велись допросы, а возможно, и самого Кима не было в Москве, педантичный сержант госбезопасности Дарбеев свел воедино все показания против Кима, данные за эти годы, и собрал дополнительные материалы по его делу. В частности, поступили копии метрики из Владивостока, подтверждающие, что Роман Ким – кореец, родившийся там в 1899 году (о спорности этой версии чекистам, разумеется, известно не было). «Кроме того, в распоряжение следствия поступил ряд показаний арестованных, изобличающих Ким P. Н. в шпионской деятельности»[366]366
Там же.
[Закрыть].
К числу последних относились в том числе обширные комментарии И. И. Брауна-Домбровского, данные им на допросе 31 июля. Потомок польских дворян, обвинявшийся в шпионаже в пользу Японии, был знаком с Кимом с 1916 года, когда участвовал в качестве автора в издававшемся Кимом рукописном гимназическом журнале «Бродячий кот». Потом они вместе учились в Восточном институте, вместе работали журналистами в Гражданскую войну. Браун-Домбровский ушел с колчаковцами в Харбин, откуда приехал в 1935 году – якобы по заданию резидента японской разведки в Харбине Фукуи с целью установления связи с Кимом. Встретились старые знакомые только в октябре 1936 года, и, судя по показаниям Брауна, Роман Николаевич немедленно завербовал его для «освещения деятельности харбинцев», передав на связь сначала Александру Гузовскому, а затем Михаилу Миронову. Теперь, конечно, оказывалось, что всё было не так и Браун был лишь курьером от Фукуи к Киму, а от того к другому «японскому шпиону» – Василию Крылову[367]367
ЦА ФСБ. Р–4965. Л. 242–251.
[Закрыть].
К окончанию выполнения Романом Николаевичем спецзадания Гузовский и новый начальник контрразведки ГУГБ Трофим Корниенко подготовили документы об изменении обвинения Киму со статьи 58, пункт 6 на статью 58, пункт 1а, то есть на «измену родине». 9 апреля Романа Николаевича вызвали на допрос и предъявили постановление о переквалификации дела, но только уже не на пункт 1а, а на пункт 16. Разница между буквами – ровно одна жизнь. Если в первом случае можно было рассчитывать на долгий срок в лагерях, то пункт 16 предусматривал только одну меру наказания – расстрел. Ким расписался: «С материалами по делу полностью ознакомлен и добавить ничего нового не имею»[368]368
Там же. Л. 287.
[Закрыть]. Он устал. Много позже Роман Николаевич в письме другу, известному писателю приключенческого жанра Льву Славину напишет об этом, используя боксерскую терминологию: «Там я по счету девять всё-таки встал…», но тогда – 9 апреля 1940 года для Кима прозвучал еще только счет «восемь».
Обвинительное заключение гласило: «В шпионской деятельности изобличается показаниями Буланова, Гай, Николаева-Рамберг, Добисова-Долина, Чибисова, Клётного (в живых к тому времени оставался только Клётный. – А. К.). Подтверждено также показаниями Когая и Мартынова… Обвиняется в том, что, являясь агентом японской разведки, по ее заданиям внедрился в аппарат ОГПУ – НКВД и до момента ареста занимался активной разведывательной деятельностью в пользу Японии… Следственное дело направить в Главную Военную прокуратуру для рассмотрения Военной коллегией Верховного Суда СССР»[369]369
АСД. T. 1. Л. 287.
[Закрыть].
Закрытое заседание Военной коллегии (ВКВС) состоялось 9 июля 1940 года на улице 25-го Октября, в печально известном доме 23, где выслушали свои приговоры, а затем были убиты (многие прямо здесь – в подвале) сотни генералов и офицеров. Председательствовал на заседании корпусной военный юрист Иван Осипович Матулевич (Матулявичус) – участник репрессий еще с 1920 года. Суд длился долго, и хотя судьи не слишком вникали в перипетии дела, необходимо заметить, что дело это они по крайней мере читали. Председательствующий суда спросил у подсудимого, помнит ли тот данные им на предварительном следствии показания, «…смутно, но помню, – ответил Ким и неожиданно пошел в наступление: – Всё это мои показания, но они не отвечают действительности. Я не мог иначе говорить. Так как мне сказали, что вся моя работа в органах НКВД скомпрометирована. Жена моя была арестована, я находился в таком состоянии, что не мог спать. Следствие производилось с уклоном обвинения. Всё это и заставило меня давать фантастические показания… Всё это фантазия, написанная мною при содействии следователя Верховина, который дал мне специальные вопросы, а в соответствии с последними я и давал такие показания.
– Заявление на имя бывшего заместителя наркома внутренних дел вы писали?
– Да, писал… Что шпион и предатель… Меня заставили написать.
– К вам применяли физические методы воздействия?
– Нет»[370]370
Там же. Л. 297–298.
[Закрыть].
Разбирая биографию подсудимого, судья дошел до эпизода с приемом Кима на службу в ОГПУ:
«– В органы ОГПУ я поступил по предложению Богданова, моего товарища по университету. Сам же я никогда бы на эту работу не пошел.
– А разве он вас силой затянул на эту работу?
– Нет, не силой, но мне польстило его обращение ко мне. Он сказал, что они доверяют мне как хорошему и преданному работнику и так далее. После этого я согласился работать в ОГПУ».
Когда же речь зашла о возможной вербовке уже японцами, Ким внезапно сдал позиции. Как будто устал, выдохся. Ему просто нечего было сказать.
«– [Японцы] о шпионаже со мной тогда не разговаривали. Да и кроме того, японская разведка такими простыми методами не вербует. Нужны ведь данные, за которые они могли бы ухватиться.
– А разве не было таких данных? Дом вашего отца, как вы показали на предварительном следствии, представлял собой своеобразный салон, который привлекал к себе иностранцев. Покровительство вам [со стороны] Ватанабэ, учеба в Японии и так далее… Разве это не данные для японцев?
Подсудимый молчит»[371]371
Там же. Л. 300–301.
[Закрыть].
Допрос продолжается.
«– Сасаки Сэйго вы знали?
– Знал. Он работал 2-м секретарем японского посольства в Москве.
– Сасаки был полковником японской армии?
– Нет.
– А зачем же вы на предварительном следствии написали, что Сасаки – полковник?
– Сасаки был назван полковником следователем, но не мною.
– А Комацубара вы знаете?
– Знаю. Его я видел на парадах, и, кроме того, он был моим объектом наблюдения.
– Встречи вы имели с Комацубара?
– Никогда, хотя на предварительном следствии и показал, что имел с ним две встречи. Шпионажем в пользу Японии я никогда не занимался. Я был честным работником»[372]372
Там же. Л. 302.
[Закрыть].
На остальные вопросы Роман Ким отвечать отказался, заявив, что скажет всё в последнем слове. Вот оно:
«Граждане судьи. Я прошу обратить внимание на следующие обстоятельства. В обвинительном заключении указано, что я был арестован 2 апреля 1937 года по подозрению в шпионаже в пользу Японии. Это говорит за то, что в органах НКВД в момент моего ареста не было материалов, изобличающих меня в шпионской деятельности.