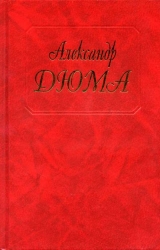
Текст книги "Приключения Джона Дэвиса"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
Среди присутствующих раздались восторженные крики, и в тот же миг, несмотря на официальную обстановку и присутствие судей, отец, все время находившийся рядом со мною, обнял меня и прижал к своей груди. Тотчас же офицеры «Трезубца», следуя примеру мистера Стэнбоу, бросились ко мне, и я очутился среди старых товарищей, не видевших меня почти год и теперь выражавших радость объятиями, рукопожатиями и бесконечными поздравлениями. Едва я успел поблагодарить судей, как меня с триумфом вынесли на палубу. Лодка «Трезубца» была пришвартована к борту флагманского корабля, мы спустились в нее, и я с почетом был отвезен в Портсмут.
Едва ступив на землю, я подумал о моей бедной матушке – она, не имея возможности последовать за нами на корабль, в смертельной тревоге ожидала исхода суда. Оставив отца и мистера Стэнбоу за подготовкой праздничного ужина в честь достопамятного события, я бросился к гостинице. В два прыжка, скорее выбив, чем открыв дверь, я очутился в комнате матушки. Преклонив колени, она молилась за меня. Не было нужды в словах: едва увидев меня, матушка протянула ко мне руки и воскликнула:
– Спасен! Спасен! О! Нет матери счастливее меня!
– И от вас зависит, – подхватил я, падая перед ней на колени, – стану ли и я самым счастливым сыном и супругом!
XXXI
Понятно удивление моей матери при этих словах: она тут же осведомилась, что это означает. Нельзя было упустить столь благоприятную минуту для объяснений, которые я преднамеренно откладывал до сих пор. Воспользовавшись отсутствием моего отца и товарищей, я рассказал о всех моих приключениях, начиная с той минуты, когда очутился на «Прекрасной левантинке», и до получения письма от матушки, призывавшего меня домой.
Мой рассказ вызвал у бедной матушки новую бурю чувств. Все это время я не выпускал из рук ее руки и чувствовал, как она слушала меня. При повествовании о битве и упоминании об угрозе для меня погибнуть в морской пучине она похолодела и задрожала; когда я перешел к рассказу о смерти Апостоли, из глаз у нее заструились слезы: хотя она его не знала, мой бедный друг не был ей чужим, ведь он спас мне жизнь. Наконец, я перешел от Икарии к Кеосу, поведал о своем прибытии на остров, о моем любопытстве, моих желаниях, моей родившейся любви к Фатинице. Я обрисовал матушке Фатиницу такой, какой она и была: ангелом любви и чистоты, сказав, что она полностью положилась на мое слово и полностью доверилась мне, когда я попросил отпустить меня за благословением родителей. Я молил матушку представить себе, как должна страдать бедная девушка, оставленная мною почти на пять месяцев без вестей и поддержки, черпающая силы лишь в убеждении, что ее любят так же, как любит она. Коленопреклоненно, покрывая поцелуями матушкины руки, я просил ее не вынуждать меня к неповиновению.

Моя матушка была так добра и так любила меня, что, хотя вся эта история по нашим западным нравам должна была казаться ей чрезвычайно странной, однако же я видел ясно, что дело мое наполовину выиграно. Для женщин в слове любовь таится неизъяснимое очарование, и если сначала, произнося его, они думают о своих чувствах, то потом их мысли переносятся на других. Но оставался еще отец: хотя в его чувствах ко мне не приходилось сомневаться, было вполне вероятно, что он не сдастся так легко. Капитан придавал большое значение знатности своего происхождения и надеялся, что я составлю соответствующую партию. Несмотря на то что род Константина Софианоса, как и у всех майниотов, восходил к царю Леониду, контр-адмирал, особенно со своими морскими предрассудками, счел бы его нынешнюю деятельность недостойной имени великих предков. Моя мать сразу поняла, что, появись Фатиница в Лондоне и затми она своей красотой остальных женщин, или, еще лучше, поселись она в милом уединении Вильямс-Хауза, никому и в голову не пришло бы отправиться на Кеос выяснять, чем занимается там потомок спартанцев. В довершение всего я убедил ее, что счастье всей моей жизни состоит в этом союзе, а разве есть для матери что-либо невозможное, если речь идет о счастье ее сына? Словом, она обещала пойти навстречу моим желаниям и взять на себя переговоры с отцом об этом важном деле.
В это время он пришел за мной вместе с Джеймсом: мистер Стэнбоу настоял, чтобы обед в честь моего оправдания проходил на борту «Трезубца», ссылаясь на свои бесспорные права как моего бывшего капитана, и мой отец уступил; впрочем, я подозревал, что ему самому хотелось еще раз побыть на корабле среди офицеров.
Было испрошено разрешение для Тома отужинать вместе с матросами, и оно было дано. Том пришел вместе с нами на судно, и я поспешил познакомить его с Бобом. Оба старых морских волка с первого взгляда поняли друг друга и через час уже сделались задушевными друзьями, словно двадцать пять лет плавали вместе. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни: меня освободили и оправдали, я вновь находился в кругу своих добрых, чистосердечных друзей, хотя не надеялся больше увидеть их. Капитан Стэнбоу был так рад, что с трудом держался в рамках своего звания. Джеймсу же не было нужды соблюдать внешние приличия, и он вел себя как одержимый. После обеда мой друг рассказал мне, что в день дуэли, видя, как я и мистер Бёрк сходили на берег, он усомнился в правдивости моего объяснения; по возвращении же Боба, поведавшего ему о нашем прощании и передавшего мои последние слова, его подозрения укрепились. Поэтому, едва капитан Стэнбоу появился на судне, он, сославшись на срочное дело, добился у него увольнения на берег вместе с Бобом, с тем чтобы вернуться ночью, не указывая точного времени. Вначале мистер Стэнбоу проявил несговорчивость, но Джеймс честью поклялся, что лишь исключительно серьезные причины вынуждают его обратиться с подобной просьбой, и капитан уступил.
Джеймс с Бобом подгребли к тому месту, где я сошел на землю и направился к кладбищу Галаты. Обходя его, они вскоре наткнулись на труп мистера Бёрка, и тут окончательно развеялись все их сомнения: в теле лейтенанта они увидели мою шпагу. Шпага мистера Бёрка валялась рядом. Внимательно осмотрев ее, мои товарищи убедились, что я не получил даже царапины – клинок был совершенно чист, и это вселило в них надежду, что я жив. Мой друг, как и я, не знал о новом назначении мистера Бёрка и, понимая, какая судьба мне уготована за нарушение морского устава, не сомневался, что я больше не вернусь на борт. Джеймс остался на кладбище, а Боб пошел поискать кого-нибудь, кто помог бы переправить тело мистера Бёрка на корабль. Вскоре он возвратился с греком; тот вел за собой осла; положив на него тело лейтенанта, они направились к воротам Топхане, где Джеймс велел лодке ожидать их.
Никто на корабле не сомневался, что мистер Бёрк пал от моей руки. На другой день явился Якоб с моими письмами, подтверждающими это. К великой радости экипажа, он сообщил, что я нахожусь вне досягаемости правосудия, которое могло бы по закону покарать меня.
Мистер Стэнбоу составил рапорт в самых благожелательных тонах, но факт оставался фактом, и его нельзя было смягчить. Я убил вышестоящего по званию, и во всех странах мира это каралось смертной казнью. Достойный капитан был очень печален до тех пор, пока не получил депеши, призывавшие его в Англию; к ним прилагалось уведомление о переводе мистера Бёрка старшим помощником на борт корабля «Нептун». В этой связи мое дело приняло уже известный читателю оборот и было ясно, что меня оправдают. Как известно, предсказания моих друзей сбылись.
Довольно поздно мы возвратились в гостиницу, где нас ждала матушка. Целуя ее, я вновь вручил ей свою судьбу и оставил ее наедине с отцом.
Я провел беспокойную ночь: решалось, что станется со мной дальше, причем теперь речь шла не просто о моей жизни, но о моем сердце. По правде говоря, я рассчитывал на доброту родителей, но сама просьба была столь неожиданной и необычной, что не пришлось бы удивляться, получив отказ. Утром я, как всегда, вошел к отцу в комнату. Он сидел в большом кресле, насвистывая свой любимый издавна мотив и постукивая в такт тростью по деревянной ноге, что, помнится, всегда служило признаком большой озабоченности.
– A-а! Это ты?! – воскликнул он, заметив меня, тоном, выдававшим, что ему все известно.
– Да, отец, – робко ответил я, ибо сердце мое билось сильнее, чем при самой грозной опасности, какой я когда-либо подвергался.
– Подойди сюда, – приказал отец тем же тоном.
Я приблизился; в эту минуту вошла матушка и у меня вырвался вздох облегчения: я понял, что мне подоспела помощь.
– В твои годы ты хочешь жениться?
– Отец мой, – ответил я улыбаясь, – крайности сходятся; вы вступили в брак поздно, и ваш союз был столь благословен Небом, что я решил жениться молодым, чтобы в двадцать лет насладиться таким счастьем, какое вы вкусили лишь в сорок.
– Но я был свободен. У меня не было родителей, которых моя женитьба могла бы огорчить. Кроме того, моя избранница – вот она, это твоя мать.
– А у меня, – возразил я, – у меня, благодарение Небу, есть добрые родители, я почитаю их, и они меня любят. Они не захотят сделать несчастье всей моей жизни, отказав мне в своем согласии. Я также хотел бы взять за руку мою возлюбленную и привести ее к вам, как вы привели бы мою мать к своим родителям, если бы они были живы, и, увидев ее, вы сказали бы то, что они сказали бы вам: «Сын мой, будь счастлив!»
– А если мы не дадим согласия, что вы скажете, сударь?
– Я сказал бы, что помимо сердца, я дал слово и знаю от вас, что порядочный человек – раб его.
– Ну, и что же дальше?
– Послушайте, отец, послушайте, матушка, – сказал я, став перед ними на колени и взяв их за руки. – Знает Бог, а после Бога знаете вы, что я покорный и почтительный сын. Я оставил Фатиницу, пообещав ей, что не пройдет и трех месяцев, как она увидит меня, и я уехал в Смирну, чтобы ждать там вашего согласия. Я хотел вам написать, но, получив ваше письмо, где матушка просила меня выехать немедленно, ибо, по ее словам, она умрет от беспокойства, если не увидит меня, я не колебался ни минуты и уехал из Смирны, не попрощавшись с Фатиницей, не повидав ее, не передав ей письма, ибо не знал, кому его поручить. Я не сомневался, что, веря моему слову, она не станет волноваться. Я уехал, и вот я у ваших ног. Разве до сих пор сын не сделал всего, а возлюбленный не принес жертвы? А теперь, отец, будьте и вы милосердны ко мне, как я был покорен вам, не заставляйте же мое сердце разрываться между большой любовью и безмерным уважением.
Отец встал, откашлялся, высморкался, снова затянул свой мотив, походил по комнате, делая вид, что рассматривает гравюры, затем вдруг резко остановился и, глядя мне в лицо, спросил:
– И ты говоришь, что эта женщина может сравниться с твоей матерью?
– Никакая женщина не может сравниться с моей матушкой, – воскликнул я, улыбаясь, – но после нее, клянусь, это самый близкий к совершенству образец!
– И она покинула бы свою страну, родителей и семью?
– Она оставит ради меня все, отец! Но вы и матушка, вы восполните ей все, что она покинет!
Отец сделал еще три круга по комнате, продолжая насвистывать, потом остановился:
– Хорошо, мы посмотрим, – сказал он.
– О нет, нет! Отец, – я бросился к нему. – Сейчас! Если бы вы знали! Я считаю минуты, как осужденный, ожидающий помилования. Вы согласны, правда, мой отец, вы согласны?
– Ох, негодник, – воскликнул он с оттенком непередаваемого нежного гнева, – разве я тебе когда-либо в чем-нибудь отказывал?
С криком я бросился к нему в объятия.
– Ну, хватит, хватит, черт возьми! Ты меня задушишь… И дай мне, по крайней мере, время увидеть моих внуков!
От отца я бросился к матушке:
– Благодарю вас, моя добрая мать, благодарю! Вам я обязан согласием отца. Сердцем своим вы угадали сердце Фатиницы, и вам, именно вам я буду обязан счастьем мужчины, как был обязан счастьем ребенка.
– Ну хорошо, – ответила матушка, – если тебе кажется, что ты мне этим обязан, сделай кое-что и для меня.
– Боже мой, приказывайте!
– Я тебя видела так мало, пробудь еще месяц с нами, а потом уезжай!
Ничего не могло быть естественней этой просьбы, но почему-то сердце мое сжалось и по телу пробежала дрожь.
– Ты мне отказываешь? – огорчилась она, умоляюще сложив руки.
– Нет, матушка! – воскликнул я. – Но, дай Бог, чтобы охватившее меня сейчас предчувствие не сбылось.
Я сдержал свое обещание и остался еще на месяц.
XXXII
На протяжении этого месяца по роковому стечению обстоятельств не было ни одного судна на Архипелаг; единственным государственным кораблем, отправлявшимся в Левант, был фрегат «Исида», который вез сэра Гудсона Лоу, полковника королевского корсиканского полка, в Бутренто, откуда он должен был следовать в Янину. Я поторопился получить право оказаться на борту этого корабля и легко получил его. Непростым путем предстояло мне добираться до места, куда я так спешил, но, попав в Албанию, я, благодаря письму лорда Байрона, сохранившемуся у меня, рассчитывал, получив охрану Али-паши, пересечь Ливадию, доехать до Афин, а оттуда на лодке переправиться на Кею. Мы решили пожить в Портсмуте до отправления «Исиды»: оно должно было состояться через двадцать семь дней после обещания, данного мною матушке, и спустя почти восемь месяцев после моего отъезда с острова. Но последнее меня не тревожило: я был уверен в Фатинице как в самом себе; она, разумеется, так же не сомневалась во мне, как я не усомнился в ней, и я ехал теперь, чтобы никогда более не разлучаться.
И на этот раз погода, казалось, потворствовала моему нетерпению. Через десять дней после нашего отплытия из Англии мы уже прошли Гибралтарский пролив, где сделали остановку лишь для того, чтобы набрать воды и передать почту, и снова пустились в путь. Вскоре по левому борту остались Балеарские острова, мы проплыли между Сицилией и Мальтой и вот, наконец, перед нами открылась Албания:
Мы пришвартовались в Бутренто, и, пока мои спутники приготовлялись, чтобы достойно представиться Али-паше, я нанял проводника и, не медля ни минуты, направился в Янину.
Предо мною открывалась страна, какой обрисовал ее поэт: дикие холмы Албании, черные скалы Сули, полуокутанная туманами вершина горы Пинд; ее омывали текущие из-под ледников ручьи, и она казалась прорезанной пурпурными полосами, перемежающимися с полосами темными. Следы обитания человека виднелись редко, и трудно было предположить, что мы приближались к столице столь могущественного пашалыка. Лишь кое-где можно было заметить одинокую хижину, лепящуюся под обрывом, или закутанного в белое пастуха, сидящего на скале, свесив ноги над бездной; он беззаботно оглядывал свое жалкое стадо, самый вид которого уже служил защитой от возможного нападения на него. Наконец мы преодолели череду холмов, за которыми укрылась Янина; увидели озеро, на берегах которого некогда возвышалась Додона и в котором отражались кроны священных дубов; затем спустились вниз по течению реки Арта, носившей в древности имя Ахеронт.
Именно этот уголок на берегах реки, посвященной мертвым, необычный человек, к которому я стремился, избрал местом своей резиденции. Отец его, Вели-бей, сжег заживо собственных братьев, Салеха и Мехмета, в доме, где он их запер, и стал первым агой города Тепелена. Его мать, Хамко, была дочь бея Коницы. Али Тепеленскому Вели-заде во времена нашего повествования исполнилось семьдесят два года. Молодость его прошла в неволе и нищете, ибо после смерти отца соседствующие с Тепеленой племена, опасаясь предприимчивого духа Хамко более, чем жестокости Вели, заманили ее в засаду и на глазах привязанных к дереву детей надругались над ней, вдовой, только что похоронившей мужа. Затем правитель Кормово бросил ее вместе с детьми Али и Шайницей в тюрьму Кардика. Они вышли оттуда лишь после того, как грек из Аргирокастрона, по имени Маликоро, заплатил за них выкуп в двадцать две тысячи восемьсот пиастров, не сомневаясь, что выкупает тигрицу с ее потомством.
Много лет прошло с тех пор, но Хамко сохранила в глубине сердца такую ненависть к своим врагам, словно все произошло только вчера. Терзаемая язвой, чувствуя приближение смерти, она пожелала дать сыну последние наставления и одного за другим слала к нему гонцов. Но смерть, будто мчась на крылатом коне, опережала их. Осознавая, что счастья увидеть своего возлюбленного отпрыска ей не дано, Хамко передала предсмертную волю Шайнице, и та на коленях поклялась исполнить ее. Из последних сил приподнявшись на ложе и призвав Небо в свидетели, она заявила, что восстанет из могилы и проклянет своих детей, если они забудут о ее завещании, после чего, разбитая этим последним порывом, упала замертво. Час спустя прибыл Али и, найдя свою сестру коленопреклоненной у смертного ложа, бросился к нему, полагая, что Хамко еще жива, но, увидев ее бездыханное тело, осведомился, не просила ли она что-нибудь передать ему.
– Да, просила, – ответила Шайница, – она оставила завет нашему сердцу, брат – истребить всех до единого жителей Кормово и Кардика, где мы были рабами. Если мы забудем об отмщении, над нами будет тяготеть ее проклятие.
– Спи спокойно, мать, – промолвил Али, простерев руку над телом, – все будет исполнено по твоему желанию!
Одно ее желание, по крайней мере, было выполнено в ту же ночь: застигнутый врасплох Кормово пробудился от смертных криков; все население, исключая лишь тех, кому удалось укрыться в горах, было вырезано; погибли все мужчины, женщины, дети и старики. Прелата, надругавшегося над Хамко, посадили на кол, терзали раскаленными щипцами и жгли на медленном огне между двумя пылающими кострами. С тех пор прошло тридцать лет; власть, влияние и богатство Али неизменно возрастали. Казалось, он забыл о своей клятве и разрушенная Гоморра тщетно ожидала, что за ней последует Содом. Все эти годы Шайница неустанно напоминала брату о предсмертной материнской воле, и всякий раз Али, хмуря брови, отвечал:
– Время еще не настало, всему свой час.
И, отводя глаза в сторону, отдавал приказы о новых бойнях и поджогах.
Завещанное матерью отмщение, похоже, подверглось забвению, пока однажды ночью Янина не пробудилась от женских воплей. Младший сын Шайницы, Аден-бей, только что умер, и обезумевшая мать, разодрав одежды, с растрепанными волосами и пеной у рта металась по улицам, требуя выдачи врачей, не сумевших спасти ее дитя. В единый миг закрылись все лавки и город окутался трауром. Среди всеобщего ужаса терзаемая скорбью Шайница пытается броситься в клоаку гарема – ее удерживают, она вырывается из рук стражников и мчится к озеру – ее останавливают. Тогда, видя, что ей не дают покончить с собой, женщина возвращается во дворец, молотком разбивает все свои драгоценности, сжигает кашемировые шали и меха и клянется в течение целого года не упоминать имени Пророка, запретив прислужницам блюсти пост рамазана, приказав избить дервишей и выгнать их из дворца, заставляет остричь гривы боевых коней своего сына и, выбросив диваны, отшвырнув шелковые подушки, бросается на пол на соломенную подстилку. Вдруг она внезапно вскакивает – страшная мысль пронзает ее: это проклятие неотмщенной матери поразило сына; Аден-бей умер, потому что Кардик еще существует.
Шайница выбегает из своего дворца, проникает в покои Али до самого гарема, где и застает брата за подписанием капитуляции кардикиотов. Обложенные со всех сторон в своих орлиных гнездах, они, тем не менее, выставляют некоторые условия: семьдесят два бея, главы самых именитых родов Шкиперии – все магометане и крупные вассалы короны – добровольно сдадутся Янине, где будут приняты с соответствующими их сану почестями; им оставят накопленные богатства, их семьям окажут уважение, а все без исключения жители Кардика станут рассматриваться как самые верные друзья визиря; былая вражда будет предана забвению, Али-пашу признают владетелем города, и он возьмет его под свое особое покровительство. Едва Али-паша успел принести клятву на Коране и скрепить договор своей печатью, как ворвалась Шайница с криком:
– Проклятие тебе, Али! Ты виновник смерти моего сына, ибо не сдержал клятвы, данной нашей матери. Я отказываю тебе в звании визиря, я не назову тебя больше братом, пока Кардик не будет разрушен, а его жители – истреблены. Отдай женщин и девушек мне, чтобы я поступила с ними по своему усмотрению. Я желаю спать только на матраце из их волос! Но нет, ты все забыл, как будто ты женщина, лишь одна я помню обо всем!
Али спокойно выслушал ее и, когда она умолкла, протянул ей договор о капитуляции, только что подписанный им. Шайница взвыла от радости: ей-то хорошо было известно, как блюдет ее брат обещания, данные врагам; она поняла, что ей будет предоставлена возможность растерзать город живьем, и с улыбкой возвратилась в свой дворец. Через неделю Али объявил, что сам отбывает в Кардик и, чтобы установить порядок в городе, учреждает суд, организуя при нем полицию для защиты жителей. Я приехал как раз накануне и, тотчас же отослав письмо лорда Байрона, уже вечером получил приглашение на аудиенцию, назначенную на следующий день.
На рассвете войска пришли в движение, за ними потянулась мощная артиллерия – дар Англии: горные пушки, гаубицы, ракеты Конгрева. Это был задаток, только что полученный Али после сделки в Парге. К назначенному часу я направился в резиденцию Али, которая представляла собой крепость, отделанную изнутри как дворец. Уже издали слышалось гудение этого каменного улья, вокруг которого беспрестанно сновали на быстрых скакунах гонцы, привозившие и увозившие приказы. Первый просторный двор, куда я вошел, был похож на огромный караван-сарай, где сошлись выходцы из всех стран Востока. Над толпой преобладали разодетые, подобно принцам, албанцы в своих фустанеллах, белых, словно снега Пинда, в кафтанах и куртках из малинового бархата, расшитых золотыми галунами, сплетающимися в элегантные арабески; их вышитые пояса несли целый арсенал пистолетов и кинжалов. Были там и дельхисы в высоких остроконечных шапках, турки в широких шубах и в тюрбанах, македонцы с их алыми шарфами, нубийцы цвета черного дерева – все это беззаботно играло и курило, поднимая голову лишь на глухой цокот лошадиных копыт под сводами, чтобы бросить взгляд на татарского гонца, мчащегося с очередным кровавым приказом.
Второй двор носил, если можно так выразиться, более домашний характер: пажи, евнухи и невольники отправляли свою службу, не обращая внимания ни на дюжину только что отрубленных голов, насаженных на пики, ни на полсотни других – отрубленных ранее и сложенных на земле наподобие ядер в арсенале. Пробравшись средь этих зловещих трофеев, я вошел во дворец. Два пажа встретили меня у двери и взяли у сопровождающих мои подарки паше: пару пистолетов и великолепный, сплошь инкрустированный золотом карабин работы лучшего оружейника Лондона. Затем меня провели в большую, роскошно обставленную комнату и оставили одного, без сомнения, чтобы сначала показать Али мои подношения, с которыми он, возможно, соизмерял свой прием. Через какое-то время дверь отворилась, вошел секретарь паши и осведомился о моем здоровье: это означало, что мои подарки возымели свое действие и мне обеспечена благосклонность хозяина. Секретарь сказал, что его господин беседует сейчас с французским посланником, но поскольку ему предстоит отъезд, то он, если я не возражаю, примет нас вместе. Я тут же согласился, ибо спешил не менее паши.
Секретарь пошел впереди, проведя меня анфиладой апартаментов, обставленных с неслыханной роскошью. Самые красивые ткани Персии и Индии покрывали диваны; по стенам висело великолепное оружие, на деревянных полках, точно в лавке на Бонд-стрит, стояли прекрасные вазы из Китая и Японии вперемежку с севрским фарфором. Но вот в конце коридора, обитого кашемиром, поднялся занавес из золотой парчи, и я увидел Али Тепеленского. Окутанный ярко-красной мантией, в бархатных темно-красных сапогах, он задумчиво опирался на покрытый резьбой боевой топорик, ноги его свешивались с софы, а пальцы рук были унизаны бриллиантами. Он о чем-то глубоко задумался, пока толмач переводил его речь г-ну де Пуквилю; создавалось впечатление, что слова, которые он произнес, уже улетучились из его мыслей и он казался непричастным к доносившимся до меня звукам. Драгоман говорил по-французски, и я прослушал всю речь.
– Мой дорогой консул, пришла пора рассеяться твоим предубеждениям против меня, – сказал он. – Да, прежде я был грозен и мстителен по отношению к врагам, но потому лишь, что знаю: вода может успокоиться, зависть же не успокаивается никогда; теперь я достиг венца своих желаний, стою на пороге завершения долгих трудов и хочу показать, что при всей жестокости и суровости мне не чужды человечность и сострадание. Увы! Прошлое не в моей власти, но отныне я стану стремиться к тому, чтобы ненависть остыла в моем сердце и чтобы месть занимала в нем как можно меньше места. Мною пролито слишком много крови, поток ее настигает меня, и я не смею обратить взор к содеянному.
Консул отвесил поклон и ответил, что он счастлив видеть его высочество в столь добрых чувствах и не может не поздравить его с этим как от себя лично, так и от имени правительства, представляемого им. В эту минуту раздался сильный удар грома; Али отбросил топорик, взял жемчужные четки, висевшие у него на поясе, и, опустив глаза, так что трудно было понять, продолжал ли он беседу, или принялся молиться, произнес длинный ряд слов; толмач тут же перевел их, и я понял, что это было заявление, а не молитва.
– Да, – говорил он, – да, ты прав, консул, я возжаждал богатства, и мои сокровищницы наполнены; я возжаждал иметь дворец, свой двор, роскошь, могущество, и я имею их. Сравнивая логовище отца с моим дворцом в Янине и моим домом на берегу озера, я чувствую, что должен быть на верху блаженства. Да, да, мое величие ослепляет народ; албанцы у моих ног и завидуют мне; вся Греция взирает на меня и трепещет; но все это, как ты и сказал, консул, – плод преступления, и я молю за это прощения у Бога, разговаривающего с людьми гласом грома. Итак, я раскаиваюсь, консул, мои враги в моей власти, и я хочу облагодетельствовать их; я превращу Кардик в цветок Албании, я проведу свою старость в Аргирокастроне; да, клянусь моей бородой, консул, таковы мои последние планы.
– Да услышит вас Бог, ваше высочество, – ответил консул, – я покидаю вас с этой надеждой.
– Подожди, – по-французски сказал Али, удерживая г-на де Пуквиля за руку. – Подожди, – и ласковым тоном, передававшим смысл слов, хотя я и не мог понять их, он добавил что-то по-турецки.
– Его высочество сказал, – перевел драгоман, – что изложенные тобой планы совпадают с его собственными и, если бы он смог получить Паргу, чего столько лет добивается и готов за это заплатить любую названную тобой цену, его последнее желание будет исполнено. Это даже не столько желание, сколько забота о том, чтобы дать счастье всем народам, над которыми Аллах поставил его властелином и для которых он станет пастырем.
Консул возразил, что на это он вынужден ответить его высочеству лишь то же самое, что и прежде: пока Парга состоит под покровительством Франции, жители Парги не будут иметь иных правителей, кроме избранных ими самими, стало быть, надлежит обратиться к ним и узнать, кого бы они хотели поставить над собой. Затем, отдав поклон Али, г-н де Пуквиль удалился.
Только проводив его глазами и злобно прошипев что-то сквозь зубы, Али заметил меня, стоявшего у двери. Он живо обернулся к драгоману и осведомился, кто я такой; тот перевел вопрос, секретарь, сопровождавший меня, приблизился к паше и, скрестив руки на груди и склонив до земли голову, напомнил, что я англичанин, который привез письмо от его благородного сына, лорда Байрона, и преподнес оружие, которое его высочество соблаговолил принять. Лицо Али тотчас же приняло выражение крайней доброжелательности, и красивая белая борода придавала ему особое благородство; затем, сделав знак секретарю и драгоману удалиться, он по-французски произнес: «Добро пожаловать, сын мой», что само по себе явилось большой милостью, ибо паша редко говорил на каком-либо языке, кроме греческого или турецкого.
– Я люблю твоего брата Байрона, направившего тебя ко мне, я люблю твою страну; Англия – мой верный союзник, она шлет мне хорошее оружие и хороший порох, тогда как Франция посылает лишь упреки и советы.
Склонившись в поклоне, я ответил на том же языке:
– Прием, оказанный твоим высочеством, дает мне смелость просить тебя об одной милости.
– Какой? – спросил Али, и легкое облачко беспокойства омрачило его лицо.
– Важное дело призывает меня на Архипелаг, для чего мне предстоит пересечь всю Грецию, но истинный властелин Греции ты, а не султан Махмуд, и поэтому я прошу у тебя охранную грамоту и небольшой отряд сопровождающих.
Лоб Али заметно разгладился.
– Сын мой, – ответил он, – будет иметь все, что он пожелает, но, прибыв издалека с рекомендацией столь высокородного вельможи, как брат твой Байрон, и вручив мне столь ценные дары, он не должен уехать, не погостив у нас хоть немного. Нет, сын мой будет сопровождать меня в Кардик.
– Я объяснил тебе, паша, что крайне срочное дело призывает меня; если ты желаешь быть великодушнее властелина, который предоставил бы в мое распоряжение все свои сокровища, то не удерживай меня и дай мне сопровождение и охранную грамоту, о чем я прошу тебя.
– Нет, – возразил Али, – сын мой поедет со мной в Кардик, а через неделю он будет свободен, получит охранную грамоту, как у казначея, и почетный конвой, как у военачальника. Но я хочу, чтобы сын мой увидел, как спустя семьдесят лет Али вспомнит об обещании, данном на смертном одре своей матери… О! Наконец-то они у меня в руках, негодяи! – воскликнул паша, хватаясь за боевой топорик с силой и живостью молодого человека. – Они у меня в руках, и, как я и обещал моей матери, я уничтожу их всех – от первого до последнего!
– Но, – вставил я, пораженный, – ты только что при мне говорил консулу Франции о раскаянии и милосердии.
– Тогда гром гремел, – отвечал Али.








