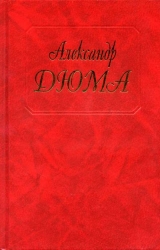
Текст книги "Приключения Джона Дэвиса"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 35 страниц)
XXVIII
Утром весь дом пробудился от звуков громкой музыки, несущихся с переднего двора. Я быстро оделся и выбежал на балкон. Предо мной предстала процессия во главе с группой музыкантов, за ними попарно шли крестьяне; двое первых несли на плечах козленка и барана с вызолоченными копытами и рогами, остальные – ягнят и овец; животные предназначались для стада будущей супруги. Затем следовали двенадцать слуг с большими крытыми корзинами на головах, полными тканей, украшений, драгоценностей и монет; шествие замыкали мужчины и женщины, поступавшие с этого дня в услужение к новобрачной.
Константин с Фортунато отворили ворота, и все прошли из внешнего двора во внутренний, а оттуда в домик, где перед Стефаной разложили дары, посланные женихом. Вскоре появился и он сам вместе со своею семьей. Женщин провели к невесте, мужчины остались в первой комнате. Через час нас пригласили к Стефане; она ожидала гостей, сидя на софе в низких покоях, где я еще не был; убранство их напоминало обстановку в комнатах Константина, но было еще изящнее.
За это время невесту одели, и следует отдать должное будущим прислужницам – они сделали все возможное, чтобы под причудливым нарядом скрыть ее красоту. Больше всего в этом странном туалете поразил меня трехъярусный головной убор, напоминающий бунчуки наших военных оркестров; основанием его служили волосы, а украшен он был позолоченной бумагой, цехинами и цветами; щеки Стефаны были набелены и нарумянены, пальцы унизаны множеством колец, а кисти рук разрисованы продольными красными и голубыми полосами.
Впрочем, рассмотрел я это только после того, как в поисках Фатиницы обвел взглядом все уголки комнаты и всех женщин; убедившись, что ее нет, я подумал, что она еще одевается, и принялся разглядывать невесту. Мне еще не удалось справиться с сильным впечатлением, произведенным ею, как появилась Фатиница.
На ней не было вуали; против обычая, она не была накрашена и никакие ухищрения не прятали ни единой черточки ее прелестного лица. О, как я был благодарен ей в душе за то, что она впервые явилась предо мной в своем первозданном очаровании и уже не было нужды отыскивать ее самое под причудливыми уборами, обезображивавшими большинство присутствующих женщин! Она обвела толпу гостей быстрым взглядом, на мгновение остановив его на мне. Никакие слова не могли передать бы того, что сказал ее взгляд.
В руках Фатиница держала по пучку золотых нитей разной длины, но каждая ниточка в одной руке точно соответствовала такой же нити в другой. Она протянула правую руку мужчинам, а левую женщинам; каждый вытянул одну нить, и те, у кого они были одной длины, на время свадьбы составляли пары. По окончании церемонии юноша отдавал девушке свою нить, и, если ей нравился избранник, она связывала обе нити воедино и возлагала их перед ликом Святой Девы в надежде, что источающая любовь небесную соединит на небесах то, что связалось на земле, – две жизни, символом которых были две золотые нити.
Когда подошла моя очередь, Фатиница, опередив меня, сама протянула мне нить, и я поспешил ее взять; потом, когда нити были розданы, все стали измерять их, разыскивая такие же: само собой разумеется, что случай оказался в согласии с моей любовью и что моя нить была такой же длины, как у Фатиницы. Затем самая юная подруга невесты взяла серебряный поднос и принялась обходить присутствующих, собирая подношения, как делают в католических храмах, где эти даяния предназначаются на церковные нужды или местным беднякам. Здесь же сбор делается в пользу невесты и каждый, вплоть до самого неимущего, по мере возможности вносит свой вклад.
Я, разумеется, выложил все, что было при мне. Окончив обход, девушка поставила поднос у ног Фатиницы. В бедных семьях подобное подношение порой составляет все приданое невесты, у богатых оно идет в дар Панагии. После этого появился священник, красивый старец-грек с лицом апостола, в великолепном старинном одеянии, с длинной белой бородой, скрывавшей губы; его сопровождали трое певчих: средний из них нес книгу, два других – свечи. Он обошел собравшихся, принимая знаки почтения и раздавая благословения, приблизился к сидевшей на софе невесте, взял ее за руку и подвел к отцу. Она опустилась перед Константином на колени, а он, простерши руки над ее головой, произнес:
– Я благословляю тебя, дочь моя! Будь доброй супругой и матерью, как та, которой ты обязана жизнью, ибо ты и сама дашь жизнь дочерям, и они со временем станут подобны тебе.
Затем отец поднял дочь и поцеловал ее.
Священник повернул Стефану лицом к востоку и вывел на середину залы, где к ней присоединился Христо; справа от него встал его брат, а слева от будущей супруги – Фатиница; по обеим сторонам поместились двое певчих с зажженными свечами в руках. Фортунато на серебряном блюде подал священнику золотые кольца, и тот благословил их, перекрестил ими лица брачующихся и трижды громко возгласил:
– Раб Божий Христо Панайоти обручается с рабой Божьей Стефаной!
Затем он тоже трижды повторил:
– Раба Божия Стефана обручается с рабом Божьим Христо Панайоти! Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
И надел кольца на их мизинцы.
На этом церемония обручения закончилась и началась церемония свадьбы.
Жених и невеста – Христо повернувшись к востоку, Стефана к западу – взялись мизинцами правых рук, все присутствующие опустились на колени, и священник по раскрытой книге – ее держал перед ним певчий – прочел молитвы; затем он взял два венца, перекрестил их и троекратно возложил на головы новобрачных, каждый раз провозглашая:
– Раб Божий Христо Панайоти венчается с рабой Божьей Стефаной. Во имя Отца и Сына и Святого духа!
Затем он передал один венец брату Христо, а другой Фатинице, и те держали их над головами супругов до конца церемонии, пока священник громко читал главу из Евангелия, начинавшуюся словами: «О ту пору была свадьба в Кане Галилейской».
Когда чтение Евангелия закончилось, он трижды подал молодым вино; в то время как они пили, присутствующие пели гимн: «Изопью я вина спасения и призову Господа».
Потом он взял за руку супруга, а тот – Стефану и все трое в сопровождении брата Христо и Фатиницы, продолжавших держать венцы, три раза обошли зал под пение «Исаия, ликуй, Святая Дева понесла во чреве и родила сына Иммануила, который есть Бог и есть человек, имя которому Восток».
Завершив третий тур, священник остановился и, повернувшись лицом к новобрачной, закончил церемонию словами:
– И ты, о супруга, плодись, как Сарра, и возрадуйся, как Ревекка!
После этого священник снова взял за руку Стефану и отвел ее к софе, где она сидела, когда он вошел. Через некоторое время объявили, что все готово для того, чтобы препроводить молодую в дом ее мужа, и все женщины, включая новобрачную, опустили вуали.
У ворот Стефану ждал конь; она села на него верхом, сзади примостился мальчик. Музыканты встали во главе процессии, за ними, приплясывая, шли девушки из бедных семей, и среди них была моя юная гречанка в шелковом платье; жонглеры, кривляясь и гримасничая, пели песни, вызывавшие громкий смех мужчин и, без сомнения, заставившие бы покраснеть женщин, не будь их лица скрыты вуалями. Позади верхом следовала новобрачная со своими подругами, а на некотором расстоянии гурьбой шли мужчины во главе с Константином и Фортунато, уже совершенно оправившимся от раны.
И вот мы подошли к дому новобрачного, одному из самых красивых на Кее. Ворота были украшены гирляндами, на усыпанном цветами пороге курились благовония, словно у входа в античное жилище. Распланирован он был примерно так же, как дом Константина, только вместо вооруженных слуг здесь в нижнем этаже жили мирные торговые приказчики. Мы пересекли галерею и вышли во внутренний двор, где нас ожидали городские бедняки: им предстояло доесть до последней крошки остатки свадебного ужина. Пройдя второй нижний зал, над которым располагались женские покои, мы очутились в саду, где уже был приготовлен пир.
Под низким длинным навесом из ветвей был разостлан на траве большой ковер, уставленный великолепными яствами с поистине гомерическим размахом: два целиком зажаренных барана, мясные блюда с овощами, а по краям ряды сладостей. Девушки, держа в руке золотые нити, сели первыми, поджав под себя ноги по-турецки; юноши отвязали прицепленные к пуговицам курток свои нити, доказывая тем самым право занять место напротив выпавшей им партнерши, и расположились в той же позе, не слишком удобной для меня; но я забыл об этом неудобстве, когда увидел перед собой Фатиницу.
Под оглушительные звуки музыки и песен, что самым наивным и причудливым образом перемежались духовными песнопениями, шумно протекал наш пир. Он длился несколько часов, и, хотя мне удалось перекинуться с Фатиницей лишь несколькими словами, я упивался наслаждением созерцать ее.
После десерта, когда благодаря винам Кипра и Самоса все чрезвычайно развеселились, начались танцы.
Моя золотая нить давала мне право быть кавалером Фатиницы, но, увы! Сносно танцуя джигу, я совершенно не знал греческих па, в чем пришлось признаться, добавив, однако, что я все равно в ее распоряжении, если это доставит ей удовольствие. Но Фатиница благородно отвергла мое предложение, и это послужило для меня большим доказательством любви: истинно любящая женщина никогда не выставит своего любимого в смешном свете.
Вместо меня она пригласила Фортунато: еще одно доказательство ее любви – не желая дать мне повод к ревности, она избрала брата.
Сам танец весьма любопытен; восходя к античным временам, когда его называли «журавль», он исполняется в честь Тесея, победителя Минотавра; в нем принимают участие семь пар юношей и девушек. Ведущие представляют Тесея и Ариадну; вышитый платок, который девушка передает своему партнеру, олицетворяет клубок ниток, врученный Ариадной Тесею у входа в лабиринт; сложные переплетения хоровода как бы изображают запутанные ходы хитроумного изобретения Дедала. Я сожалел лишь о платке, переданном Фатиницей Фортунато: ведь он мог быть моим, не будь я таким невеждой в хореографии.
Затем шли другие танцы, но Фатиница, сославшись на утомление, не принимала в них участия. Она села подле сестры и оставалась там все время, пока музыка не подала знак расходиться. Женщины завладели новобрачной и препроводили ее в талам; это была, по обычаю древних, самая красивая комната, где стояло брачное ложе с двумя громадными освященными свечами по бокам – они должны были гореть всю ночь. У порога все остановились и служка-пономарь окропил углы святой водою, дабы изгнать оттуда злых духов и оставить только добрых. По окончании церемонии Стефана вместе с ближайшей подругой и Фатиницей вошла в комнату. Через четверть часа обе девушки вышли, а молодые люди провели в спальню новобрачного через потайную дверь, задвинутую изнутри слабым засовом, так что ему как бы пришлось преодолеть символическую преграду. У этого народа, и наивного, и хитроумного одновременно, все полно аллегорий!
Свадьба закончилась; домой все возвращались уже без всякого порядка. Юноши предложили руку девушкам, вновь опустившим вуали. Моя золотая нить давала мне право вести Фатиницу, и я, наконец, ощутил ее прикосновение, легкое, точно крыло птицы, задевшей ветку. Кто мог бы поведать, о чем говорили мы? Не было произнесено ни слова о нашей любви, и все слова были полны любовью. Есть нечто чистое и потаенное в излияниях двух впервые полюбивших сердец. Мы беседовали о небе, о звездах, о ночи, но, подходя к дому Константина, я уже знал, что я самый счастливый мужчина на свете, а Фатиница знала, что она – самая любимая женщина.
На другой день все исчезло как сон: нам не могло представиться даже случайной возможности встречи и мы не могли изобрести никакого предлога для нее. Два-три дня я жил воспоминаниями, но время шло, и душу поразила столь же глубокая боль, сколь глубока была прежде радость. Целый день я искал возможность написать – вернее, переслать Фатинице письмо, но так ничего и не смог придумать. Мне казалось, что я схожу с ума.
Следующим утром голубка села ко мне на окно, и я вскочил от радости: гонец нашелся. Я приподнял ставни, и птица Венеры влетела в комнату, будто зная, чего от нее ждут. Взяв квадратик бумаги, я написал:
«Я Вас люблю и умру, если Вас не увижу. Сегодня вечером с восьми до девяти часов я буду гулять в саду и остановлюсь в восточном углу. Во имя Неба, ответьте мне хотя бы одним словом, подайте хоть какой-нибудь знак в подтверждение, что Вы сжалились надо мной».
Я привязал записку под крыло птицы; она полетела к окну своей хозяйки и скрылась за ставнями. Сердце мое ликовало, как у ребенка. Весь день меня попеременно охватывали то внезапная дрожь, то небывалый страх, что я ошибся, принимая поступки Фатиницы за проявления любви. Я не осмелился обедать вместе с Константином и Фортунато; нечто твердило душе, что, нарушив законы гостеприимства, я совершил дурной поступок и это приведет к беде. Наступил вечер. За час до указанного в записке времени я вышел, направился в сторону, противоположную саду и, сделав большой крюк, вернулся и присел у восточного угла.
Пробило девять часов; с последним ударом колокола к моим ногам упал букет: Фатиница догадалась о моем присутствии. Я бросился к цветам. Она не ответила на письмо, но что за дело, раз цветы были от нее! Внезапно я вспомнил, что на Востоке букет – тоже послание, он так и называется «салам», то есть «привет». Фатиница бросила мне примулы и белые гвоздики. Мне тотчас же стало казаться, что именно эти цветы я больше всех других любил в жизни, но, увы! язык их был неведом мне.
Тысячу раз я целовал их и прижимал к сердцу. Тщетно! Фатиница забыла, что в моей стране у цветов есть названия, есть аромат, но они немы. Она ответила мне, но я не сумел прочесть ее ответа, а из боязни выдать нашу тайну не смел ни к кому обратиться за помощью. Я возвратился к себе и, запершись, точно скупец, намеревающийся пересчитать свои сокровища, достал спрятанный на груди букет и развязал его в надежде найти там какую-нибудь записку. Но запиской были сами цветы: больше ничего.
Тут на память мне пришла моя гречаночка – она-то при всей своей бедности и скудоумии конечно же должна была знать этот магический и благоуханный язык. Завтра я узнаю, что Фатиница хотела сказать мне. Прижимая букет к сердцу, я бросился на диван, и золотые сны снизошли на меня. Пробудившись с рассветом, я поспешил в город. Жители его только начали вставать, и улицы были еще пустынны. Раз десять я прошелся по ним вдоль и поперек, пока не увидел ту, которую искал. Подпрыгивая от радости, она побежала мне навстречу: каждый раз, как мы встречались, я что-нибудь ей дарил.
На этот раз я дал ей цехин и сделал знак следовать за мною. Найдя укромное местечко, я достал с груди букет и спросил, о чем он говорит. Примулы означали надежду, а белые гвоздики – верность. Я протянул девочке еще один цехин и, попросив ее прийти завтра на то же место и в тот же час, радостный вернулся домой.
XXIX
Разумеется, у Фатиницы не было ни чернил, ни бумаги, и девушка, опасаясь вызвать подозрения, не осмеливалась попросить их, вот почему она, даже рискуя, что ее не поймут, отвечала мне цветами. Но теперь это не имело никакого значения: разве не было у меня своей переводчицы?
Еще не зная, прилетит ли за письмом посланница любви, я принялся за ответ, так непреоборима была потребность излить свое сердце на бумаге. Мое письмо было полно радости и вместе с тем сетований: я хотел лично сказать ей, как я ее люблю, даже если бы мне пришлось после этого умереть.
Не стану приводить здесь мое письмо – читателю может показаться, что оно от безумца. Фатинице – бедное дитя! – открывалась в нем вся моя душа, а это было обольщением более искусным, чем мог бы придумать даже сам Ловелас: бросала клич любовь, стремящаяся пробудить ответное чувство. Голубка запаздывала, тогда я снова развернул свое послание и исписал все пустые места; я был способен заполнить десять страниц заверениями в любви, клятвами в вечной верности и словами благодарности (признательность мужчин не имеет границ, пока они ничего не получили).
Тень голубиного крыла мелькнула за окном; наша голубка действительно стала настоящим почтальоном; я приподнял ставни, и птица тихо скользнула ко мне в комнату; казалось, она проникла в нашу тайну и боялась выдать нас. На этот раз ей передавалась не простая записка, а целое послание. Тяжелый груз! Однако сокращать его мне не хотелось, ведь оно не выражало и тысячной доли того, о чем я жаждал поведать; ежеминутно на память приходили тысячи важных мыслей. Свернув послание так, чтобы оно поместилось под крыло, я понял, что голубка не сможет подняться, и тогда мне в голову пришло написать еще одно и тем самым создать противовес грузу. Это была великолепная идея, и я тут же принялся воплощать ее в жизнь. Все получилось довольно удачно, и птица улетела.
Я не осмеливался обедать вместе с Константином и Фортунато. Как только хотя бы на минуту сердце мое переставало биться от безрассудной любви, разум предъявлял мне жестокие упреки. Я спустился во двор и, оседлав Красавчика, пустил его привычным путем; как обычно, он привез меня в мой любимый грот.
Я подозвал пастуха, пасшего свое стадо на склоне соседнего холма, купил у него хлеба и молока и весь день провел в гроте, предаваясь мечтаниям о Фатинице. Мне хотелось побыть одному, и если бы я встретил людей, то кинулся бы им на шею, называя их братьями и рассказывая, как я счастлив. Вернувшись вечером, я столкнулся во дворе с Фортунато и сказал ему, что объезжал окрестности, любуясь представшими предо мной чудесами.
За несколько минут до девяти я вышел за ограду сада и ровно в девять с последним ударом колокола, как и накануне, букет перелетел через стену и упал к моим ногам. На этот раз цветы были другими: стало быть, Фатиница прислала ответ на мое письмо, ведь и накануне не случай соединил примулу и белые гвоздики. Новый букет состоял из акации, дымянки и сирени. Нежные цветы с нежным ароматом конечно же означали нежный ответ.
Я унес их в комнату, и они провели ночь у меня на груди. На рассвете я спустился в город. Моя гречаночка уже была в условленном месте и, взглянув на букет, сказала, что Фатиница любит меня, но ее чувство полно страха и тревоги. Нельзя было ответить на мое письмо красноречивее. Этот очаровательный язык привел меня в восхищение, а придумавший его народ показался мне самым цивилизованным в мире. Я возвратился к себе и написал ответ:
«Преклонив пред тобой колени, я тысячу раз благодарю тебя, мой обожаемый ангел, за любовь, ставшую для меня настоящим безумием. Но откуда эти тревога и страх? Ты опасаешься, что я не люблю тебя так, как ты этого заслуживаешь? Ты тревожишься, что моя любовь окажется скоротечной? Но ведь она – сама моя жизнь, она у меня в крови, ею пронизаны все мои мысли, и, даже когда перестанет биться мое сердце и угаснет разум, мне кажется, моя любовь будет жить, ибо она моя душа, которую я ощутил в себе лишь в тот миг, когда увидел тебя.
Отбрось все страхи, моя Фатиница, перестань тревожиться, мой ангел, позволь увидеть тебя на один час, одну минуту, одну секунду, и, если после того как я устами, глазами, всем моими существом скажу тебе: “Я люблю тебя, моя Фатиница, я люблю тебя больше жизни, больше души, больше Бога”, если после этого ты все еще будешь бояться, – я откажусь от тебя, покину Кеос и уеду в другую страну не для того, чтобы забыть, что я тебя увидел, а чтобы умереть от того, что я тебя больше не увижу».
Два часа спустя Фатиница получила письмо, и вечером мне пришел ответ. То был один из тех красивых желтоватых цветков, что столь распространены в наших лугах (его название я забыл) и столь любимы нашими детьми – связывая их нитками, они делают из них мячи для игры. Вместе с ним были страстоцвет и лютик. Фатиница отвечала мне, что она тоже сгорает от нетерпения, но предчувствует, что любовь принесет нам много страданий.
Я пытался побороть ее странную мнительность, и это было тем легче, что мои доводы были и у нее в сердце. Разве могло существовать какое-либо угрожающее ей предзнаменование, чтобы оно не угрожало бы и мне? Так не лучше ли страдать вместе, чем в разлуке? Что же до трудностей, то их было легко преодолеть. Ничего не подозревавшие Константин и Фортунато не следили ни за мной, ни за ней, и с наступлением ночи мы могли встречаться в саду; для этого нужна была только веревочная лестница: я перебросил бы ее через ограду, и Фатиница закрепила бы один конец у подножия дерева, а я – другой за какой-нибудь выступ скалы. Если она согласна, то пускай пришлет мне букет гелиотропов. Голубка унесла под своим крылом этот прекрасный план.
Последние дни Константину и Фортунато должно было казаться, что меня охватила любовь к древностям, поэтому они не удивились, когда я ушел из дома сразу после завтрака и приказал оседлать Красавчика. Я отправился в город, купил веревку и поехал к гроту, где принялся мастерить лестницу. Это матросское ремесло было мне хорошо знакомо, и к концу второго часа она была готова. Я обмотал ее вокруг тела под фустанеллой и возвратился домой, рассчитав, что обед уже закончился.
Константин и Фортунато ушли осмотреть фелуку: уже около шести недель они бездействовали, и у этих отважных морских птиц снова начали отрастать крылья. Но мне было все равно, лишь бы меня оставили в покое и одиночестве. С наступлением ночи я отправился за моим букетом, но в этот вечер его не было, и я напрасно прождал у стены до часу ночи, хотя царило полное безмолвие и стояла такая тишина, что, казалось, можно было различить даже легкие шаги феи или дыхание сильфиды. Меня охватило отчаяние.
Я возвратился, обвиняя Фатиницу в том, что она меня не любит; кокетка, под стать западным девицам, она играла моей страстью, а теперь, когда эта страсть достигла апогея, испугалась и решила меня оттолкнуть, но было уже поздно: огонь разгорелся в пожар и мог потухнуть, только поглотив все. Целую ночь я провел за безумным письмом, где угрозы перемежались мольбами о прощении и любовными признаниями. Утром, как всегда, прилетела голубка, на шейке у нее висел венок из маргариток – символ печали, который она принесла мне от Фатиницы. Я порвал первое письмо и написал другое:
«Да, Вы грустны и расстроены, ведь Вы слишком молоды и чисты, чтобы Вам нравилось видеть страдания; но, Фатиница, не грустью и тоскою охвачен я, а отчаянием!
Фатиница, я люблю Вас, не скажу так, как может любить мужчина, ибо уверен, мужчина неспособен любить так, как я. Вы живете в моем сердце; Вы для меня то же, что солнце для бедных цветов, присланных Вами: вдали от светила они вянут и гибнут. Прикажите же мне погибнуть, Фатиница! О Боже мой! Это нетрудно, но не говорите мне, что я Вас больше не увижу. Сам Всемогущий Господь не воспрепятствует мне в этом, разве лишь поразит меня в этот самый миг.
Сегодня вечером я приду к углу стены, где напрасно вчера прождал Вас до часу ночи. Во имя Неба, Фатиница, не вынуждайте меня страдать и сегодня, как я страдая вчера; силы мои на исходе, сердце разрывается!
О, я узнаю, любите ли Вы меня!»
Сняв с голубиной шейки венок из маргариток, я привязал ей под крыло мое письмо. День показался мне длиной в вечность, не было желания никуда выходить. Я бросился на диван и притворился больным, в чем не составило труда уверить пришедших проведать меня Константина и Фортунато; меня лихорадило, голова горела.
Они хотели пригласить меня поехать вместе на Андрос, куда их призывали дела; я не стал уточнять, какие, но легко догадался, что речь шла о политике, и не ошибся: там созывалось совещание двадцати членов гетерии, к которой принадлежали Константин и Фортунато. Едва они вышли, как я приподнял ставни и насыпал на подоконник пшеничные зерна и крошки хлеба; через четверть часа прилетела голубка и унесла мое второе письмо:
«Сегодня вечером нечего опасаться, моя Фатиница; напротив, всю ночь я смогу провести у твоих ног: твой отец с братом уезжают на Андрос и вернутся лишь завтра. О моя Фатиница, положись на мою честь, как я полагаюсь на твою любовь».
Час спустя, услышав голоса матросов на берегу, я подбежал к окну, выходящему на море, и через ставни увидел Константина и Фортунато, садившихся в небольшой ял. С ними были двадцать мужчин, роскошью одежд и вооружения походивших более на князей, собирающихся посетить свои владения, чем на пиратов, под покровом тайн снующих между островами Архипелага. Я проводил взором их парус; дул попутный ветер, и он быстро растворялся вдали, пока совсем не исчез, словно улетевшая чайка. Я подпрыгнул от радости: меня оставляли одного с Фатиницей!
Спустилась ночь; мне не терпелось поторопить время. Я взял свою веревочную лестницу и вышел из дома. Если бы кто-нибудь встретил меня, покрытого бледностью, охваченного дрожью, то он подумал бы, что случай свел его с человеком, только что совершившим преступление. Но дорога была пустынна, и я благополучно добрался до угла стены. Колокол бил девять, и каждый его удар, казалось, разил меня прямо в сердце. С последним ударом через стену перелетел букет.
Увы! Кроме гелиотропа, в нем были цветы голубого ириса и аконита. Фатиница хотела сказать, что она полностью вверяет себя мне, полагается на мою честь, но душа ее полна угрызений совести. Я не сразу понял смысл букета, но ведь в нем был гелиотроп, означавший согласие, и я перебросил конец лестницы за стену. Кто-то слегка потянул его с той стороны, и через мгновение, дернув его на себя, я почувствовал, что он закреплен; оставалось только основательно привязать мой конец, чтобы лестница выдержала вес тела; затем с ловкостью моряка я влез на гребень стены и, не тратя времени на спуск, не рассчитывая высоты, не зная, куда лечу, устремился в сад и скатился к ногам Фатиницы прямо в клумбу, благоухающую нашим цветущим любовным алфавитом.
Фатиница вскрикнула, но, обняв ее колени, прижимая ее руки к сердцу, я разрыдался у нее на груди. Радость моя была столь велика, что походила на боль. Фатиница смотрела на меня с божественной улыбкой ангела, открывающего вам врата рая, или женщины, отдающей вам свое сердце. Она была спокойнее меня, но не менее счастлива: словно лебедь, парила она над бурей моей любви.
Боже, какая дивная ночь! Ароматы цветов, соловьиные трели, небо Греции и два юных сердца, охваченные чистой первой любовью. О! Время перестало существовать: самой вечности было бы мало, чтобы вместить в себя подобное счастье. Звезды постепенно тускнели, наступал рассвет, а я, как Ромео, не хотел замечать утренней зари. Пора было расставаться; я покрыл поцелуями руки Фатиницы, за минуту мы снова пересказали друг другу все, о чем проговорили целую ночь, и простились, пообещав снова свидеться на следующую ночь.
Я возвратился к себе разбитый от счастья и бросился на диван, желая перейти от действительности, если это только возможно, к еще более сладостным мечтам. До сих пор я не знал Фатиницы: эта девушка одновременно сочетала в себе и чистоту, и страстность; природа вырастила редчайший алмаз в нашем современном мире, где символом этого типа женщин считается Мадонна. У древних существовали Диана и Венера – целомудрие и сладострастие, но они не сумели придумать божества, соединившего в себе непорочность одной и чувственность другой. Весь день я писал – только на это я был способен, не видя Фатиницу, – время от времени подходя к окну и поглядывая в сторону Андроса; множество парусных рыбачьих лодок, подобно морским птицам, сновали между Теносом и Гиаросом, но ни одно не напоминало ял моих хозяев. Константин и Фортунато задерживались, ничто не предвещало их возвращения, мы могли надеяться еще на одну спокойную ночь.

О! Как теперь, томясь ожиданием, постигал я красноречивую мифологию древних, у которых существовали божества для дня, для ночи и для каждого часа, но они считали, что их еще совсем мало, чтобы олицетворять разнообразные и противоречивые желания смертных. Наконец, сгустились сумерки, настала ночь, загорелись звезды, и я вновь припал к ногам Фатиницы.
Накануне каждый из нас говорил о себе; сейчас каждый из нас говорил про другого. Я поведал ей о моем любопытстве, о моих желаниях, о днях, проведенных у окна. Она пережила то же самое; с того часа как Фатиница услышала рассказ о сражении, о том, как я ранил Фортунато и боролся с Константином, как бедный Апостоли, ныне взирающий на нас с высоты небес, спас меня из бурных волн и, наконец, как излеченный мною Фортунато привел меня сюда уже не врачом, а братом, – ее охватило страстное желание увидеться со мною, и, выждав несколько дней, она притворилась больной, чтобы меня к ней привели. Девушка поняла, что я не случайно прописал ей прогулки, когда нашла в книге ту самую веточку дрока, что предательница-голубка на следующий день извлекла у нее из корсажа. Она хотела, чтобы я говорил о себе, я же потребовал, чтобы она говорила только о себе, и пообещал, что выполню ее желание на следующий день.
Рассказ Фатиницы походил на исповедь ангела: типичное дитя Греции, она сплетала мирское с религиозным; веруя в могущество Святой Девы, она еще сильнее веровала в науку предсказаний. До встречи со мной она неизменно перед сном клала под подушку шелковый кошелек с тремя цветками – белым, красным и желтым, и утром, едва открыв глаза, прежде всего погружала свои пальчики с розовыми ноготками в кошелек, всю ночь покоившийся у нее под головой, и наудачу доставала один из цветков. От этого обычно зависело настроение целого дня: белый цветок сулил молодого, красивого мужа, и она была без ума от радости; красный означал, что ей предстоит стать женой пожилого и важного человека, и она задумывалась; наконец, желтый цветок означал, что к бедной девочке посватается старик, и день проходил без единой улыбки, без единой песни.
Целая глава в ее рассказе была посвящена снам, разгадывать их она считала делом чрезвычайной важности: так, от нее я узнал, что видеть кладбище считалось доброй приметой, купаться в прозрачной реке – тоже счастливый сон, но если во сне теряешь зуб или тебя укусит змея – это к смерти.
Впрочем, за всеми ее предрассудками скрывалась твердая, устоявшаяся основа; душу бедной девушки закалило перенесенное потрясение. Содрогаясь, вспоминала она жуткую картину Константинополя – охваченный огнем дом, утопающие в крови тела деда и матери, Фортунато и отец, вырывающие ее и Стефану из пламени, грозящие кинжалами руки. Это воспоминание иногда тучей проходило по ее лицу, заставляя бледнеть, стирая улыбку с губ, сменяя ее слезами. По воспитанию же Фатиница стояла много выше обычных женщин, которые в Греции редко умели читать и писать; итальянским языком она владела в совершенстве, а как музыкантша вполне могла бы блистать в салонах Лондона или Парижа.








