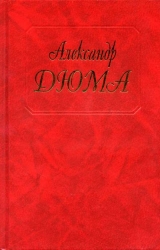
Текст книги "Приключения Джона Дэвиса"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
Вдруг осел внезапно отскочил в сторону, и священник решил, что у него за спиной происходит нечто необычное. Он тотчас же обернулся и увидел человека или, вернее, тень, которая целилась в него, требуя остановиться. Услышав и увидев это, добрый священник, несмотря на свой пожилой возраст, словно вновь обрел былую силу юности и, соскользнув с осла, служившего как бы заслоном между ним и призраком, бросился в ближайший лесок; он мчался, не ощущая усталости, пока не очутился среди своих прихожан на деревенской площади.
Можно догадаться, что у столь суеверного народа, как мальтийцы, подобная история не вызвала ни малейших сомнений, и, хотя страждущие бесплотные души не имеют обыкновения обращаться с просьбой помолиться за них, наводя при этом дуло ружья, никто не сомневался, что причиной этого было ремесло покойного. Английский же губернатор, отнюдь не страдавший излишней доверчивостью, оказался единственным, кто взял под сомнение рассказ доброго священника. Он приказал приступить к активным поискам, чтобы утишить страхи, вызванные явлением привидения. Полк получил распоряжение обыскать весь остров и в небольшой пещере обнаружил семь человек; по одежде в них признали семерых греков из порохового погреба. Как им удалось спастись от взрыва? Это, пожалуй, было еще большим чудом, чем появление призрака. Тотчас после задержания их спросили об этом. Не видя причин молчать, Иремахос, руководивший всей операцией, без колебаний дал необходимые объяснения.
С того времени как его, подвергнутого вместе с товарищами жестокой осаде в пороховом погребе, избрали командиром, он принялся вынашивать план бегства, сообщенный товарищам и получивший общее одобрение; они с мужеством, терпением и скрытностью, присущими их нации, принялись за дело. С этой минуты все их действия были строго рассчитаны и обдуманы, каждый шаг вел к достижению заветной цели. Осмотрев все сооружения, бывшие в их распоряжении, Иремахос понял, что можно довольно легко получить доступ к морю, проломив стену, идущую вдоль побережья. Они принялись за работу. Камень был мягче, чем они думали, и это значительно облегчало их труд. Но, разумеется, если они не появятся утром, осаждающие захотят выяснить, что с ними случилось, а поскольку на острове спрятаться негде, солдаты, увидев пролом в стене, скоро найдут их. Тогда Иремахос решил взорвать пороховой погреб, справедливо полагая, что в этом случае дыра не вызовет подозрений: ее появление свяжут со взрывом. И поскольку их самих сочтут погибшими, то прежде всего займутся разрушениями в форте и городе, а они за это время доберутся до побережья, где отыщут судно – либо стоящее на якоре, либо дрейфующее в море, – и оно доставит их на Сицилию. Как мы видели, этот план был полностью приведен в исполнение; мятежники представили свое бедственное положение в преувеличенном виде и столь успешно разыграли взятые на себя роли, что этой военной хитростью ввели осаждающих в полное заблуждение. В назначенный час они спустились с платформы и углубились в проход, предварительно устроив пороховой привод, который вел к пороховому погребу. С первым ударом колокола собора святого Иоанна мятежники подожгли привод и бросились в пролом. Их расчеты полностью оправдались: пролом исчез вместе со стеною и все поверили, что несчастные греки стали жертвой разбуженного ими вулкана. Но затем удача им изменила. Три дня они тщетно искали какую-нибудь лодку, пока наконец не увидели вытащенную на берег сперонару и попытались спустить ее на воду; за этим занятием их застал хозяин, своими криками поднявший тревогу в деревне. Беглецы едва успели скрыться в горах, окаймляющих эту часть побережья. И в последующие дни судьба не послала им никакого средства для спасения. Всю неделю они питались лишь раковинами, собранными на берегу, кореньями и листьями. Однако, испытывая такие лишения, беглецы избегали насилий, пока один из них, гонимый голодом, не пожелал разделить со старым священником припасы, которые тот вез с рынка; эта попытка окончилась плачевно для него самого и остальных мятежников.
Несчастных возвратили в город, еще кровоточащий после убийства их товарищей. Они слишком хорошо знали, какая участь их ожидает, но глаза на изможденных лицах блестели той самой отвагой, что превращает смертного в сына Небес, способного встать над всем, даже над злою судьбой. Их предали военно-полевому суду и через несколько часов приговорили к той самой смерти, какую им удавалось благодаря своей ловкости так долго избегать. Они приняли ее с тем же безграничным мужеством, какое проявили во время мятежа.
Итак, накануне нашего прибытия мальтийцы видели, как умирают последние из злосчастного полка «Фрохберг», и, как я уже говорил, это оставило в душах жителей Валлетты столь глубокое впечатление, что мы были буквально потрясены, войдя в город. Впрочем, наш поход на берег имел целью лишь пополнение запасов воды, и, сделав это, мы сразу же возвратились на «Трезубец». Дул попутный ветер, и тем же вечером паруса были подняты.
Попутный ветер сопровождал нас всю ночь и весь следующий день, и за все это время мистер Бёрк ни разу не показался на палубе. Вечером сменилась вахта, и мы, как обычно, отправились спать в батарею тридцатишестифунтовых орудий. Уже около часа каждый лежал в своем гамаке, убаюкиваемый колыханием ионических волн, как вдруг просвистело ядро, пробившее второй кливер, за ним другое, оставившее дыру в нашем фоке. По всей видимости, вахтенный задремал и мы наткнулись на судно, бросившее нам вызов. Что это было за судно – линейный корабль, фрегат, канонерская лодка? – мы не знали и не могли увидеть этого в ночной тьме. В тот же миг, когда я выбегал на палубу, третье ядро попало в кабестан. Первым, кого я встретил, был мистер Бёрк, отдававший какие-то противоречивые указания. Он был захвачен врасплох, и голос его звучал не столь твердо, как обычно. Вновь мне в голову пришла мысль, что этот человек на самом деле не храбр, что он лишь усилием воли восполняет недоданную ему природой силу духа. Я еще больше уверился в этом, когда услышал на юте уверенный и мужественный голос капитана:
– Поторопись! – кричал старый морской волк, обретая в грозных обстоятельствах невиданную энергию. – К оружию! По местам стоять! Свернуть гамаки! Где сигнальщик? Куда все подевались?
После нескольких минут не поддающейся описанию суматохи все пришло в порядок и команда заняла свои места.
За это время мы успели сманеврировать и уйти из поля зрения противника, но наш корабль приготовился ответить ему, и капитан отдал приказ идти на сближение. Через минуту мы увидели его белые паруса, подобные плавающим на небе легким тучкам. В тот же миг его борта озарились поясом пламени, мы услышали треск наших снастей, и на палубу упали обломки реев.
– Это бриг! – объявил капитан. – Ну, любезнейший, ты у меня в руках! Тихо на носу и на корме! Задний ход! Эй, на бриге! – кричал он в рупор. – Кто вы? Мы «Трезубец», семидесятичетырехпушечный линейный корабль его британского величества.
Сквозь гул моря донесся ответный голос, казалось исходивший от морского духа:
– А мы «Обезьяна», шлюп его величества.
– Черт возьми! – воскликнул капитан.
– Черт возьми! – повторила команда.
И все расхохотались, ведь в столкновении никто не пострадал.
Если бы не мудрая предосторожность капитана, мы ответили бы огнем по своим, так же как они вели огонь против нас, и, возможно, узнали бы друг друга, лишь идя на абордаж и крича ура на одном языке. Капитан «Обезьяны» прибыл к нам на борт, и его извинения были приняты за чашкой чая. Тем временем гамаки вновь опустились, сигналы были убраны, пушки возвратились на свои места, и часть команды, не занятая на вахте, спокойно возобновила прерванный сон.
XIII
Едва мы вошли в порт Смирны и подали опознавательные сигналы, как наш консул прислал к нам с лодкой письмо, в котором говорилось, что если мы следуем в Константинополь, то должны взять на борт некоего английского аристократа и сопровождающих его лиц; это было предписание лордов Адмиралтейства всем капитанам английских судов, находящихся в Леванте. Капитан ответил, что готов принять знатного пассажира, если тот поспешит, так как судно бросило якорь лишь для того, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь приказаний от правительства, и рассчитывает отплыть в тот же вечер.
Около четырех пополудни от берега отчалила лодка на веслах и направилась к «Трезубцу». Она доставила нашего пассажира, двух его друзей и слугу-албанца. На море малейшее событие вызывает любопытство и становится развлечением, так что весь экипаж высыпал на шкафутах встретить гостей. Первым, словно он имел на это неопровержимое право, поднялся красивый молодой человек лет двадцати пяти-двадцати шести, с высоким лбом, вьющимися черными волосами и холеными руками. На нем была украшенная вышивкой красная форма с необычными эполетами, облегающие лосины и высокие сапоги. Поднимаясь по трапу, он отдал слуге несколько приказаний на новогреческом языке, на котором говорил совершенно свободно. С первого же мгновения глаза мои не могли оторваться от него. Я смутно припоминал, что где-то уже видел это замечательное лицо (хотя никак не мог вспомнить, где именно), а звук его голоса еще более утвердил меня в этом. Ступив на палубу, пассажир приветствовал офицеров, поздравляя себя, что после годичной разлуки с родиной вновь находится среди соотечественников. Мистер Бёрк ответил на эту любезность со своей обычной холодностью и, согласно приказу, препроводил гостей в каюту капитана. Спустя минуту мистер Стэнбоу вышел с ними на полуют и, увидев, что там собрался весь офицерский состав, подошел к нам, держа за руку молодого человека в красном.
– Господа, – сказал он. – Я имею честь представить вам лорда Джорджа Байрона и двух его друзей, достопочтенных господ Хобхауза и Икинхэда. Думаю, излишне рекомендовать вам оказывать ему то уважение, на какое он имеет право по своему таланту и происхождению.
Мы поклонились. Я не ошибся: благородный поэт оказался тем самым молодым человеком, что покинул колледж Хэрроу-на-Холме в тот день, когда я поступил туда. С тех пор до меня не раз доносилась разноречивая, порой с оттенком недоумения молва о нем.
В самом деле, в то время лорд Байрон был более известен своими странностями, чем своим дарованием. У него находили множество свойств, одно необычнее другого, одинаково характерных как для безумца, так и для гения. Он, например, утверждал, что у него было только два друга – Мэтьюс и Лонг – и оба они утонули, но это обстоятельство не мешало ему со страстью предаваться плаванию. Часть своего времени он отдавал стрельбе и верховой езде. Его оргии в замке Ньюстед были известны во всей Англии – и сами по себе, и по составу участников. Лорд Байрон держал там медведя и собирал у себя жокеев, боксеров, министров и поэтов. Обрядившись в монашеские рясы, они пили бордо и шампанское не из чаши, а из черепа какого-то старого аббата. Что же до поэзии, то пока был известен лишь его поэтический сборник «Часы досуга», лучшие стихи которого, уже замечательные по изяществу и форме, еще не предвещали тех ослепительных чудес поэзии, какими впоследствии он одарит мир. Книга была подвергнута жестокому разносу в «Эдинбургском обозрении», и критика глубоко уязвила благородного поэта: заставший его за чтением статьи друг решил было, что он заболел или с ним произошло какое-то большое несчастье. Но вскоре душевное состояние лорда Байрона изменилось – на несправедливые обвинения он надумал отомстить сатирой. Так появилось его знаменитое «Послание к шотландским обозревателям». Утолив месть, устав от этого спора, тщетно ожидая, что оскорбленные придут требовать удовлетворения, лорд Байрон покинул Англию, посетил Португалию, Испанию и Мальту; на Мальте у него произошла ссора с одним офицером штаба генерала Окса, и в результате офицер пришел на место дуэли, где поэт с двумя секундантами уже ожидал его, и принес свои извинения. Лорд Байрон вновь сел на корабль, отбыл в Албанию и достиг ее через неделю, сказав прости старой Европе и христианскому миру. Он проделал сто пятьдесят миль, чтобы приветствовать в Тепелене знаменитого Али-пашу, а тот, зная, что к нему прибудет высокородный англичанин, повелел приготовить ему дворец и предоставить в его распоряжение оружие и лошадей.
Али принял гостя с особыми почестями и чрезвычайным дружелюбием. Быть может, грозный паша, распознав аристократа по вьющимся волосам, маленьким ушам и белым рукам, разглядел в нем также и черты, по которым узнается гений. Как бы то ни было, он воспылал к лорду Байрону таким великим расположением, что предложил поэту стать для него отцом, называл его сыном и постоянно посылал ему по двадцать раз в день фрукты, шербет и сладости. После месячного пребывания в Тепелене лорд Байрон отправился в Афины и, приехав в столицу Аттики, остановился у вдовы вице-консула, миссис Теодоры Макри. Покидая город Минервы, он оставил старшей дочери хозяйки стихи, начинающиеся словами:
Наконец, перебравшись в Смирну, в доме генерального консула, откуда он и прибыл к нам на корабль, поэт завершил две первые песни «Чайльд-Гарольда», начатые пять месяцев назад в Янине.
В тот же день, когда лорд Байрон поднялся к нам на борт, я напомнил ему, как он покидал колледж Хэрроу. Воспоминания о тех временах были по-особому дороги поэту, и он долго беседовал со мною об учителях, об Уингфилде, которого он знал, и о Роберте Пиле, своем друге. В первые дни знакомства мы говорили только об этом, но затем пришла очередь для более общих предметов: я поведал ему о судьбе несчастного Дэвида и бунте полка «Фрохберг», о котором он был наслышан лишь в общих чертах, ничего не зная в подробностях. Наконец мы перешли к более личному, но мне нечего было рассказать о себе, и разговор мы обычно вели о нем.
Насколько я мог судить по этим непринужденным беседам, характер благородного поэта являл собою смесь самых разнообразных, часто противоречивых свойств. Так, гордясь своим аристократическим происхождением, утонченной красотой и ловкостью в телесных упражнениях, он любил похвастаться своими успехами в боксе и фехтовании и крайне редко говорил о своем поэтическом призвании.
В ту пору лорд Байрон, несмотря на свою худобу, очень боялся располнеть – быть может, он желал походить на Наполеона; в то время он настолько сильно восхищался им, что даже подписывался его инициалами, ставя первые буквы своих имен – Н.Б. (Ноэл Байрон). Он много читал Юнга и сохранил пристрастие к мрачному и трагическому, что иногда выглядело забавным в отнюдь не поэтичной жизни современного общества. Он сам чувствовал это и порой, пожимая плечами, вспоминал незабываемые ночи в Ньюстеде, когда вместе с друзьями пытался воскресить то веселых сподвижников Генриха V, то разбойников Шиллера. Но тайно всем сердцем своим он жаждал чудес, в которых ему отказывала цивилизация, и явился искать их на этой древней земле, полной старинных легенд, среди кочующих народов, у подножия гор, носящих поэтические названия Афон, Пинд и Олимп. Здесь ему легко дышалось тем самым воздухом, в каком так нуждалась его душа. Он искал опасностей на пути, но лишь для того, чтобы не притупились его любознательность и мужество. Можно сказать, что после отъезда из Англии он шел, как наш корабль, на всех парусах.
Не считая меня, единственным живым существом на судне, возбудившим к себе его привязанность, стал подраненный мною в Гибралтаре орел. Птица обычно сидела на борту шлюпки, привязанной к подножию грот-мачты. Со времени появления лорда Байрона на «Трезубце» жизнь Ника заметно переменилась – высокородный лорд лично заботился о его довольствии и сам приносил ему пищу. Теперь она состояла из кур и голубей, зарезанных поваром где-нибудь подальше от глаз нашего пассажира: он не терпел, когда при нем убивали животных. Лорд Байрон рассказал мне, что, подходя к Дельфийскому источнику, он стал свидетелем редчайшего зрелища: в небо поднялась стая из двенадцати орлов. Лорду Байрону подумалось, что благородные птицы воздают ему почести как поэту, – ведь он находился у подножия горы, посвященной самому богу поэзии! – и в нем вспыхнула надежда, что потомство, как и эти благородные птицы, по достоинству оценит его поэтический дар. На берегу Лепантского залива близ Востицы он сам однажды подстрелил орленка, но, несмотря на все его заботы, птенец через несколько дней умер. Со своей стороны Ник, казалось, был крайне признателен за проявленное к нему внимание и при виде своего покровителя испускал радостный крик и бил крылом. Лорд Байрон подходил к нему доверчиво, как никто до этого, и ни разу Ник даже не поцарапал его. Поэт утверждал, что именно так следует вести себя с дикими хищниками. Подобное обращение принесло ему успех с Али-пашой, с собственным медведем и со своей собакой Ботсвеном (когда она издыхала от бешенства, он, не переставая, гладил ее и голыми руками утирал текущую из пасти ядовитую слюну).
Мне казалось, что лорда Байрона отличает большое сходство с Жан Жаком Руссо. Я как-то обмолвился об этом, но он столь поспешно отверг возможность такого сходства, что я понял, насколько неприятно ему это сравнение. Впрочем, по его словам, я не первый делал ему подобный комплимент (интонацией он подчеркнул слово, не уточняя, однако, ее значения); поскольку спор мог выявить какую-то новую черту характера поэта, я принялся настаивать на своем мнении.
– Мой юный друг, – сказал он, – вот и вас поразила болезнь, которой, кажется, я заражаю всех, кто меня окружает. Едва познакомившись, меня начинают с кем-нибудь сравнивать, а это весьма унизительно, ибо прежде всего доказывает, что я недостаточно оригинален, чтобы просто быть самим собой. Нет в мире человека, кто больше меня подвергался бы сравнениям. Меня сравнивали с Юнгом, Аретино, Тимоном Афинским, Гопкинсом, Шенье, Мирабо, Диогеном, Попом, Драйденом, Бёрнсом, Севеджем, Чаттертоном, Черчиллем, Кином, Альфьери, Браммелом, с озаренной изнутри алебастровой вазой, фантасмагорией и грозой. Что же до Руссо, то, может быть, на него-то я похожу менее всего. Он писал прозу, я – стихи; он вышел из народа, я – из аристократии; он был философом – я же ненавижу философию; он опубликовал свое первое произведение в сорок лет – я написал свое в восемнадцать; его первому произведению аплодировал весь Париж – мое же ругала вся Англия; он воображал, что целый мир восстал против него, – а судя по тому, как обращаются со мной, можно подумать, что это я ополчился на весь свет; он любил ботанику как науку – я же люблю цветы, потому что они мне просто нравятся; у него была плохая память – у меня прекрасная; он сочинял с трудом – я пишу без единой помарки; он никогда не ездил верхом, не умел обращаться с оружием, не плавал – я великолепный пловец, достаточно силен в фехтовании, особенно когда держу в руках клеймор; к тому же я хороший боксер – доказательством служит то, что однажды у Джексона я уложил Перлинга, вывихнув ему коленную чашечку; наконец, я приличный наездник, хотя и не слишком смелый, ибо уроки верховой езды мне пришлось усваивать лишь одним боком. Так что, как видите, сравнение несуразно и я ничем не напоминаю Руссо.
– Но, – возразил я, – ваша милость говорит лишь о внешнем несходстве, а не о близости души и таланта.
– А, черт возьми! – воскликнул он. – Было бы любопытно узнать ваше мнение на этот счет, мистер Джон.
– Могу ли я говорить без боязни задеть вас?
– Говорите, говорите.
– Хорошо. Такие черты Руссо, как сдержанность, неверие в дружбу, подозрительное отношение к людям, презрение к суждениям отдельных личностей и в то же время стремление доверяться массам, несомненно, свойственны и вашему гению. Наконец, Руссо создал нечто вроде памятника самому себе – я имею в виду его «Исповедь» – и увенчал им пьедестал своей гордыни на глазах у всего общества. Вы прочитали мне две песни из «Чайльд-Гарольда», и я вижу в них эскиз будущего памятника творцу «Часов досуга» и «Послания к шотландским обозревателям».
Лорд Байрон немного подумал.
– В самом деле, – сказал он, улыбаясь, – из всех моих судей вы ближе всех подошли к истине, на сей раз лестной для меня. Руссо был великим человеком, и я благодарен вам, мистер Джон. Вы должны написать в журнал, это вселило бы в меня надежду, что пусть хоть один раз обо мне вынесут суждение, какое я заслуживаю.
Фоном этой необычайно интересной для меня беседы служила прекраснейшая в мире страна: мы неслись среди тысяч островов, разбросанных, словно корзины с цветами, в море, видевшем рождение Венеры. Через несколько дней, несмотря на встречный ветер, мы прошли вдоль острова Хиос – земли благовоний, обогнули остров Митилини, древний Лесбос, и, наконец, неделю спустя после отплытия из Смирны возникла Троада с выступающим вперед, точно часовой, островом Тенедос. И вот перед нами открылся пролив, которому Дардан дал свое имя. Мы в восхищении любовались разворачивающимся перед нашим взором роскошным пейзажем, когда пушечный выстрел из форта прервал это созерцание; нас окликнули с турецкого фрегата, и две лодки с солдатами и офицером подошли к «Трезубцу» удостовериться, что перед ними не русское судно под английским флагом. Им разъяснили, какая на нас возложена миссия, но, тем не менее, нам предложили подождать у входа в пролив специального фирмана Порты, дающего разрешение приблизиться к священному городу. Сколь бы неприятной ни казалась эта формальность, пришлось подчиниться. Впрочем, двое на борту остались довольны этой задержкой: лорд Байрон и я. Он получил разрешение сойти на берег; я попросил доверить мне командование шлюпкой, которой предстояло переправить его. Капитан охотно дал свое согласие, и мы решили на следующий день посетить место, где находилась Троя.
Едва сев в шлюпку, лорд Байрон в нетерпении принялся просить меня поставить все паруса. Я заметил ему, что морская зыбь, поднятая ветром, и течения в проливе подвергают нас опасности опрокинуться; тогда он спросил меня, умею ли я плавать. Усмотрев в этом вопросе сомнение в моем мужестве, я предложил высокородному пассажиру на всякий случай снять верхнюю одежду и выставил на ветер всю парусину до последнего дюйма. Против моего ожидания и благодаря ловкости рулевого, наше суденышко, качаясь, кувыркаясь, то задирая нос, то показывая киль, доставило нас целыми и невредимыми на берег позади Сигейского мыса, называемого ныне мысом Янычаров.
В одно мгновение мы очутились на вершине холма, на которой, по преданию, покоились останки Ахилла и которую Александр Македонский во время своего похода в Индию, обнаженный, с венком из цветов на голове, трижды обежал кругом. В нескольких туазах от предполагаемой усыпальницы виднелись развалины какого-то города, и греческий монах не преминул сообщить нам, что это руины Трои. Но, к несчастью для него, мы уже заметили долину, где этот город некогда стоял между горой Ида и горами Кифкалази. В глубине долины протекал ручей: это был знаменитый Скамандр, который Гомер назвал Ксанфом и причислил к божествам. Немного выше деревни Энаи ручей сливается с Симоисом и только тогда, благодаря этому союзу, приобретает вид настоящей реки. Мы направились к этой долине и менее чем за полчаса добрались до нее. Лорд Байрон сел на обломок скалы; господа Икинхэд и Хобхауз, словно они находились в болотах Корнуэлла, принялись охотиться на бекасов; я же развлекался тем, что, измеряя ширину Гомерова потока, прыгал через него. Прошел час; лорда Байрона более чем когда-либо грызли сомнения, здесь ли находился город Приама; господа Хобхауз и Икинхэд подстрелили десятка два бекасов и двух зайцев, похожих на европейских, а я три раза упал, но не в воду, а в почтенную тину, где некогда возлежали юные девы после того, как они приносили в жертву реке свои первые ласки.

Итак, мы собрались все вместе и, поскольку лорд Байрон решил пройти по берегу Скамандра до того места, где он впадает в море, отправились в дорогу, приказав лодке идти вдоль берега и ждать нас у мыса Янычаров. Сделав остановку в Борнабахи для завтрака, мы продолжили путь и через час уже были у пролива в месте, где он стиснут между Новым замком Азии и Греческим мысом. Тут у лорда Байрона возникло желание переплыть, подобно Леандру, пролив, который был здесь шириной примерно в льё. Мы попытались отговорить его от этой затеи, но, чем горячее становились наши убеждения, тем сильнее он сопротивлялся. Возможно, не встретив возражений, лорд Байрон отказался бы от своего намерения, превратив его в шутку, ибо его упорство чем-то напоминало ребяческое или женское упрямство. Впрочем, оно было неотъемлемой частью его гения. Ему отказывали в таланте стихотворца – он заупрямился и стал поэтом; природа создала его хромым – он поборол недуг и прослыл одним из самых красивых мужчин своего времени. Мы твердили, что он разгорячен и только что позавтракал, а течение здесь быстрое; он же, весь покрытый потом, чуть было не бросился в воду. Заставить лорда Байрона переменить решение – все равно, что пытаться сдвинуть с места гору и перенести ее из Азии в Европу.
Впрочем, я добился его согласия дождаться прибытия нашей шлюпки, преследуя при этом две цели: во-первых, дать ему время остыть и переварить пищу, во-вторых, получить возможность сопровождать его на некотором расстоянии, чтобы быть рядом в случае опасности. Поднявшись на самое высокое место на берегу, я дал знак матросам подойти ближе. Когда я спустился, лорд Байрон уже сбросил одежду; через десять минут он был в открытом море, а наша лодка в десяти шагах следовала за ним. Примерно три четверти часа все шло прекрасно, и он, почти не уклоняясь, проплыл две трети пути. Но затем по тому, как пловец при каждом взмахе рук почти по пояс высовывался из воды, стало заметно, что он начал уставать. Крикнув ему об этом, я вознамерился подгрести ближе, но он головой сделал мне знак удалиться. Впрочем, подчинившись, мы ни на миг не теряли его из виду. Через сотню саженей лорд Байрон шумно задышал, и наша лодка незаметно приблизилась к нему. Вскоре тело перестало слушаться пловца, он двигался вперед толчками и два раза уходил с головой под воду; на третий раз лорд Байрон позвал нас на помощь. Мы протянули ему весло, он схватился за него, и через мгновение мы втащили его в шлюпку.
Тут-то и проявилась вся детскость его характера: он чувствовал себя подавленным, будто после большого несчастья, вернее будто стыдился своего поражения; его верхняя губа удивленно поднялась, и всю дорогу до корабля он обиженно молчал.
Однако лорд Байрон не считал себя побежденным, обвиняя в неудаче быстроту течения и утверждая, что, если бы выбрать не столь узкое место, расстояние было бы больше, но трудностей меньше. Итак, было решено, что на следующий день мы поедем в Абидос и лорд Байрон возобновит свою затею в том самом месте, где некогда Леандр переплывал пролив. С этим решением мы возвратились на судно.
С рассветом следующего дня мы сошли на берег и, взяв в деревушке Ренне-Кени лошадей, образовали кавалькаду, достойную гарцевать на парижских бульварах или на улице Корсо в день карнавала, оставили слева мельницы, хижины, тянущиеся вдоль берега, колодцы в виде фонтанчиков и вновь поднялись на побережье Азии. Стояла жаркая погода, хотя в Европе в это время уже начиналась зима. Горячая пыль, похожая на красный пепел, поднималась из-под копыт наших лошадей и возбуждала желание поскорее добраться до тени зеленой кипарисовой рощи, расположенной близ дороги. Но едва мы подъехали к ней на расстояние двух сотен шагов, как оттуда внезапно выехал отряд турецких всадников и выстроился в боевой порядок. Они испускали какие-то непонятные гортанные крики, которые, если не видеть воинов, трудно было бы принять за человеческие. Видимо, это был оклик «Кто идет!», но никто из нас его не понял, и, следовательно, мы не смогли ответить, лишь молча переглянулись, не зная, что делать; тут лорд Байрон, желая показать нам пример, пустил свою лошадь в галоп по направлению к деревьям, будто стремясь доказать свое право на владение спорным местом. Сочтя этот жест враждебным, турки мгновенно выхватили сабли из ножен и пистолеты из-за поясов. Лорд Байрон последовал было их примеру, но наш проводник бросился к его лошади и остановил ее. Потом он стремительно подбежал к туркам, объясняя им, что мы английские путешественники, прибывшие в Троаду с самыми мирными намерениями. Эти господа приняли нас за русских, с которыми Порта в тот момент находилась в состоянии войны, не дав себе даже труда подумать, каким образом мы смогли бы добраться из предместий Москвы к проливу Дарданеллы, ведь подобный вопрос потребовал бы нескольких секунд размышлений, а турки обычно пребывают в мечтаниях, зрелые размышления им несвойственны.
Впрочем, вид приготовившегося к бою эскадрона был необычайно воинствен и поэтичен: всадники, точно злобные звери, казалось, опьянялись запахом крови, их пышные усы топорщились. Вместо того чтобы стоять безмолвно, бесстрастно и холодно, как те людские стены, что являют собою армии нашего Запада, они горячили коней и, вероятно, возбуждали себя, подобно льву, рыкающему и хлещущему себя хвостом по бокам. В довершение всего их расшитые золотом куртки, колышущиеся тюрбаны и арабские лошади под бархатными седлами давали им в смысле живописности несравненное преимущество перед самыми красивыми французскими или английскими отрядами, какие мы когда-либо видели. Пока длились эти переговоры и был еще неясен их исход, я смотрел на лорда Байрона. Хотя он был очень бледен, глаза его сверкали и полуоткрытые губы позволяли видеть два ряда великолепных зубов. Скандинавский волк был готов сразиться с тиграми Востока. К счастью, этого не случилось: наш проводник объяснил все турецкому офицеру – и сабли скрылись в ножнах, пистолеты вернулись за пояса, угрожающе топорщившиеся усы повисли вдоль губ. Нам сделали знак приблизиться, и через минуту мы уже дружески беседовали с теми, кого только что считали врагами.
Лорд Байрон был прав, пожелав отдохнуть в роще. Благодаря ручейку, пересекающему ее, словно серебряная нить, здесь царила прелестная свежесть. Мы уселись на берегу этих безымянных вод, подобно Роне или Дунаю горделиво бросающихся в море, и вынули из корзины провизию: вина Бордо и Шампани и огромный пирог, начиненный убитой вчера дичью. Я не припомню места красивее, компании приятнее и завтрака чудеснее. Лорд Байрон пребывал в превосходном расположении духа. Он рассказывал нам о своей жизни в Тепелене, о своих отношениях с Али-пашой, о странной симпатии Али к нему и закончил тем, что предложил дать мне письма к Али; я принял их, даже не подозревая, что они могут быть мне полезны: меня больше привлекало иметь автограф нашего поэта, чем рекомендации старому паше.








