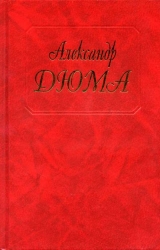
Текст книги "Приключения Джона Дэвиса"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
XIX
Это было великолепное турецкое кладбище, одно из самых красивых в Константинополе. Осененное темными елями и зелеными платанами, оно влекло к себе покоем и безлюдьем среди дневного шума. Я прислонился к надгробию юной девушки, являвшему собой усеченную колонну, увенчанную мраморной гирляндой роз и жасмина – этих всеобщих символов невинности. Время от времени скользила какая-то женская тень; широкое платье и длинное покрывало скрывали фигуру и лицо, видны были только глаза; она казалась тенью той, чей прах я попирал, и ее бесшумные атласные, расшитые серебром бабуши без каблуков и задников не оставляли следов на дорожке. Тишину нарушало лишь пение соловьев – они особенно почитаются на кладбищах Востока: мечтательные меланхоличные турки не устают слушать их, принимая за души умерших юных девственниц.
Сравнивая безмятежную тишину и свежесть этого дивного оазиса с суетой, гулом и зноем мира живых, я был готов позавидовать миру усопших – владельцев столь пышных деревьев и роскошных памятников, над которыми льются чудные соловьиные трели. Эти мечтания, которые я ощутил в себе впервые, вызвали у меня странное равнодушие к жизни; я вспомнил прошлое, службу на корабле, наказания, которым два или три раза подвергал меня мистер Бёрк, возымевший ко мне чувство беспричинной ненависти; лишь час прошел со времени обеда, с его пустой громкой болтовней, когда я сидел, играя роль героя. Я сравнивал нашу суетность со спокойствием жителей Востока; мы привыкли называть их варварами только потому, что они имеют обыкновение проводить свою жизнь сидя и покуривая над ручьем, не заботясь о пустых измышлениях науки или туманных кровавых теориях политиков. Ведомые животным инстинктом, который влечет их к женщине, оружию, лошадям и благовониям – тому, что предназначено для удовлетворения собственных капризов, они по окончании этой чувственной жизни отправляются почивать в оазисе, чтобы пробудиться в раю. Время с момента моего появления на свет и до сего дня показалось мне заполненным лихорадочной бездумной суетой. И хотя эти мысли не поколебали меня в моем решении, в душе воцарилось чувство безразличия к исходу его и я ощутил смелость, граничащую с беззаботностью. Подобное состояние духа давало мне несомненное преимущество перед соперником.
Неожиданно послышались приближающиеся шаги. Я узнал их и по охватившей меня легкой дрожи понял, что нет нужды оглядываться, дабы убедиться: это мистер Бёрк. Я словно видел его спиной. И лишь когда он приблизился на расстояние трех-четырех шагов, я повернулся и оказался лицом к лицу с врагом. Далекий от мысли столкнуться со мной в этот час и в этом месте, он, прочитав на моем лице неколебимую решимость, резко отступил назад и, не дав мне вымолвить ни слова, спросил, что мне угодно.
В ответ я рассмеялся.
– Ваша бледность, сэр, – воскликнул я, – доказывает, что вы догадываетесь, в чем дело, но я все же объяснюсь! Быть может, сэр, в среде рабочих Бирмингема или Манчестера, где вы родились, и принято, чтобы вышестоящие лица наказывали подчиненных ударами трости и те, сознавая свое бесправие, подчинялись этому без звука. Я этого не знаю и знать не хочу, но в кругу дворян – неудивительно, что вам, сэр, это неведомо, – принято, независимо от чина, отдавать и принимать приказания с учтивостью, которую один дворянин обязан оказывать другому, и оскорбительный жест ведет к возмездию, равному по силе нанесенному оскорблению. Итак, сэр, вы подняли на меня свою трость как на собаку или раба, а в кодексе дворянства подобное оскорбление карается смертью. У вас есть ваша шпага, у меня – моя. Защищайтесь!
– Но, мистер Джон, – ответил лейтенант, еще более побледнев, – вы забываете, что законы воинской дисциплины запрещают гардемарину драться с лейтенантом.
– Да, мистер Бёрк, – возразил я, – но они не запрещают лейтенанту драться с гардемарином. Вы лично располагаете таким правом, а это все, что мне нужно. Поверх законов дисциплины стоит закон чести, а ему подчинены все. Защищайтесь!
– Но, сэр, подумайте, что, каков бы ни был исход нашей дуэли, именно для вас он станет роковым, из сострадания к себе самому не настаивайте больше и позвольте мне пройти.
Он сделал шаг вперед, но я протянул руку, преграждая ему путь.
– Благодарю вас за напоминание, сэр, но оно излишне. За месяц, прошедший после того события, за какое я требую воздаяния, у меня было достаточно времени обдумать и принять решение, и оно результат зрелых размышлений, так что нет нужды возвращаться к этому. Защищайтесь!
– Но еще раз, – сказал мистер Бёрк прерывающимся голосом, – как старший по званию и возрасту, я обязан вам напомнить, что, вынув шпагу из ножен, вы подвергаете опасности не только свою карьеру, но и свою жизнь. Вы все еще настаиваете?
– Видя, сэр, ваш столь большой интерес ко мне, я поясню: если вы меня убьете – все ясно; военные законы, при всей их строгости, бессильны перед мертвым. Меня похоронят на таком же кладбище, как и это, и уж если ты мертв, то, согласитесь, лучше покоиться здесь, подобно тем, кого мы сейчас попираем ногами, под свежей сенью густых кущ, чем быть зашитым в гамак и выброшенным за борт на прокорм акулам. Если же, наоборот, я вас убью, то уже предусмотрен мой отъезд на одном из стоящих в гавани кораблей; куда он сегодня ночью увезет меня, я и сам не ведаю, но это не важно. Впрочем, у моего отца есть пятьдесят – шестьдесят тысяч фунтов стерлингов дохода, и я его единственный сын, так что в любом краю смогу жить безбедно. Будет потеряно, это верно, мое гардемаринское жалование, которое может возрасти до тысячи – тысячи двухсот французских франков, и шанс стать в сорок лет, как вы, лейтенантом. Зато, мистер Бёрк, я буду отомщен и, мстя за себя, я отомщу также и за Боба, и за Джеймса, и за Дэвида, и за весь экипаж. Ради этого одного стоит рискнуть. Итак, сэр, я освободил вас от всех забот обо мне, и нет более причин отказывать в требуемом мною удовлетворении. Будьте добры, приготовьтесь.
– Сэр, – возразил Бёрк, волнуясь все больше и больше, – я выше по званию и располагаю правом наказывать вас. Если уж это преступление, то как поддержать дисциплину на судне? Я имел право наказывать вас, ибо это соответствовало воинскому уставу, действующему на борту кораблей его британского величества, у вас нет оснований требовать за это удовлетворения.

Он сделал новую попытку пройти; я снова преградил ему путь.
– Но, сэр, – возразил я все так же спокойно, только с бо́льшим презрением, – я требую у вас удовлетворения не за наказание, а за оскорбление, и меня возмущает не арест, а то, что вы подняли на меня трость.
– Но, сэр, если я сделал это машинально и теперь признаю, что был не прав, то вам нечего возразить.
– Напротив, сэр, у меня есть что возразить. Я уже заметил ранее, хотя и не желал говорить об этом: вы – трус.
– Но, сэр! – закричал Бёрк, мертвенно побледнев от гнева. – Сейчас вы наносите мне оскорбление, и теперь я требую воздаяния за него. Я дерусь с вами завтра, сэр.
– Вы хотите выиграть время, чтобы оповестить власти и, конечно, не прочь посоветоваться с секундантом?
– Вы полагаете, сэр…
– От вас всего можно ожидать.
– Вы ошибаетесь, сэр. Единственная причина, почему я прошу перенести дуэль, – это то, что я никогда не ступал ногой в фехтовальный зал и на шпагах у вас передо мной большое преимущество; на пистолетах – пожалуйста.
– Великолепно! Ваше возражение мною предусмотрено, – ответил я, вынимая из карманов пистолеты. – Вот то, что вы хотите, сэр; вам нет необходимости ждать до завтра, оба пистолета заряжены одинаково, выбирайте.
Мистер Бёрк покачнулся, лицо его покрылось холодным потом; казалось, он вот-вот упадет.
– Но это западня! – после минутной паузы воскликнул он. – Это убийство!
– От страха вы начинаете бредить, сэр. Здесь есть лишь один убийца – тот, кто по лживому рапорту толкнул несчастного в бездну отчаяния; можно убить разными способами, и самое подлое из всех убийств – то, что прикрывается видимостью законности. По отношению к вам это не будет убийством, сэр, вот Дэвид был убит, и убили его вы. Начнем, начнем, мистер Бёрк. Немного мужества во имя мундира, который ношу и я.
– Я не стану драться без секундантов, – заявил мистер Бёрк.
– Тогда я лишу вас чести, сэр; с момента моей первой угрозы я уже начал нашу дуэль и тем навлек на себя кару. Я не вернусь на корабль. Но завтра кто-то явится от моего имени и принесет подписанное мною письмо, где будет изложено все, что произошло между нами. Одно из двух: или вы не станете опровергать его, и тогда окажетесь объектом всеобщего презрения, или опровергнете, а так как мой посланец вам не подчинен, вам придется – подумайте хорошенько – представить удовлетворительные объяснения. В противном случае вас выгонят – понимаете, сэр? – выгонят из английского флота как труса и подлеца.
Я шагнул к нему.
– С вас сорвут эполеты, как сейчас сорву их я.
Я сделал второй шаг.
– Вам плюнут в лицо, как сейчас плюну я.
Я сделал третий шаг к нему и, подойдя почти вплотную, выбросил вперед руку, показывая, что мои угрозы не пустой звук.
Отступить было уже невозможно; мистер Бёрк выхватил шпагу, я отшвырнул пистолеты и вынул свою. Клинки наши скрестились. Он стремительно бросился вперед, рассчитывая застать меня врасплох, но советы Боба не прошли даром: я был начеку.
После первого выпада мне стало ясно, что мистер Бёрк солгал, ему основательно было известно искусство, которым он, по его словам, никогда ранее не занимался. Признаюсь, я обрадовался: это ставило нас в равное положение и превращало дуэль в Божий суд. Единственное мое преимущество состояло в необычайном хладнокровии, овладевшем мною после странных размышлений, предшествовавших нашей встрече. Впрочем, мистер Бёрк не потерял самообладания: он понял, что наша дуэль не ограничится легкой царапиной и, чтобы спасти свою жизнь, ему предстояло отнять мою.
Минут пять мы обменивались ударами – и шаг за шагом – настолько сблизились, что дрались почти столько же рукоятками шпаг, сколько и клинками. Скорее всего, мы оба ощутили невыгодность этой позиции и одновременно отступили назад, став недосягаемыми друг для друга, но я тотчас шагнул вперед, сократив разделяющее нас расстояние.
И тут мистер Бёрк, как было свойственно ему по натуре и как это уже не раз случалось с ним во время шторма или боя, робкий в первый момент, из гордости или по необходимости обрел расчетливую храбрость.
Я уже говорил, в нем никто не подозревал таланта фехтовальщика, а он был очень силен в этом искусстве; но и меня наставляли в нем отец и Том, отнюдь не пренебрегавшие этой стороной моего воспитания, что также явилось открытием для мистера Бёрка и вызвало у него некоторое замешательство. Его рука была сильнее моей, зато моя оказалась более ловкой, и, воспользовавшись временно охватившей его растерянностью, я потеснил его. Он отступил и потерял преимущество. Я удвоил усилия; наши шпаги вились как два разгоряченных играющих ужа, и пару раз мой клинок задел его концом, слегка порвав мундир на груди. Мистер Бёрк снова отступил, но, надо признать, сделал это так, словно упражнялся в фехтовальном зале. Однако, отступая, он отклонился от прямой линии, так что шагах в трех от него оказалась могила. Я теснил его все более и более, и теперь его шпага задела мое лицо, окрасившееся струйкой крови.
– Вы ранены, – бросил он.
Я ответил улыбкой и, шагнув вперед, вынудил его сделать еще один шаг назад; я не давал ему ни минуты передышки и очутился так близко от него, что он едва мог орудовать шпагой; только отскочив назад, он спас себя от моего удара, но я добился своего: мистер Бёрк был прижат к надгробию. Далее отступать ему было некуда.
Наш поединок достиг высшего напряжения – до сих пор мы, казалось, только вели легкую игру. Пару раз я ощутил холод его клинка, но и моя шпага неоднократно задевала его. Никто из нас не проронил ни звука – словам не нашлось места между клинками наших шпаг. Наконец, сделав сильный ответный выпад, я ощутил странное сопротивление; мистер Бёрк вскрикнул, моя шпага пронзила его тело, и ее плохо закаленный конец загнулся, наткнувшись на мрамор памятника. Извлечь ее стало невозможно. Я отскочил назад, оставив шпагу в теле мистера Бёрка. Но это была излишняя предосторожность: его рана была слишком тяжела, чтобы он смог ответить мне. Правда, он попытался сделать шаг вперед, но, чувствуя, как силы покидают его, выпустил из рук шпагу и упал, вскрикнув снова и ломая руки от ярости.
Признаюсь, гнев мой мгновенно испарился, уступив место состраданию. Я поспешил к нему. Скорее, срочно освободить его от клинка! Я предпринял вторую попытку, но не мог извлечь шпагу из тела, хотя он и сам обеими руками пытался вытащить ее. Это последнее усилие оказалось для него роковым; он раскрыл рот, будто хотел что-то сказать, на его губах показалась кровь, глаза выступили из орбит; после двух-трех конвульсий тело его напряглось, послышался предсмертный хрип, и он испустил дух.
Убедившись, что он мертв и что я не могу уже ничем помочь ему, я подумал о собственной безопасности. Пока мы дрались, опустилась ночь. Я подобрал пистолеты – великолепное оружие, которым я дорожил, – и, покинув кладбище, направился к дому Якоба. Как мы и уговорились, Якоб меня уже ожидал. Он нашел неаполитанский корабль, направляющийся на Мальту, в Палермо и Ливорно, снимавшийся с якоря следующим утром, – как раз то, что мне было нужно. Он заказал на нем каюту и предупредил, что я прибуду ночью. Вопрос с одеждой разрешился с таким же успехом: на диване меня ожидал великолепный костюм паликара; другой, поскромнее, висел на стуле.
Я быстро снял мундир, чтобы меня не узнали, и надел один из моих новых костюмов, который, казалось, был сшит прямо на меня. Вместе с саблей и ятаганом новый гардероб обошелся мне в восемьдесят гиней, я добавил еще семьдесят к тем двадцати пяти, которые дал утром и, таким образом, рассчитался с Якобом. Я просил его также заняться моим переездом, что он тоже исполнил; в одиннадцать часов у подножия башни Галаты нас должна была ждать лодка.
За оставшееся время я дополнил приготовленное раньше письмо к отцу постскриптумом, где, рассказав о дуэли и объяснив мотивы моего бегства, попросил его открыть мне кредит в Смирне. Поскольку мною было принято решение остаться жить на Востоке, меня очень устраивал этот расположенный в самом его центре город со столь многоязычным населением, где я мог легко затеряться.
Я написал также лорду Байрону, поблагодарив его за доброжелательность по отношению ко мне и умоляя использовать свое влияние среди лордов Адмиралтейства, если во время вероятного процесса он окажется в Англии. Лорд Байрон знал мистера Бёрка, знал, какую ненависть питал к нему экипаж, и знал ее причины. Я не лелеял надежды, что его авторитет повлияет на решение судей, но его свидетельство могло произвести благоприятное впечатление на общество. Я вручил это письмо Якобу вместе с письмами отцу и мистеру Стэнбоу. Он с утра должен был отправиться на борт «Трезубца» и, передав их, указать, где можно найти тело мистера Бёрка.
В назначенный час, завернувшись в плащи, мы вышли из дома и направились к башне Галаты. Там нас ждала лодка; не теряя времени, мы сели в нее. Время приближалось к полуночи; корабль стоял на якоре в Халкедонском порту вблизи Фанарикиоска; нам предстояло пересечь пролив по диагонали. К счастью, матросы оказались превосходными гребцами, и буквально в мгновение мы пронеслись по Золотому Рогу, обогнув мыс Сераль.
Ночь стояла прозрачной, море было спокойным. Посреди пролива, несколько впереди башни Леандра, величаво вставал наш красавец-корабль; его мачты, штаги и даже мельчайшие снасти четко рисовались в опоясывающем их круге лунного света. У меня защемило сердце. «Трезубец» был моей второй родиной. Вильямс-Хауз и «Трезубец» составляли весь мой мир. После отца, матери, Тома, обитавших в Вильямс-Хаузе, все, что я больше всего любил, находилось на борту «Трезубца». Там я оставил мистера Стэнбоу – этого доброго достойного старика, которого я почитал как отца; Джеймса, чью искреннюю и верную дружбу невозможно забыть ни на мгновение, и, наконец, Боба, настоящего моряка, у кого под суровой внешностью таилось золотое сердце; я скорбел даже о самом корабле.
По мере нашего приближения он вырастал на наших глазах как по волшебству, и вскоре мы очутились так близко от него, что в прозрачной ночной тиши вахтенный офицер смог бы услышать меня, произнеси я вслух «прощай», тихонько посылаемое моим добрым товарищам. После празднества, данного в мою честь накануне, они не подозревали даже, что в это самое мгновение я находился рядом с ними и бежал от них навсегда. Одно из мучительнейших переживаний моей жизни! Я не сожалел о содеянном, ибо сделал это по зрелом размышлении и следуя неколебимому желанию, но приходилось признать, что одним ударом я разбил свою жизнь и поменял прочное будущее на неизвестность. Каким будет оно, полное риска грядущее? Один Бог знает.
Между тем мы оставили «Трезубец» позади, и в свете маяка перед нами стали вырисовываться корабли, стоящие на якоре в Халкедонском порту. Якоб указал мне на далекие мачты моего нового судна. Хотя пребывание на нем должно было быть кратким, я не смог, приближаясь к нему, отказать себе в удовольствии взглядом оценить его оснащение. После «Трезубца» – одного из лучших кораблей его британского величества – сравнение было не в пользу неаполитанского судна. Однако, как мне представилось, построили его довольно умело, и он отвечал требованиям судовладельцев, хотевших иметь торговый быстроходный корабль. Его подводная часть была достаточно широка, чтобы вместить большое количество груза, и достаточно узка, чтобы мощно рассекать волны. Мачты были установлены так же, как и на всех кораблях, ходивших в Архипелаге: они были немного ниже обычного, чтобы корабль мог в случае необходимости укрываться за островные скалы. Впрочем, эта предосторожность, предпринятая из-за пиратов, которыми в те времена кишело побережье Эгейского моря, была оправданной для судна близ земли и при наступлении ночи, но становилась недостатком, если приходилось спасаться бегством в открытых водах. Все эти непроизвольно возникшие заключения были сделаны с быстротой и зоркостью моряка, который, прежде чем ступить на борт судна, уже знает его положительные и отрицательные свойства. Поднимаясь на палубу «Прекрасной левантинки», я понимал, как мне себя вести; оставалось познакомиться с командой.
Как и сказал Якоб, на борту меня ждали. Едва я ответил часовому, окликнувшему меня по-итальянски, «passeggero»[17]17
«Пассажир» (ит.).
[Закрыть], как мне тотчас сбросили веревочный трап. Перевозка багажа также не составила трудностей: подобно античному философу, я все свое нес с собою. Уплатив гребцам и попрощавшись с Якобом, послужившим мне хотя и не бескорыстно, но верно, что встречается не так уж часто, я с привычной легкостью моряка поднялся на мой новый корабль, где на палубе был встречен человеком, проводившим меня до каюты.
XX
После событий прошедшего дня ничего нет удивительного в том, что я спал плохо и, хотя лег в три утра, с рассветом уже поднялся на палубу. Шла подготовка к отплытию: капитан приступил к необходимым распоряжениям, у меня же появилась возможность познакомиться с командой.
Капитан был родом из Салерно, и первые же отданные им приказания показывали, что город, где он родился, более славен своим университетом, чем школой мореплавания. Экипаж состоял из калабрийцев и сицилийцев. Так как «Прекрасная левантинка» специально предназначалась для торговли на Архипелаге, она была полувоенным, полуторговым судном, что делало ее палубу какой-то кокетливой, одновременно грозной и чуть смешной. Военный вид кораблю придавали два фальконета и длинная восьмифунтовая пушка; ее можно было перекатывать на лафете к носу и корме, к левому или правому борту. Поднимаясь на палубу, я заглянул в арсенал и нашел его весьма удовлетворительным: он насчитывал около сорока ружей и дюжину мушкетонов, сабли и абордажные топоры в достаточном количестве, чтобы вооружить в случае необходимости всю команду.
До восхода солнца оставалось часа два, когда подул свежий восточный бриз, благоприятный для снятия с якоря; поднявшись на палубу, я обнаружил также, что кабаляринг установлен на кабестане и прикреплен к тросу линьками. Половина троса была освобождена от кнехтов, и якорь крепился к кораблю только кабалярингом. Чтобы читатель лучше представил себе операцию, в которой мне довелось принять участие, я попытаюсь объяснить, что такое кабаляринг и кабестан.
Кабаляринг – канат, охватывающий барабан кабестана; он крепится к тросу только до большого люка, где линьки отвязываются, и вновь появляется на другой стороне судна, где крепится к клюзу; трос опускается в трюм и присоединяется сцепным устройством к грот-мачте.
Кабестан же – деревянный цилиндр, помещенный на юте; его приводят в движение проходящие через него вымбовки, лучами расходящиеся от центра в стороны. Главная функция кабестана – сматывать канат; с его помощью поднимают самые тяжелые грузы. Чтобы запустить кабестан в действие, руками и плечами толкают вымбовки; сила, которую приходится прикладывать, зависит от веса поднимаемого груза. Так лошадей заставляют вертеть колесо пресса при изготовлении сидра. Сейчас кабестану предстояло поднять главный якорь «Прекрасной левантинки», весивший шесть-семь тысяч фунтов.
Матросы привычно выполняли этот маневр; на трапах постепенно стали появляться пассажиры, с интересом наблюдая за подготовкой к отплытию. В основном это были греческие и мальтийские мелкие торговцы; недостаточно богатые, чтобы самим зафрахтовать судно, они оплачивали свой переезд и перевозку товаров и поэтому были вдвойне заинтересованы в надежности корабля – во имя собственной безопасности и сохранности груза.
Между тем матросы уже приладили вымбовки к кабестану и приготовились подчиниться приказам капитана; он же, оглядевшись и увидев толпу почтенных зрителей, решил, что далее медлить не стоит, схватил рупор и, не поднося его к губам, закричал во всю глотку:
– Крути кабестан!
Матросы тотчас же повиновались; на них приятно было смотреть (о команде судят по ее работе, о капитане же – по его распоряжениям, и последующие события показали, что я с первого взгляда составил себе о команде и капитане верное представление).
Усиливающийся восточный ветер благоприятствовал нам; марселя были развернуты и подняты, реи брасоплены, и носовая часть корабля повернулась в сторону открытого моря. Но сидящий на дне якорь так натянул трос, что матросы, вращавшие кабестан, не смогли сделать больше ни шагу, и, даже чтобы устоять, им пришлось напрячь все силы. Воцарилось замешательство: что возьмет верх – инертная сила или человеческая смекалка, но в это время к ним подбежали четыре добровольца, все вместе они сделали еще одно, последнее усилие, и вырванный из грунта якорь за пару минут был извлечен из воды. Я думал, что, поднятый на борт, он будет закреплен в положенном месте, но капитан, видимо охваченный иными, более важными для него заботами, ограничился приказом зацепить его страховочным крюком. Я шагнул было вперед сказать, что следует завершить операцию и полностью закрепить якорь, но, вспомнив, что на этом борту я никто, лишь молча пожал плечами.
В это время какой-то человек обратился ко мне на новогреческом, но так тихо, что я не расслышал и обернулся. Передо мной стоял юноша лет двадцати-двадцати двух, прекрасный, как античная статуя, с лихорадочно блестевшими глазами и закутанный в плащ, несмотря на то что поднявшееся над горизонтом солнце уже сильно припекало.
– Извините, сударь, – сказал я ему по-итальянски, – я не понимаю греческий, не соблаговолите ли перейти на английский, французский или итальянский язык, чтобы я смог вам ответить?
– Это я должен извиниться, сударь, – откликнулся он, – но меня ввел в заблуждение ваш костюм, и я принял вас за соотечественника.
– Не имею этой чести, – ответил я, слегка улыбнувшись, – я англичанин, путешествую ради собственного удовольствия и решил носить этот костюм, поскольку он удобнее и живописнее нашей западной одежды. Я не понял ваших слов, но по интонации догадался, что вы меня о чем-то спросили, и теперь, когда мы можем понимать друг друга, сударь, повторите, пожалуйста, ваш вопрос: я готов ответить.
– Вы не ошиблись, сударь, мы, дети Архипелага, привыкшие, словно зимородки, летать между Спорадами, все немного моряки, и неудачный маневр не ускользнет от нашего взора. Я заметил, что после отданного сейчас приказа вы, пожав плечами, похоже, разделили мое недоумение, и я хотел бы спросить, не имеете ли вы отношения к морской службе. Если да, не объясните ли, какой промах допустил капитан.
– Охотно, сударь. Когда мы вышли в море, якорь следовало прочно закрепить на своем месте, а не удерживать его только крюком, если же у капитана нашлись причины поступить иначе, он должен был приказать убрать вымбовки из кабестана. Крюк может лопнуть, тогда якорь упадет в море, а кабестан, вращаясь в обратную сторону, станет настоящей катапультой, которая швырнет в нас все вымбовки.
– Но… – начал молодой человек и вдруг забился в приступе сухого кашля и на его губах выступили капельки крови, – не могли бы вы, сударь, от имени всех пассажиров высказать капитану свои соображения?
– Уже поздно! – закричал я, оттаскивая грека за фок-мачту. – Берегитесь!
Раздался глухой всплеск тяжелого предмета, упавшего в море с носовой части, кабестан закрутился, словно часовая стрелка, у которой лопнула пружина, разбрасывая, как я и предвидел, вымбовки, оставленные в небрежении; несколько матросов сбило с ног, самого капитана отшвырнуло к рострам. После момента замешательства все вокруг испуганно умолкли; кабестан прекратил вращение, якорь же, увлекаемый силой тяжести, порвав несколько линьков, крепивших трос к кабалярингу, погрузился на дно. Однако судно продолжало ход, трос, конец которого был прикреплен сцепным устройством к грот-мачте, со страшным шумом продолжал разматываться, пока наконец не замер. Ужасный толчок сотряс судно; стоявшие на палубе упали навзничь или были отброшены к борту, я же, ожидая катастрофы, успел левой рукой крепко прижать к себе юношу, а правой схватиться за фок-мачту, что помогло нам удержаться на ногах. Но до конца было еще далеко: трос при этом чудовищном ударе разорвался, как нить, нас более ничто не удерживало, и мы летели, как говорят на флоте, прямо в пасть к дьяволу: судно шло кормой вперед. Совсем потерявший голову капитан отдавал противоречивые приказания, точно выполняемые командой, и вот реи, которые следовало брасопить, принялись одновременно и с равной силой разворачивать то к правому, то к левому борту, так что они остались в исходном положении; корабль, словно понимая, что он не сможет выполнить навязанный ему маневр, жалобно стонал, окутанный пеной откатывающегося от него моря. Вдруг на палубу выбежал подручный плотника, крича, что волна разбила стекла бортовых люков нижней палубы и залила ее. Я понял: если хочу спасти судно, нельзя терять ни минуты; выскочив на корму, я выхватил рупор из рук капитана и резко крикнул, перекрывая шум:
– Тихо на носу и на корме!
Услышав эти краткие суровые слова, произнесенные уверенным голосом человека, который имеет право повелевать, экипаж замер.
– Внимание! – продолжал я и, убедившись, что команда готова повиноваться, приказал: – Плотник с помощниками вниз, задраить порты! Руль на левый борт! Все к переднему брасу правого борта! Брасопить реи носовой части! Кливер по ветру! Распустить крюйс-марсель! Отпустить носовые шкоты! Переложить руль на правый борт!
Каждая из моих команд была выполнена мгновенно и безупречно; мало-помалу корабль послушно и грациозно повернулся вокруг своей оси и, будто некая морская богиня влекла его за ленту, подгоняемый ветром, взял верное направление, предоставив искать якорь какому-нибудь ловкому ныряльщику. Впрочем, потеря, кроме денежного ущерба, была невелика: у нас на борту оставалось еще два якоря.

С рупором в руках я продолжал командовать судном, пока все паруса не поставили как положено, подтянули тросы и подмели палубы, после чего, подойдя к капитану, все это время стоявшему неподвижно, протянул ему рупор со словами:
– Капитан, простите, что я вмешался в ваше дело; но, похоже, вы заключили договор с самым дьяволом, чтобы прямиком отправить всех нас в ад. Теперь же, когда опасность миновала, заберите обратно знак вашей власти; по заслугам и честь!
Капитан, оглушенный происшедшим, молча взял рупор, а я направился к моему юному греку: не в силах долго стоять, он присел на лафет восьмифунтовой пушки.
Обстоятельства нашего знакомства, помощь, которую я оказал команде, равно милая сердцу и того, кто ее принимает, и того, кто ее оказывает, с первых минут вызвали в нас чувство взаимной искренней и глубокой симпатии. Вспомните к тому же, что я находился в изгнании, а он был болен, я искал утешения, он – помощи.
Грек был сыном богатого негоцианта из Смирны, умершего три года назад. Его мать, обеспокоенная болезнью юноши, полагая, что перемена обстановки пойдет ему на пользу, отправила его в Константинополь наблюдать за торговым домом, который в последние годы жизни основал его отец. Однако после двухмесячной разлуки, чувствуя себя все хуже и хуже, он ощутил потребность повидать дорогих ему родных и приобрел место на «Прекрасной левантинке»; что же до его болезни (он называл ее по-франкски il sottile malo[18]18
Чахотка.
[Закрыть]), то с первого же взгляда я понял, что это туберкулез легких второй стадии и после пятнадцатиминутной беседы уже знал о ней все подробности. Со своей стороны, поскольку у меня больше не было причин молчать, ибо никакая опасность мне теперь не грозила, я поведал ему свою историю; рассказал о ссоре с вышестоящим офицером, о дуэли с ним и о его гибели, что вынудило меня оставить службу. Он тотчас с чарующей доверчивостью юности предложил мне провести некоторое время у него в семье, заверив, что после оказанной мною услуги она будет рада принять меня. Я принял его приглашение столь же непринужденно, как оно было сделано, и только после этого нам пришло на ум спросить друг у друга имена. Его звали Эммануил Апостоли.
За время наших долгих бесед я по ряду симптомов убедился, что мой новый друг болен гораздо серьезнее, чем он думает. Почти постоянное стеснение в груди, сухой кашель, кровохарканье и в особенности безотчетная печаль, отражавшаяся на лице с пылающими скулами, говорили о его тяжелом состоянии.








