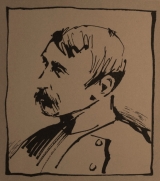
Текст книги "Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина"
Автор книги: Александр Лебедев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
В ряду жизнеописаний иных декабристов «повесть жизни» Ивана Дмитриевича Якушкина подвергалась неоднократному прочтению на протяжении развития русской общественной мысли. И естественно, всякий раз с иных позиций, всякий раз во многом иными глазами. Соответственно, всякий раз изменялись представления о месте Якушкина в ряду декабристов иного толка, иных направлений мысли, иного образа чувств. Всякий раз менялось представление об оценке этого места и об уровне, на котором стоял Якушкин в декабризме и в истории российского освободительного движения в целом. Якушкин глазами Герцена – не Якушкин в представлении, к примеру, левонароднического террориста, как Якушкин времен «военного коммунизма» – не Якушкин позднейших времен. Это естественно. Но этот свиток надо размотать, чтобы можно было увидеть, как и что наслаивалось при разных прочтениях Якушкина, какая тут прослеживается закономерность, откуда и куда идет чтение, идет дело. И потому феномен Якушкина не поддается изолированному рассмотрению, он становится более или менее понятен лишь в системе определенной суммы взглядов на революционный процесс.
Что и мне, и читателю от всего этого не легче, а труднее, хотя, думаю, и интереснее по существу – иной вопрос.
Еще одно место из современного исследования трех названных выше авторов по теории и истории революционной традиции в России.
«…В нашей литературе пока еще слабо разрабатываются критерии различения подлинной революционности от революционности мнимой, проблема громадного перепада взглядов и действий учителей и учеников… Любой призыв к революционному действию рассматривается как заслуга и подвиг (независимо от того, созрели ли условия для такого действия, как оно мыслится и т. д.); напротив, любой отказ от немедленного действия трактуется как слабость революционера».
Я бы только добавил к сказанному, что само по себе неразличение критериев подлинной революционности, отождествление революционности с призывом к «немедленному действию», то есть насильственному преобразованию действительности при любых обстоятельствах, – это ведь тоже концепция. Концепция эта имеет свою традицию и инерцию, имеет своих носителей и упорных защитников. Более того, эта концепция еще частенько считается «единственно марксистской» (или «единственно научной», что в наших условиях все равно). Наконец, именно эта концепция и создает огромные препятствия на пути к пониманию революционности такого типа, который должен быть связан в нашем сознании со смыслом внутренней эволюции Якушкина. И что касается нашей оценки декабризма в целом и места того или иного деятеля декабристского толка в нашем освободительном движении в особенности, фигура Якушкина играет по отношению к этой концепции роль своеобразной лакмусовой бумажки. Сторонники этой «апробированной» концепции спотыкаются именно на Якушкине, когда речь у них заходит о декабризме и декабристах. И соответственно всякий, кто обращается к Якушкину, неизменно спотыкается о препятствия идеологического и политического толка, связанные с этой концепцией и ее «несгибаемыми» сторонниками. И тут уже речь начинает идти, как легко можно понять, не только и не столько о декабризме и Якушкине. Но обращение к Якушкину словно включает механизм всего дальнейшего столкновения мнений и позиций, судеб и характеров наших современников.
Марксизм, как хорошо известно, никогда не грешил идиллическим мировосприятием, знал силу и цену насилия в мире насилия. Марксизму всегда было чуждо какое-либо утешительство, он никогда не убаюкивал массы утопиями относительно бесконфликтного пришествия лучшего будущего – вплоть до торжества идеального общества. Широко известны слова К. Маркса: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым». Правда, довольно часто случалось так, что последнее условие как-то опускалось при цитировании этой крылатой формулы. А ведь условие – решающее, в противном случае речь должна была бы идти уже не о «повивальной бабке»… Ф. Энгельс писал в 1892 году, что лишь осел может доходить «до утверждения, что насилие при любых обстоятельствах революционно и никогда не бывает реакционным». К. Маркс полагал, что вообще «кровопусканием не обнаруживается истина».
Фетишизация насилия была присуща не марксизму, а мелкобуржуазному революционаризму, которому с некоторых пор так полюбились марксистские «одежды», что он сам порой обманывается ими, выступая в роли «непреклонного» и «несгибаемого» хранителя «особой» чистоты марксизма. Стоит добавить, что «развести» марксизм с выступающей от его имени мелкобуржуазной по существу и левокоммунистической по виду фетишизацией насилия сейчас особенно важно. Ведь насилие всегда ищет своего продолжения в человекоубийстве, ибо именно человекоубийство – это насилие, доведенное до конца. Но в нынешней «предельной» для человечества ситуации дело обернулось так, что «повивальная бабка» старого общества готова стать – хотя бы по совместительству – могильщиком рода человеческого… Высказать это напрашивающееся соображение представился случай в нашем диалоге с Алесем Адамовичем еще в 70-е годы. Тогда нас с ним окоротили, как говорится. Были, кажется, даже брошены слова об «алармизме» или что-то в этом же духе. Но с тех пор мысль об изменении роли «повивальной бабки» в современном мире, похоже, поновела, потеряв разве что в своей относительной оригинальности. «Новое мышление» отнюдь, понятно, не знаменует наступление эры духовной идиллии и идеологической эйфории, хотя и не исключает иллюзий на сей счет, но исходит из принципиального неприятия ситуации, при которой оружие критики «переросло» бы в критику оружием, итогом чего ныне был бы лишь «взрыв противоречий» на самоубийственном для «сторон» уровне. Да и победа над идеологическим противником в представимом будущем не сможет быть «окончательной и бесповоротной» по той простой причине, что сам «носитель» чужой идеологии отныне может быть сокрушен лишь заодно с его оппонентом. Признание взаимозависимости взаимовраждебных сил переводит вообще всю идеологическую перспективу из сферы решения вопроса «кто кого?» в сферу задачи сохранения среды духовного обитания человечества в единстве всех ее идеологических противоположностей. Нам, судя по всему, предстоит ситуация своего рода пролонгированного диалога, поскольку мирное сосуществование больше, как известно, не средство, а цель. Мир идет к бесконечно расширяющемуся многообразию, а не к унификации форм и путей развития – такова главная закономерность наступающей эпохи и одновременно ее главное условие.
Тип революционности, связанный с представлением о феномене Якушкина, входит в понятийный состав «нового мышления» и занимает в нем важное место, но оказывается едва ли приемлем для некоторых «апробированных» концепций, в борьбе с которыми только и может утверждаться «новое мышление», новые представления о критериях революционности. Необходимость радикального изменения наших представлений о будущем, перспективе исторического процесса с неизбежностью влечет потребность в переосмыслении всего арсенала идейно-психологических понятий и социально-нравственных представлений, образованных опытом прошлого. По сути, это единый процесс. «Модернизируется» наше мышление, а не история. История, если угодно, лишь «тестирует» наши представления о «должном», о том, как «бывает» и, стало быть, «может статься»…
В беспрецедентной ситуации, которая ныне возникла, значение прецедентов возрастает в небывалых масштабах – именно в них усматриваются «рабочие модели» будущего. В этой связи обретает новый смысл и выбор «положительного исторического героя», то есть определенного типа личности, характера, стиля общественного поведения, определенной направленности духовной эволюции человека. Речь идет об изменении всей шкалы нравственно-психологических приоритетов в подходе к тому или иному историческому лицу, с которым мы так или иначе будем связывать теперь наше изменившееся представление о духовной родословной героя нового времени. По этой причине постановка определенных идейно-исторических проблем в их новом освещении с необходимостью предшествует и опережает те или иные литературные решения. Известный и едва ли не классический «прием обнажения приема» позволил сохранить расположение материала в этой книге в той внутренней последовательности, при которой теоретико-исторические комментарии предшествуют литературному эпилогу, являющемуся прологом к самостоятельным умозаключениям читателя. Но вообще-то это просто: чтобы начать размышлять о том, что в книге, надо дойти до ее конца и оглянуться. И, если появятся необходимость и желание, по-новому перечесть ее. Но это будет уже естественный и простой ход мысли, а не прием.
Еще в «Что делать?» Ленин отмечал, что существует закономерность, в силу которой распространение марксизма вширь ведет к понижению его теоретического уровня и что к марксистскому движению в этом случае примыкают люди, теоретически неподготовленные (то есть остающиеся на каких-то иных, немарксистских позициях). Подобная ситуация и служит, конечно, одной из причин «переодевания» в марксизм непролетарских, допролетарских, мелкобуржуазных идеологий, представители которых в этих случаях со всем пылом неофитов бывают склонны занимать позицию «святее папы» и, настаивая на «самом чистом» марксизме, открытом наконец ими, на деле могут заниматься борьбой с марксизмом в форме его «заострения». Психологически это очень понятно: «открыв» марксизм для себя, такие люди спешат осчастливить своим открытием окружающих. «Свой» марксизм оказывается для них единственно верным вообще. А всякий иной марксизм предстает «чужим», «извращенным» и т. д. Вообще-то говоря, такие открытия всегда совершаются постфактум, поскольку речь идет о постижении уже достигнутого мировой общественной мыслью. Иное дело, когда постигнутый на низком, допролетарском уровне марксизм объявляется единственно верным и «внедряется» в сознание остальных людей в качестве конкретных политических лозунгов, весьма подчас «ррреволюционных» по своему звучанию. «Путаница», происходящая в этом случае, способна надолго закрепляться в массовом сознании в качестве «бесспорной истины», которая «не требует объяснений», обретая силу устойчивого суеверия.
Тогда по истечении какого-то исторического срока приходится «переоткрывать» некоторые истины.
Очень характерно, что «марксисты», бросившие в свое время в массы известный лозунг «Кто не с нами, тот против нас!», получивший в пору «военного коммунизма» силу боевого приказа, не признали в нем чуть подправленную в «коллективистском» духе цитату из Макса Штирнера – средней руки, но редкостно претенциозного мелкобуржуазного философа-анархиста середины прошлого века. А ведь «Святой Макс», заявивший: «Кто не за меня, тот против меня!», был одним из главных персонажей «Немецкой идеологии»! Впрочем, дело, быть может, состояло в том, что «Немецкая идеология» не была еще опубликована в пору, когда книга Штирнера, из которой и «залетел» в левокоммунистическую доктрину времен «военного коммунизма» старый клич мелкобуржуазной «ррреволюционности», уже существовала в русском переводе.
Казус, конечно. Но сколь знаменательный. Он еще не был отмечен в известной мне литературе по истории нашей общественной мысли. Был отмечен, хотя и вне связи с идеологической доктриной «военного коммунизма», иной факт: впервые в русской печати лихой лозунг «Кто не с нами…» появился на страницах «Народной расправы» С. Нечаева. Быть может, не прямо из Штирнера, а через Нечаева, что было бы еще более знаменательно, этот лозунг и попал в руки идеологов и апологетов военно-коммунистического режима.
По скрытой до поры иронии истории и в полном соответствии с ее логикой именно апологеты «военного коммунизма», ревнители «кавалерийских» приемов втеснения «светлого завтра», недреманые стражи «особой чистоты» марксизма как бы невзначай подняли знамя мещанской нетерпимости в нашей партии после победы Октября.
Фигура Нечаева давно уже одиозна – морально и политически – для русских революционеров, но степень близости к нему и мера отдаленности от него народничества в целом еще дискуссионна. Быть может, это вопрос, который дискуссионен по своей природе. Отсюда его непреходящая острота – к нему вновь и вновь обращаются исследователи истоков и традиций левого терроризма в мировом освободительном движении. Связь идеологии международного левого терроризма с феноменом нечаевщины сама по себе теперь почти не оспаривается. Идейную связь Нечаева с Ткачевым оспорить трудно. Но Михайловский, Лавров!..
Да, повторим еще раз, не надо на таких людей, как Лавров и Михайловский, возлагать персональную историческую ответственность за политическую уголовщину во вкусе Нечаева. Это было бы и несправедливо по существу, и оскорбительно для исторической памяти об этих замечательных людях. Тут, видимо, уместнее сказать не об исторической вине, а об исторической беде их. Но только беду свою они слишком щедро делили с последующими поколениями. Умножаясь, беда их обернулась виной многих. Такой случился здесь дурной парадокс.
Нельзя не видеть, какую недобрую роль в духовной драме российского общества сыграли те идеи, к которым означенные народнические лидеры совсем не случайно пришли и которые зачастую именно с их «легкой руки» пошли гулять по свету. Порой почти неузнаваемо переряжаясь в новые терминологические одежды, порой сами предлагая себя в качестве исторически испытанного маскарадного обличья для тех грозных и грязных социальных сил, с которыми мир столкнулся позже, не сразу сумев сказать: «Маска, я тебя знаю!»
Вспомним. Ведь это Михайловский разделил человечество на «героев-магнетизеров» и толпу, удел которой «плясать под дудку» своих предводителей. Я не огрубляю – перечитайте появившийся еще в 1882 году такой программный документ народничества, как знаменитая работа Михайловского «Герои и толпа». Ведь это Лавров в своих знаменитых «Исторических письмах» предлагал творить «легенду» о героях-мучениках, не стесняясь в вымыслах, лишь бы в эту легенду уверовали все те же «массы», которые поведут на заклание делу исторического прогресса. «Число гибнущих, – писал Лавров, – тут неважно». Более того: «Важно – не кто победил; важно — что победило. Важна торжествующая идея». И еще один шаг в том же направлении – перечитайте Ткачева, который просто предлагал провоцировать народ на «аффекты», будить в нем низменные чувства и темные инстинкты во имя торжества «правого дела» и «светлого завтра».
Нечаев – предтеча чумы новейшего левого терроризма. Ныне это – мнение целого ряда наших и зарубежных исследователей. Первым «угадал» суть и предугадал тенденцию развития нечаевщины Достоевский. Характерно, что едва ли не вся тогдашняя прогрессивная интеллигенция, воспитанная в радикально-народническом духе, восприняла соответствующие оценки Достоевского как клевету на силы прогресса. Какая примечательная аберрация!
Декабристы постоянно оглядывались на пример Робеспьера. Некоторых из них этот пример пусть и не вдохновлял – влек. Иных устрашал и отталкивал. Задумываться заставлял всех. И всех заставлял делать те или иные выводы, находившие свое выражение меньше всего в декларациях, но неизбежно в тех или иных поведенческих формах, в выборе тех или иных средств или в отказе от иных средств. Ныне ряд наших авторов ставят имя Робеспьера в ряд с именами тех деятелей, которые имеют ту или иную меру отношения к исторической родословной современного левого экстремизма. Трудно это оспорить. Но, конечно, если за Робеспьером стояли и исторические заблуждения, и правота исторической необходимости, то за Нечаевым – провокация и цинизм.
Не требуется большой фантазии, для того чтобы представить себе некую «книжную полку», на которой «Записки» Якушкина стоят в одном ряду с книгами других деятелей декабризма, с книгами, посвященными позднейшим этапам освободительного движения в стране и их представителям. В этом только ряду и читаются якушкинские «Записки», его жизнь. Иное дело, что важно установить то место, которое на этой «полке» по правде и справедливости должно быть отведено Якушкину. Хронологический принцип тут не решит проблемы, ибо это проблема нашего духовного выбора, нашего пристрастия…
Нет ничего удивительного, что именно в условиях военного коммунизма люди, вполне, скажем, даже искренне считавшие себя марксистами, но остававшиеся при всем том на позициях мелкобуржуазной революционности, словно бы обрели «второе дыхание», решили, что пришел «их час». Обстановка тому как нельзя более содействовала. Ситуация, в которой оказалась тогда новорожденная Советская страна, была, как известно, экстремальной, как и режим, введенный в стране, превратившейся в один сплошной военный лагерь. Скоро, однако, этот режим обнаружил признаки злокачественного саморазвития в сторону крайней военно-бюрократической централизации и сверхцентрализации всей жизни. «Военно-коммунистическое» общество стало все более походить на действующую модель того самого «казарменного коммунизма», первые эскизы которого основоположники марксизма характерным образом обнаружили в доктринах дореволюционных мелкобуржуазных экстремистов в России. «Принудиловка», «уравниловка» и «разруха» стали нормой всего способа ведения дел. Для огромного большинства населения страны положение сделалось непереносимым. Крестьяне восставали и объединялись в своеобразные армии. Пролетариат деклассировался, заводы закрывались, город мер с голоду, тифозная вошь превратилась в политическую проблему, перед которой оказались бессильны все силы революции.
С тех пор как в нашей стране «покончили» с нэпом, о временах военного коммунизма вспоминать было не принято – возникали «неконтролируемые аллюзии», как еще совсем не так давно выражались иные издатели. За время, в которое эта книга готовилась к публикации, отпала необходимость подробно рассказывать тут, что такое был военный коммунизм, приводить соответствующие факты, документы и т. д.
Что же касается нэпа, то… В недавно опубликованной повести Фазиля Искандера есть вставная новелла – рассказ о страстных и неуемных спорах двух «дядей» по разнообразным вопросам общественного бытия. Споры изрядно досаждали окружающим, но их терпели. До поры, пока один из «дядей» не произносил своего рода кодовые слова «всерьез и надолго». В ту же минуту дверь в комнату спорщиков захлопывалась, а затем, в случае надобности, к ним применялись и домашние методы физического воздействия. При этом никто не вникал в суть спора, но кодовые слова неизменно срабатывали с четкостью условного рефлекса. Такая вот мини-модель той ситуации, которая существовала у нас вокруг вопроса о нэпе.
Сейчас многое переменилось. И в отношении, например, к нэпу, и в отношении к тому же, скажем, военному коммунизму. Еще совсем недавно слова «нэп», «нэпман» были «плохими словами», хуже которых по смыслу было, пожалуй, только уж «враг народа» и «вредитель». А вот слова «военный коммунизм», «продотряд», «чрезвычайка» были «хорошими словами», лучше которых была, возможно, лишь «коллективизация» или «всенародный подъем»… Переменилось не только, понятно, отношение к словам – переменилось отношение к понятиям, которые в значительной степени являются ключевыми в целой системе представлений об окружающем мире и об истории. Да, и об истории.
Меняются представления об общественном содержании понятий добра и зла. Мы оказываемся участниками и свидетелями этого процесса, этого перелома в сознании нашего общества. Это – великий момент в жизни духа. Летит шелуха, новация и инерция сложно и противоречиво взаимоборствуют, если можно так выразиться, на наших глазах. И никому, естественно, не хочется выглядеть ретроградом. Но как бы дело дальше ни пошло, уже ясно, что в сфере духовной жизни и внутреннего мира людей некоторые перемены к лучшему уже необратимы. Кто что ни говори!
Только не надо опрометчиво «выводить» из сказанного выше, что вот-де автор книги о Якушкине задним числом и старается причесать своего героя «по новой моде», под «новое мышление». И все, мол, дела. Мало-мальски знакомый с нашей издательской практикой человек поймет, что не вчера и даже не позавчера начиналась эта рукопись. Да и совсем не первая у автора эта книга, из которой, во всяком уж случае, можно вполне уразуметь, что если и не во всем всегда автору «нравился» нэп, едва успевший спасти в свое время страну от вшей и голода, но не сумевший постоять за себя, то режим казарменного коммунизма автору определенно «не нравился» с тех пор, как он стал автором. И Якушкина не надо «причесывать» для сегодняшнего дня. Если можно сказать, что каждое время ищет своих героев, то следует сказать, что Якушкин – герой, которого история «припасла» к нашему времени. Словно живой аргумент в некоем споре «сторон». Да, внутренний смысл духовной эволюции Якушкина и нравственный урок его жизни должны быть поняты как существенный элемент в системе «нового мышления». Это, повторю, не модернизация истории, это – модернизация мышления.
«Новое мышление» не явилось ведь вдруг, по случаю. Оно ждало исторического «случая», который теперь иногда называют «шансом» для нашего общества. «Новое мышление» знает свои «пробы и ошибки», свою предысторию, когда только пробивалось к «раскованности», искало «свои слова». Манифестировав в шестидесятых и понеся урон, оно получило «урок на завтра» и, как водится, «срок» на переподготовку. Урок не прошел даром. Хотя итог ведущегося ныне «собеседования» далеко не во всем уже самоочевиден, переподготовка теперь, во всяком случае, требуется тем, кто обладал раньше исключительной монополией на роль экзаменаторов. А там видно будет… Так называемые «застойные годы» унесли не одни только наши иллюзии – едва ли не лучшую часть жизни целого поколения. Но это все-таки был далеко не тот «мертвый сезон» былых времен, когда только и слышалось из края в край в хоровом исполнении: «До чего же хорошо кругом!» Теперь «крот истории» рыл на ином уровне – куда ближе к «выходу в свет». И не был одинок. Встречная работа шла со скрипом, хрипом и стоном. Эти звуки не «ласкали слух» – они имели особое и неоценимое значение, нарушая круговую поруку молчания. Поэтому, замечу попутно, не надо бы сегодня вменять себе в гражданскую доблесть свое «молчание в тряпочку» без перерыва в служебном стаже, приискивая к подобной позиции ту духовную родословную, которая никак тут не относится к делу. Быть может, один из самых важных уроков передовых людей прошлого, один из самых важных заветов их заключаются в том, что никакая историческая погода не является достаточным основанием для позиции сидения сложа руки и выжидания у моря попутного ветра. Даже когда руки заломлены, а на море полный штиль и никаким попутным ветром в обозримом будущем не пахнет. «Кротовая работа» может вестись на разных уровнях, но если не будет ее – не будет ничего. Люди якушкинского, если можно так выразиться, склада не ждут «своего часа». Это психология общественного временщичества, и она знает другой тип людей. Да и вообще претензия на роль единственных «хранителей огня», готовых по случаю объявить «всю правду», не лишена горестного комизма, но и очень спекулятивна. Ведь молчание – даже и не труд, когда «нельзя», а слово само по себе – даже и не дерзость, когда «можно». Да и нынешняя ситуация не тождественна ситуации «дали сказать». Новые решения требуют «нового слова». Хотя, конечно, «новое мышление»– не просто «новые слова», все более громкие, вольные, непривычные и все более резкие, что, впрочем, привычно. Это – помимо прочего, о чем здесь нет речи, – еще и возвращение собственного смысла «старым словам» и понятиям. Это процесс общественного самоосознания, в котором нашему рассудку еще предстоит отделиться от многих предрассудков, убеждениям – от предубеждений. Но возвращение заживо похороненных понятий и идей невозможно без нашего возвращения к людям, к судьбам тех людей, с которыми эти понятия и идеи изначально или особенно ярко связаны.
Личная участь Якушкина несет в себе понятие чести, существенно расходящееся с некоторыми слишком привычными для нас идеями успеха и престижа, служа которым человек постепенно все больше и больше начинает жить напоказ, все больше и больше начинает испытывать зависимость от каких-то внешних знаков, удостоверяющих его внутреннее нравственное достоинство. Так, из орудия свободы честь превращается в орудие зависимости – дарованная извне, она может быть извне и отнята. Опыт Якушкина – опыт сохранения нравственного суверенитета личности перед лицом почти любых превратностей судьбы. Этот опыт дался ему нелегко. Нелегко нам теперь и вернуться к этому опыту. В каком-то смысле мы действительно «слишком далеко отошли от Якушкина», чтобы этого не заметить и попытаться просто «перескочить» к Якушкину через все, что нас от него отделило и отдалило. Можно сказать и по-иному о том же: нам, видимо, надо было пройти очень большой и очень мучительный исторический путь, чтобы прийти к Якушкину и постараться его понять, освободившись от жесткой системы тех нравственно-политических стереотипов, которые успели нарасти в пути.

Естественно, не надо механически сопоставлять или отождествлять военно-коммунистические идеи с идеями того же Ткачева или с нечаевщиной. Не в этом дело и не в этом задача. Однако нельзя не увидеть, что при всей кажущейся новизне теория «подталкивания» революции и «прямого перехода» к коммунизму не была уж такой новинкой в русской общественной мысли, как это казалось левокоммунистическим деятелям. Преемственность, идущая от волюнтаристских, по существу, воззрений народников-экстремистов к левокоммунистической идеологии в ее крайних тенденциях и выводах, несомненна. Ныне можно уже без особого риска с методологической точки зрения высказать соображение относительно того, что субъективно-социологические традиции в этом случае искали и находили свое продолжение в вульгарно-социологических концепциях левокоммунистического толка. При этом сторонники военного коммунизма в большинстве своем, повторю, вполне искренне считали именно себя «стопроцентными марксистами», а всех иных партийцев и беспартийных сторонников учения Маркса – лишь временными «попутчиками», позже – «уклонистами» или даже «перекрасившимися», не подозревая, что сама подобного рода нетерпимость выдает отнюдь не пролетарскую сущность их позиции. Режим военного коммунизма нравился тем, кто нашел в нем свое место в жизни, свой социальный статус. Сам «военный коммунизм» превращался, таким образом, в форму присвоения власти над всей окружающей жизнью, жизнью всех иных людей. Делиться этой собственностью ни с кем не хотелось. Отсюда шла «полная бескомпромиссность» в ту пору тех, кто готов был «идти до конца», «невзирая ни на что», кто звал и ждал «мировой пожар в крови». Вновь и вновь гремело тогда: «Кто не с нами, тот против нас!» Третьего не дано!..
Третьего не дано? Или – или? А что сверх того, то от лукавого?
Как тень, даже как пятно, на Якушкина легло снижающее определение «декабрист без декабря», то есть без Сенатской площади. Если б он осуществил свой юный замысел, если бы он убил царя! Впрочем, до такого рода логики, до такого хода мысли надо было еще дойти, пройдя многие десятилетия российской истории после Сенатской, пройдя через народовольчество, через военный коммунизм, через целую эпоху преступной нетерпимости, которой мы все никак не подберем названия. И на этом остановиться!
Я прикоснулся к раскаленной точке нашей истории по ходу своих рассуждений о тех путях, которыми шел к нам Якушкин и которыми мы идем сегодня к нему. Ведь именно военно-коммунистический режим и нэп, пусть в первом, начальном приближении, обозначили едва ли не главную альтернативу тенденций всего последующего развития общества, и, как говорится, сегодня нам «выпал шанс» вновь отказаться от разного рода модификаций той «модели», от которой, вводя нэп, решительно и круто (чтобы тотчас «было оповещено по радио во все концы мира»!) отказался Ленин, обнаружив историческую необходимость и сформулировав принципы «правильного» перехода к демократизации и социалистическому плюрализму, как мы бы теперь смогли сказать. Этот исторический компромисс, к которому призвал Ленин, вводя нэп, не устранял борьбы и не мог ее устранить, но придавал ей бескровную форму, сохраняя некое равновесие равнодействующих сил в переходе от насилия к демократии и свободе. Так это мыслилось. Мало того, именно режим военного коммунизма и нэп обозначили исходные координаты, некие точки отсчета для альтернативных тенденций в развитии нашего общественного мышления и нашего нравственного чувства.
С позиций, связанных с идеями военного коммунизма, Якушкин, феномен Якушкина не открывается. С этих позиций он был бы «настоящим революционером» только в том случае, если бы убил или, как минимум, был повешен.
Сотни и сотни пропагандистских и иных изданий посвящены у нас работе Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», написанной им в апреле – мае 1920 года и в том же году увидевшей свет. На первый взгляд может показаться, что появление такой работы, посвященной в основном самой острой критике «левизны» в коммунизме, содержащей решительное утверждение права на компромисс, который всегда являлся душой подлинно демократического реформаторства и лакмусовой бумажкой для любого экстремизма, не находится ни в каком соответствии с духом времени бескомпромиссной эпохи военного коммунизма, времени ожесточеннейшей гражданской войны (правда, к весне 1920 года основные хлебные и топливные районы страны были очищены от внешних и внутренних врагов), времени прямого столкновения Советского государства с зарубежным капиталом. Со студенческой скамьи мы учили, что эта ленинская работа обращена к зарубежной аудитории, зарубежным коммунистическим и рабочим партиям. Но ведь лишь отводя глаза, можно не увидеть, что эта работа представляет вместе с тем и выступление против вполне определенных политических, идейных и экономических тенденций внутри страны и самой РКП(б). Центральная мысль работы: на всех этапах своего развития большевизм утверждался как в борьбе с правым оппортунизмом, так и в борьбе с левой мелкобуржуазной революционностью. Более того, Ленин прямо указывает на те «случаи», когда именно левокоммунистическая тенденция в большевизме ставила партию и все революционное движение в кризисное положение, подводила к краю катастрофы. Так было после поражения революции 1905–1907 годов, так было во время Брестского мира, так случилось в пору торжества режима военного коммунизма. «Детская болезнь…» в этом смысле подводит своего рода итог опыту «эпохи» военного коммунизма и не может не быть рассмотрена как идейно-теоретическая подготовка партии к той коренной перестройке всего общества, которой явился нэп, в котором Ленин видел единственную альтернативу краху Советской власти и общенациональной катастрофе.





