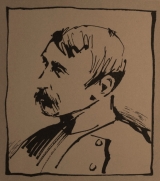
Текст книги "Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина"
Автор книги: Александр Лебедев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Приведя это важное признание, И. С. Зильберштейн замечает: «Достоевский забыл упомянуть, что жены декабристов расшили переплет этой книги и вложили туда деньги…»
Это была, конечно, почти совершенно символическая встреча при самом входе в Мертвый Дом. Но важнее даже и этого символического знака истории был тот, которым она пометила связь «Записок…» Достоевского с «Записками» Якушкина – двумя вехами-памятниками «каторжной литературы» и одновременно «каторжной мысли», которые словно взяли в черную, из кандалов кованую, раму всю «эпоху Николая I». «Записки» Якушкина поведали – заботами Герцена – всему миру о том, как начиналась эта эпоха и что творилось в потайных, скрытых за плац-парадными фасадами недрах ее; «Записки…» Достоевского стали той «страшной книгой», которая, по мысли Герцена, всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как известная надпись Данте над входом в ад.
Но не в одной, пусть и исторически многозначительной, символике тут заключено дело. При некотором аналитическом старании вполне можно «было бы проследить и показать, как некий «декабристский мотив» проявился в самом тексте «Записок…» Достоевского, как то здесь, то там возникают в этом произведении знаки, признаки и отзвуки этого мотива, как он сказывается в итоге и на общей нравственно-психологической интонации произведения, принесшего автору впервые мировую известность. Сознание и творческая память Достоевского сберегли этот мотив навсегда. И не только в образных его перевоплощениях и переосмыслениях, но и вполне конкретно, персонифицировано – в многократных позднейших возвращениях мысли писателя к имени декабриста Якушкина. В исследовательской литературе отмечается факт отражения в творчестве Достоевского прямых впечатлений его от чтения якушкинских «Записок». Но это не только лишь отражение впечатлений, это еще и развитие, углубление некоторых коренных идей Якушкина в новых условиях, с новых позиций, но в конце концов – в том же общем направлении. «Все должны иметь право на землю», «у нас русских понял декабрист Якушкин – искреннейший человек»… И далее: «Всякий должен иметь право на землю. У нас это народное начало. Декабрист Якушкин. Мы ваши, а земля наша. Собственн<ость> – святейшая вещь: личность».
Так вспомнился уже в 70-х годах Достоевскому Якушкин, и так мысли Якушкина сомкнулись, как видно, с мыслями Достоевского о почве деятельности всякой личности. Вопрос о русской общине как реальной почве коренных освободительных преобразований в стране станет вскоре центральным вопросом всей русской общественной мысли вообще, обретет чеканную формулу организации революционного народничества: «Земля и Воля». К этому именно вопросу обратится и К. Маркс, размышляя по поводу возможностей некапиталистического развития пореформенной России… Но все это будет потом и на совершенно иных, понятно, мировоззренческих основаниях. Якушкин же словно бы прямо лишь «наткнулся» на этот самый вопрос, как немногие еще декабристы (Николай Тургенев прежде и больше всех), словно бы испытав какую-то зыбкость под ногами, словно ища, на что можно было бы все-таки опереться в своих вольнолюбивых помыслах и метаниях.
«Гениальность, или нечто похожее на нее, у Фурье, рвение Овена, утопии многих других, могут вербовать прозелитов и возбуждать восторг в некоторых приверженцах; но мечты этих людей останутся мечтами, хотя они возносятся иногда на самую вершину. Но если осуществление этих теорий невозможно, то все же они могут сослужить службу человечеству, направляя внимание и энергию серьезных умов на некоторые предметы, важность и полезность которых без них не были бы в достаточной мере сознаны. Но для этого мало одной фантазии. Один из основных пунктов теории Пестеля и его друзей состоял в обобществлении земельной собственности, причем, порядок ее эксплоатации и должен был определяться правилами, установленными высшей властью… Я пытался опровергнуть их аргументы. Это было нелегко: опровержение некоторых теорий трудно; есть такие, самая нелепость которых делает их неопровержимыми. В конце концов я заметил, что Пестель и его друзья были гораздо более недовольны моим несогласием с их социальными теориями, чем моим мнением относительно тайных обществ».
Н. Тургенев. Россия и Русские
«Странный, однако, факт, может быть, многими и не замеченный, – в России, государстве самодержавном и в котором в большом размере существует рабство, находится и главный элемент социалистических и коммунистических теорий… – это право общего владения землями четырех пятых всего населения России, т. е. всего земледельческого класса: факт чрезвычайно важный для прочности будущего благосостояния нашего отечества».
М. А. Фонвизин. О коммунизме и социализме
Михаил Александрович Фонвизин – ближайший друг Якушкина, член Союза благоденствия и Северного общества, один из идеологов северян, генерал, герой антинаполеоновских войн, приговорен к двенадцати годам каторги, которую отбывал в Чите и на Петровском Заводе, на поселении активно переписывался с Якушкиным и Пущиным, который под старость женился на вдове Фонвизина. Якушкин испытывал чувство большого пиитета по отношению к старшему по возрасту другу, под непосредственным командованием которого он провел все походы Отечественной войны. Якушкин внимательно относился к мнению Фонвизина при решении самых важных вопросов в своей личной жизни и в политической деятельности. Старший сын Фонвизина принадлежал к кружку петрашевцев, но по случайному стечению обстоятельств не был арестован. Он погиб от болезни в 1850 году, менее чем через год умер и младший сын Фонвизина. Старик Фонвизин был в числе очень немногих декабристов, которым позволили вернуться в Европейскую Россию еще при жизни Николая I. При отъезде своем из Сибири Фонвизин заехал в Ялуторовск, где отбывали в ту пору поселение Якушкин, Пущин, Оболенский, М. И. Муравьев-Апостол, Тизенгаузен, Басаргин. Матвей Иванович Муравьев-Апостол спустя много лет рассказывал: «Когда наступил час расставания. М(ихаил) А(лександрович) нас всех дружески обнял. Ивану Дмитричу поклонился в ноги за то, что принял его в наш т(айный) с(оюз)». Все это Муравьев-Апостол много лет спустя рассказывал Льву Толстому. Из «Записок» Якушкина, действительно, следует, что именно он принял своего полкового командира в тайное общество.
Достоевский не любил грибоедовского Чацкого, за «беспочвенность» – едва ли не прежде всего. «Чацкому, если б его сослали. Ты всего-то из банной мокроты зародился, сказали бы ему, как говорили, ругаючись, покойники из Мертвого дома…» Достоевский прикидывал, как один из его героев скажет другому: «…царь освободил народ, а не вы. Эта мысль у царей родилась, а декабристу Чацкому и в голову не приходила». А вот декабристу Якушкину, согласно Достоевскому, – приходила. Достоевский, похоже, в Якушкине, декабристе Якушкине, хотел бы видеть альтернативу декабристу Чацкому. Основательность, дельность, немногоречивость Якушкина были исполнены, наверное, для Достоевского особого смысла, не были одними лишь личными свойствами характера. Весь жизненный стиль Якушкина мог влечь Достоевского, ярко оттеняясь всем тем в характере грибоедовского Чацкого, что и у самого Грибоедова вызывало особую усмешку, не лишенную некоего скептицизма и сожаления. Конечно, Чацкому в ноги Фонвизин бы не поклонился… Но только та альтернатива, которую Достоевскому хотелось бы найти, возможно, в декабристе Якушкине «декабристу Чацкому», была весьма условной…
И дворец занять было можно, можно было и убить Николая, можно было даже многого добиться, угрожая царю и иже с ним пушками Петропавловки, можно было, наконец, и самим притащить пушки и «палить», а не ждать, покуда «те» не начнут «палить». Можно, короче, было сделать так, чтобы вооруженное восстание удалось.
И пошло бы…
«…Разделяются члены общества на повелевающих и повинующихся. Сие разделение неизбежно потому, что происходит от природы человеческой а, следовательно, везде существует и существовать должно. На естественном сем разделении основано различие в обязанностях и правах тех и других».
Далее.
«Всякие частные общества, с постоянною целью учреждаемые, должны быть совершенно запрещены, как открытые, так и тайные, потому что первые бесполезны, а вторые вредны. Первые потому бесполезны, что они таких только предметов касаться могут, которые входят в круг действия правительства и для которых правительство уже учреждено со всеми отраслями, частями и подразделениями, особенно при существовании волостных обществ. Вторые же потому вредны, что они таких только касаться могут предметов, которые не могут быть сделаны гласными, а таковые предметы не могут быть иначе признаны, как зловредными, ибо государственный порядок… не только ничего доброго и полезного не принуждает скрывать, но даже, напротив того, все средства дает на их введение и обнародование законным порядком и к объявлению таких предметов и статей дружески и благосклонно всех и каждого приглашает. Следовательно, скрывать нечего добро… Увеселения и забавы дозволяются всякого рода, как частные, так и общественные, лишь бы они не были противны чистейшей нравственности и не заключали бы в себе разврата и соблазна. За сим обязано правительство бдительный и строгий иметь надзор. Весьма полезно заводить народные празднества для усиления народного духа и укрепления гражданской, дружеской связи. Сия статья предоставляется мудрому обдуманию Верховного правления…»
П. И. Пестель. Русская Правда
«Пестель был один из самых великих деятелей того времени. Это был человек огромного ума и железного нрава».
Н. П. Огарев. В память людям 14 декабря 1825 г.
«Русская Правда» Пестеля не была известна Герцену и Огареву. А как бы отнесся к одному только стилю этого документа Щедрин? Кстати сказать, то обстоятельство, что Герцен и Огарев, оценивая декабризм с точки зрения его идейно-исторической сущности и в известной уже исторической ретроспекции, не были осведомлены о содержании главного программного документа наиболее радикального его крыла, – это обстоятельство само по себе является существенным элементом в воззрениях Герцена и Огарева на декабризм, в заметной мере определяя некую суммарность восприятия ими декабризма как цельного явления.
В нашей специальной исследовательской литературе высказывается соображение относительно наличия в декабристском заговоре нескольких заговоров, о «заговорах в заговоре». С известной долей условности можно, наверное, говорить об этом, то есть о том, что был «заговор» Сперанского, а был и «заговор генералов», был еще «заговор прапорщиков» и т. д. Положим, так, но не в том, думается, самое существенное… «Русская Правда» Пестеля – не программа «русского пути» становления буржуазного общества в России. «Русская Правда» – это прежде всего определенного рода социальная утопия, сильной стороной которой было, как и во всех почти классических утопиях прошлого, отрицание сущего, а в положительной своей части эта утопия содержит идеи деспотические. Пестелевский проект имел в виду введение определенного рода диктатуры, которая, если судить хотя бы даже только по приведенным выдержкам, была бы достаточно всеобъемлющей – вплоть до полиции нравов и административной регламентации разного рода народных ликований, вплоть до «чтения в душах», если угодно. Не случайно пришла Завалишину-старшему в голову идея «Ложного Ордена», но не случайно в эту идею поверили некоторые идеологи декабризма, скажем, по некоторым сведениям, Рылеев. И если «Русская Правда» Пестеля – утопия, то «Ложный Орден» Завалишина-старшего – антиутопия, а вместе эти проекты составляют некую дилогию, смысл коей будет растолковываться историей в мельчайших узнаваемых деталях… Конечно, фигура Якушкина на этом идейном фоне обретает сейчас новый смысл и новое значение для нас. Можно было бы сказать, что это фигура антиэкстремистская, только слишком уж напрашивающимся пока еще представится такое утверждение, слишком готовым. Не так просто и прямолинейно, думается, все тут обстоит, о чем – ниже.
«Трудно было устоять против обаяний Союза, которого цель была: нравственное усовершенствование каждого из членов, обоюдная помощь для достижения цели… В дали туманной, недосягаемой виднелась окончательная цель – политическое преобразование отечества».
Е. П. Оболенский. Воспоминания
«…Надобно сказать, что и политический характер, принятый Обществом, подчинялся нравственному, принятому в основание Общества».
Е. П. Оболенский. Там же
«…Основная мысль социализма и коммунизма тождественна с предписываемыми Евангелием обязанностями любви к ближнему и братолюбием… Если бы государства и народы были проникнуты духом Христовым, то форма правления была бы вещью равнодушной – и в монархиях и в республиках одинаково бы повиновались Христову закону; хотя, однако, форма республиканская и наиболее соответствует христианскому обществу. Вы справедливо заметили, любезнейший Евгений Петрович, что роскошь и даже так называемый комфорт не делает людей счастливыми и что физическая жизнь чем проще и безыскусственнее, тем более располагает сердце к принятию благодати; применяя это к русским крепостным, вы не обратили, однако, внимания на то, что, сохраняя эту благодетельную простоту, они еще более бы получили восприимчивости к действиям благодати, перестав быть вещами… Этому не противоречит и учение Христово, ибо во всей Европе что другое, как не это благодатное учение, уничтожило крепостное состояние; только в одной нашей России оно не произвело этих вожделенных последствий, да, кажется, в Византии до ее падения оставались рабы».
М. А. Фонвизин – Е. П. Оболенскому.Тобольск, мая 15-го 1851 г.
«Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним поклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтоб непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами… И все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть… Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле…»
Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы
«…Один – самый софистический ум, другой – самая доктринерская, самая деспотическая воля прошлого столетия, – Жан Жак Руссо и Робеспьер, – сыграли самую роковую роль в истории прошлого столетия. Первый был пророком доктринерского государства, а Робеспьер, его достойный и верный ученик, пытался на практике осуществить его учение и сделаться верховным жрецом новой доктрины… Руссо выдумал Высшее Существо, отвлеченного и бесплодного Бога деистов. И во имя этого Высшего Существа Робеспьер гильотинировал сперва геберистов, а потом самого гения революции, Дантона, в лице которого он убил республику, приготовив таким образом путь неизбежному с тех пор торжеству Наполеона».
Михаил Бакунин. Бог и Государство

В пору Якушкина «земельный вопрос» не был, по сути дела, вопросом собственно политико-экономическим. В известном смысле можно сказать, что он закономерно оказывался своего рода перифразой вопроса о свободе. И вместе с тем он был вопросом о той почве, на которую можно было бы опереться в борьбе за эту свободу, чтобы не повиснуть в воздухе, в частности, в конце концов, и в петле палача: императорского ли, какого-нибудь «неопугачевского» – все равно. Драма декабристов, думается, заключалась не только в том, что, согласно известнейшему ленинскому выражению, они были страшно далеки от народа, но и в том, что сблизиться с народом, который находился тогда на той ступени исторического развития, на которой, кроме нового издания пугачевщины, он произвести ничего не мог, декабристы революционным путем не хотели и не могли. Такое сближение было бы социальным самоубийством. Всякая новая пугачевщина едва ли не прежде всего как раз их бы – носителей дворянской политической активности – первым делом и смела бы с земли, со всем их окружением, со всей их культурой, со всеми их идеями свободы. Их же первых в этом случае перевешали бы и перерезали бы вместе с их женами, которым судьба готовила славную участь «декабристок». В таких условиях обращение к крестьянским массам было бы очевидной политической авантюрой с точки зрения интересов и задач дворянской революционности, а никакой иной в ту пору и не пахло. Декабристы фатально оказывались между молотом самодержавной карательной машины и наковальней слепой крестьянской стихии, ненавидевшей дворянство и верившей (вплоть до 1905 года!) в царя-батюшку. Не потому ли декабристы и испытывали столь острое чувство социального одиночества и даже обреченности («как славно мы умрем!»), не потому ли и обращались к солдатам от имени «хорошего царя» Константина? Не потому ли, в частности, и стояли на площади, что двинуться было исторически им некуда – впереди был царь, позади были их крепостные люди? Ощущение подвешенности было очень в высокой степени присуще многим из декабристов, и многие из них все тянулись и тянулись куда-то, словно стараясь каким-то образом хоть коснуться самой поверхности «почвы» под ногами, опереться, устоять, но «почва» уходила, а веревка натягивалась, тело по-особому распрямлялось и голова поднималась все выше. Это была поза последней гордости, несгибаемой – согнуться было нельзя, можно было только вывернуться и отскочить, но это был бы уже совсем иной сюжет, иной жизненный поворот, и на следствии, когда некоторые попробовали это сделать, было уже поздно. Было еще одно искушение – взглянуть вверх мимо петли и увидеть вместо петли что-то иное, за что, не имея под ногами «почвы», можно было бы уцепиться хоть взглядом и хоть так поддержать свой дух. Да нет, это не «красивые слова»! Что там! Феномен чуть не поголовного обращения декабристов к религиозному утешению в период следствия, вернее будет сказать, начавшийся в период следствия, иначе как и объяснить?
«…Пусть соберутся все мудрецы мира и доказывают мне, что я не существую, не есмь, – я, быть может, стану в тупик от их диалектики, да все же им не поверю. То же самое скажу им, когда они, обескачествуя высочайшее существо, приведут и его к нулю. Вера в премудрую, преблагую, в всемогущую, самобытную причину вселенной столь же необходима мне, сколь необходима мне вера в собственное существование. Без той и другой я совершенно теряюсь в хаосе; без них моим единственным спасением из бездны отчаяния может быть только смерть или безумие».
В. К. Кюхельбекер. Дневник
«Большая часть декабристов воротилась с убеждениями христианскими до набожности. Шли ли они с теми же убеждениями во Сибирские рудокопни, или ссылка заставила их искать религиозного утешения? Это разве позже объяснится теми из них, после которых найдутся записки. Да надо вспомнить и то, что общество 14 декабря строилось под двойным влиянием революции и XVIII столетия, с одной стороны, и с другой стороны – революционно-мистического романтизма, который не у одного Чаадаева дошел до искания убежища в католическом единстве и вовлек немало людей в какое-то преображенное православие. Дело в том, что для политической борьбы, для гражданского переворота, не только тогда, но и теперь, но еще надолго – теоретический вопрос религиозных или философских убеждений останется вне вопроса, и мирно допустит сойтись вместе в деле гражданского преобразования ультрамонтанта и атеиста, и стать заодно в движении, с которым оба согласны; да и смешно было бы в основание гражданского союза не поставить свободы совести».
Н. П. Огарев. Кавказские воды(Отрывок из моей исповеди)
«Если мы что одно имеем сказать против личности Рылеева, – это то, что он увлекся общим тому времени мистицизмом, особенно во время тюремного заключения и под влиянием замечательно благородной личности протоиерея Казанского собора Мысловского… Надо здесь заметить, что тогда почти все увлеклись мистицизмом. Перед казнью все причащались, кроме Пестеля, который остался верен своему здравому уму. Официальные донесения и даже неофициальные воспоминания стараются уверить, что это потому, что Пестель был лютеранин; мы убеждены, что это потому, что Пестель был сильный человек».
Н. П. Огарев. В память людям14 декабря 1825 г.
Некоторая несомненная внутренняя противоречивость двух приведенных только что суждений Огарева очевидна. Но она и содержательна, она отражает в «снятом» виде противоречия самого развития передовой русской общественной мысли во всю ту пору, когда идее исторического оптимизма, без которой вообще нечего ратовать за приближение «светлого будущего», не на что, казалось, было и опереться с помощью доводов «здравого разума» в окружающей «неразумной действительности», когда без апелляции к «вере» оставалось одно бесплодное вроде бы отчаяние. «Нерешенность многих проблем общественной науки, неумение Герцена и Огарева справиться с ними на путях рационализма, далекий отлет их теоретических мечтаний от современной им русской действительности, – читаем в книге А. И. Володина[4]4
Современный философ (ред.).
[Закрыть]«Начало социалистической мысли в России» (1966 г.), – …обусловило тот бесспорный исторический факт, что ранний русский социализм… выступил в религиозном облачении». Только вот вернее, быть может, было бы говорить о некоем синтезе религиозности и рационализма, который представлял собой «русский социализм» той поры и непосредственно предшествовавшего времени. Казалось, если обратиться к свидетельствам тех же Герцена и Огарева, сама историческая почва после катастрофы на Сенатской ушла из-под ног у людей, надо было хоть за что-то «уцепиться», «уцепиться» можно было только за «веру». Тот же, в общем-то, «маневр» проделала и мысль Белинского. Многие на «вере» и остановились в своем развитии, но для поименованных мыслителей религиозные иллюзии оказались необходимым этапом для всего последующего их духовного развития, а не были, конечно, лишь каким-то «срывом» и только лишь «отступлением», тем более каким-либо «позорным пятном» в их мировоззренческой биографии, если прибегнуть к этому непривычному, но уместному тут словосочетанию.
Едва ли не сама поразительная особенность внутреннего развития и всей судьбы Якушкина заключается в том, что ему было суждено «промоделировать» в очень яркой, очень выразительной, порой предельной форме многие важнейшие моменты развития идейно-нравственной жизни русского общества в весьма исторически ответственный период этого развития. И не только этого. В Якушкине история словно бы заявила себя наперед, словно бы именно в нем русская общественная мысль представила человечеству сжатую до одной личности и сконцентрированную в этой одной личности важнейшую свою тенденцию, Якушкиным угадывая свое будущее, свое развитие, свою собственную судьбу. Есть люди, которым дано в их суждениях предусмотреть дальнейший ход дел. Якушкин оказался человеком, в самой судьбе которого этот ход дел словно бы сам взялся предсказать себя и указать на многие свои существенные особенности.
Тем самым я не хочу теперь подвести читателя к одной, слишком известной и слишком риторической формуле, согласно которой Якушкина следовало бы зачислить в разряд «людей будущего». Не так. Не в том суть. В Якушкине была, видимо, такая степень духовной последовательности и внутренней верности себе, которая оказалась стержнем его судьбы, не позволявшим этой судьбе уклониться во что-то слишком уж случайное и ей, по сути, не свойственное. Якушкин словно бы сам «строил» себя в той последовательности и с той неуклонностью, без которых он бы рухнул, строил на одном фундаменте. И когда казалось, что он совершает нечто неожиданное и из ряда вон выходящее, при несколько более пристальном вглядывании едва ли не каждый раз оказывалось, что он просто оставался верен себе, своему характеру и своей, им же избранной, судьбе. Это была какая-то особая внутренняя ответственность человека, который словно бы и на самом деле чувствует, что не «просто живет», хотя при этом он как раз «просто живет», и только, а вместе с тем является носителем какого-то доверенного ему исторического «кода» и что код этот он призван удержать в себе, в своей жизни, чего бы то ему ни стоило, – не потеряться и не растеряться перед любыми превратностями окружающей жизни.
«С 1812 году на исповеди я не был; не имея истинного убеждения в таинстве причастиям, не почитал я себя вправе приступать к оному, тем более что никакие постановления, мне известные в России, не позволяют видеть в исповеди и причастии единственно обряд наружный.
Государю императору Николаю Павловичу на верность подданства я не присягал, ибо мне известно, что в приносящем присягу предполагают веру к исповеданию церкви, которой в себе не чувствуя, я не почитал себя в праве присягнуть по установленному на сей щет порядку».
Из следственного дела И. Д. Якушкина
«Мысловский… посещал меня ежедневно; мы с ним очень сблизились; он мне приносил письма от моих. Подосланный правительством, он совершенно перешел на нашу сторону. Сначала я решительно не хотел читать принесенных им писем, опасаясь, чтобы из этого не вышло беды для него; но он ужасно этим обиделся и сказал мне, что он никогда не сочтет преступлением служить ближнему, который находится в таком положении, как я. Во всех этих случаях он действовал так ловко и решительно, что я, наконец, за него успокоился и через него переписывался с своими. Бывши в раздумье, назвать мне или нет известных мне членов Тайного общества, я попросил совета у Мысловского. Можно было подумать, что он только и ждал этого вопроса. Он отвечал мне и даже несколько торжественно, что я веду себя не совсем благородно, и, тогда как все признались, я моим упорством могу только замедлить ход дела в комитете. На что я мог ему ответить только: «Так и вы, батюшка, тоже против меня; я этого не ожидал от вас». При этих словах он бросился меня обнимать и сказал: «Любезный друг, поступайте по совести и как бог вам внушит».
Я, наконец, отправил мои ответы, не назвавши никого; но сам я чувствовал, что прежнее намерение мое не называть никого слабело с каждым часом. Тюрьма, железа и другого рода истязания произвели свое действие, они развратили меня. Отсюда начался целый ряд сделок с самим собой, целый ряд придуманных мною же софизмов. Я старался себя уверить, что, назвавши известных мне членов Тайного общества, я никому не могу повредить, но многим могу быть полезен своими показаниями.
Отославши ответы, в которых я никого не назвал, на другой день я потребовал пера и бумаги и написал в комитет, что я, наконец, убедился, что не называя никого, я лишаю себя возможности быть полезным для тех, которые бы сослались на меня для своего оправдания. Это был первый шаг в тюремном разврате… Мысловский по-прежнему навещал меня, но никогда не заводил со мной религиозного разговора. Однажды мне случилось сказать ему почему-то, что правительство наше не требует ни от кого православного исповедания. Мысловский отвечал, что правительство действительно ничего не требует, но что многих людей, которые были крещены в православной вере и которые оказались впоследствии неправославными, ссылали в Соловки или другие монастыри на заключение.
Этими словами Мысловский отворил мне еще один выход к соблазну. Я начал рассуждать очень основательно, что ежели правительство требует от православных, чтобы они всегда оставались православными, то, следовательно, оно требует только одного соблюдения обрядов.
На шестой неделе поста я прямо сказал Мысловскому, что желаю исповедаться и причаститься. «Любезный друг, – отвечал он мне, – я сам хотел давно предложить вам это, но, зная вас, никак не смел»… он хотел было начать формальностью, но я прямо сказал, что он знает мое мнение на этот счет. После этого он только спросил у меня, верю ли я богу. Я отвечал утвердительно. Он пробормотал про себя какую-то молитву и причастил меня.
Впоследствии я узнал, что этот день был для казанского протопопа днем великого торжества… Император велел снять с меня наручники».
И. Д. Якушкин. Записки
«Не твердил ли я вам почти во всяком письме, что на все должна быть воля божия? а с его волею, отдающеюся в сердцах царевых, наш долг согласоваться».
П. Н. Мысловский – Н. Н. Шереметевой.29 июня 1832 г.
И Якушкин начал давать показания. Действительно, все лица, названные им, были уже известны к тому времени следствию по показаниям иных подследственных. Показания самого Якушкина целиком подтверждались тем, что в свою очередь было уже известно следствию. Но тут случилось нечто такое, что едва не обернулось по вине Якушкина катастрофой для одного из его товарищей по Обществу.
«…Якушкин, побуждаемый раскаянием, прислал без всякого вопроса чистосердечное объяснение, что Штабе Капитан Муханов говорил в Москве у Генерал Майора Орлова, после происшествия 14 Декабря, что взятых под арест возмутителей ни что не спасет, кроме смерти Государя, – и что он знает человека, который готов убить Его, а у Полковника Митькова предлагал нескольким человекам отправиться в С.-Петербург…»
Из следственного дела И. Д. Якушкина
Дело было нешуточное. В то время как следствие готовилось к «суду», вернее сказать, к осуждению тех, кто «злоумышлял» на жизнь бывшего, уже скончавшегося ко времени событий на Сенатской, императора Александра, вдруг обнаружился замысел покушения на «здравствующего», существующего и уже царствующего Николая. Заговор словно бы вступал в какую-то новую свою стадию, готов был перевалить через катастрофу Сенатской площади и идти дальше…
«Я совершенно пропал… Положение мое было ужасное, это были минуты самые тяжелые из всех лет моего заточения. Я решился написать к императору и рассказать в письме все… Я просил наложить на меня какое угодно наказание, но избавить Муханова от ответственности в деле, в котором он участвовал одной болтовней…»
И. Д. Якушкин. Записки
«Государь!
Преступнейший из подданных ваших осмеливается повергнуть себя к стопам вашего императорского величества в надежде на неограниченное милосердие ваше.
В показаниях моих высочайше учрежденному Комитету объявил я, что в присутствии моем и полковника Митькова штабс-капитан Муханов произнес несколько слов, конечно, необдуманных, но потому не менее преступных против лица вашего императорского величества. Повелите, о государь! да подвергнусь за сие один я взысканию законов как единственно в сем виновный; я привез Муханова к Митькову, без чего, вероятно, он не подверг бы себя ответственности за несколько пустых слов; может быть, я преступным молчанием моим поощрил его повторить Митькову то, что я слышал от него прежде. Не позвольте, о государь, чтобы все сие происшествие обременяло другого кроме меня новым преступлением перед лицем вашего императорского величества.
Пусть узы мои стеснятся, пусть буду осужден я к наистрожайшему наказанию; но избавленный милосердием вашим, о государь! от упрека совести, что малодушием или неосторожностию вверг я других в несчастие, не перестану я благословлять августейшее имя вашего императорского величества. Всемогущий поможет мне не изменить обету сему.
Да будет за меня предстательницей пред лицом вашего императорского величества вера моя к неограниченному милосердию вашему.
Вашего императорского величества верноподданный
1826-го года февраля 22-го дня. Отставной капитан Якушкин».
Все как-то «обошлось»… Муханова не повесили, а дали 12 лет каторги за «дерзкие слова». Похоже, что Николай почти инстинктивно почувствовал, быть может, что каким-либо образом выделять идею покушения персонально на него лично из общей «темы» декабристского заговора и тем самым с неизбежностью указывать на эту идею было бы для него и тактически нерационально, и небезопасно. Быть может, сыграло тут свою роль к тому же и то еще обстоятельство, что в «историю Муханова» был замешан Михаил Орлов, тоже оказавшийся свидетелем «дерзких слов» Муханова и даже поцеловавший при свидетелях Муханова после произнесения им этих самых слов. Так или иначе, но Якушкина после очной ставки с Мухановым, на которой последний «не запирался, что говорил вздор» и вместе с тем заявил, что «намерения совершить преступление… никогда не имел», после этой «страшной», по словам самого Якушкина, минуты, его «отвели в равелин и с этих пор не тревожили до окончания следствия». До той минуты, когда изломали шпагу о его голову.





