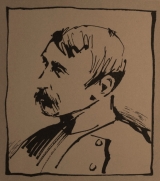
Текст книги "Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина"
Автор книги: Александр Лебедев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
…Утопист, идеолог,
Президент собранья,
Старых барынь духовник
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик…
…И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая…
А Россия – боже мой! —
Таска… да какая!..
…Но назло врагам она
Все живет и дышит,
И могуча, и грозна,
И здоровьем пышет.
Денис Давыдов. Там же
Сейчас это отождествление Чаадаева с «мошками да букашками» – «нашими Мирабо» может восприниматься как некий курьез запальчивого воображения «поэта-партизана». И только. Нет, не так уж все-таки безоглядно запальчив был Денис Давыдов в своих поэтических «набегах». В этом едва ли, конечно, не преднамеренном смещении понятий и оценок сказалось многое, некое ура-патриотическое «антизападничество», в частности. Кстати, стихотворение представляется продуманным. «просчитанным», как и многие иные, столь, казалось бы бесшабашные создания пера этого поэта… Стихотворение появилось в тот как раз год, когда разразилась буря вокруг «Философических писем» и Чаадаев был «высочайше» определен в сумасшедшие. Но это – к слову. А вот прецедент нарочитого смешения подлинного свободомыслия с показным «вольнодумством» заслуживает внимания. Так смешиваются, смещаются важные координаты в сфере социальной нравственности и духовных традиций. Иное отчасти дело, что отличение позиций «наших Мирабо» от позиции Чаадаева могло оказаться и не по плечу Давыдову – гусарских понятий о чести тут было мало.
«…Император Александр стыдился перед Европой, что более 10 миллионов его подданных – рабы… Хлопоты мои в Петербурге по освобождению крестьян кончились ничем. В это время вообще в Петербурге много толковали о крепостном состоянии. Даже в Государственном совете рассуждали о непристойности, с какою продаются люди в России. Вследствие чего объявления в газетах о продаже людей заменились другими; прежде печаталось прямо: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка продаются; теперь стали печатать: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка отпускаются в услужение, что значило, что тот и другая продавались… Благомыслящие люди, или. как называли их, либералы, того времени более всего желали уничтожения крепостного состояния и, при европейском своем воззрении на этот предмет, были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности»…
И. Д. Якушкин. Записки
«…Мне хотелось знать, оценят ли крестьяне выгоду для себя условий, на которых я предполагал освободить их… Они слушали меня со вниманием и, наконец, спросили: «Земля, которою мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?» Я им отвечал, что земля будет принадлежать мне, но что они будут властны ее нанимать у меня. «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение. Русский крестьянин не допускает возможности, чтобы у него не было хоть клока земли, которую он пахал бы для себя…»
И. Д. Якушкин. Там же
Якушкин был наделен не созерцательно-страдательным, но активно-конструктивным мировосприятием. Это важная черта его натуры, и я не хочу как-то затенять ее для удобства той части читателей, которые привыкли, быть может, воспринимать тех или иных героев в соответствии с «просто нравится» или «просто не нравится». В «случае» с Якушкиным такой подход не просто недостаточен – непригоден. Тут требуется вникнуть в суть и смысл его отношения к жизни, подтянуться до уровня той деятельной основательности, с которой Якушкин воспринимал все, к чему обращался. Это, к слову сказать, очень высокий уровень исторически ответственного мировосприятия, не ищущего себе замены в словах и не истощающего себя в глухом, замкнутом отчаянии. По причинам, о которых не здесь речь, мы, похоже, подотвыкли от якушкинских мерок. Хотя, пожалуй, нам больше довелось узнать о той трагической коллизии, которая, как считал еще Энгельс, порождается противоречием между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления, с чем и столкнулся Якушкин в своей ранней попытке раскрепощения крестьян путем их «пролетаризации»…
Я не буду стараться «облегченно» говорить о трудном деле якушкинской жизни, о тяжкой его участи, которую он с честью превозмог. Это была бы не просто пустая затея – не к добру было бы такое упражнение по части риторики слова и мысли. У Якушкина можно поучиться именно антириторизму образа мыслей, действий и чувств. Что насущно.
Освободительный антикрепостнический порыв Якушкина оказался несостоятелен; но не потому, что шел от какой-либо романтической экзальтации, жажды громкого поступка, эффектного жеста – он шел как раз от стремления найти какое-то практическое применение мечтам и идеалам, от стремления выйти за пределы одних только порывов души. Но…
«Ужасное положение пролетариев в Европе тогда еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и потому возникшие вопросы по этому предмету уже впоследствии тогда не тревожили даже самых образованных и благонамеренных людей…»
И. Д. Якушкин. Записки
Сын И. Д. Якушкина – Е. И. Якушкин освободил крестьян с землею безвозмездно в 1855 году, то есть еще до отмены крепостного права.
«Якушкину принадлежит несомненная честь – предусмотреть новейшие формы эксплоатации крестьянства слишком на поколение вперед… Впоследствии Якушкин… опять опережая свой век на целое поколение, своим умом додумался до… той самой формы, которая была осуществлена реформой 19 февраля…»
М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен
«История всегда была… для Покровского «политикой, опрокинутой в прошлое»… Единого заговора, по Покровскому, собственно, не было: был не один, а два заговора: дворянам севера противостояли мелкие буржуа южные. Северные союзники, собственно, оказались… «северными врагами» Пестеля.
Всячески подчеркивается якобинизм Пестеля… В основном же ядре декабристов Покровский видит лишь «предшественников» 1861 года»…
М. В. Нечкина. Восстание декабристов в концепции М. Н. Покровского
«Ошибки Покровского были восприняты и в ряде случаев еще увеличены сторонниками его школы. В моих работах о декабристах я стояла на ошибочных позициях М. Н. Покровского, проводила «экономико-материалистический» подход к генезису декабризма непосредственно от экономики эпохи, недооценила значение всемирно-исторического этапа, начало которому положила Великая французская буржуазная революция, и некоторое время оставалась на ложной точке зрения относительно «якобинизма» Пестеля»…
М. В. Нечкина. Там же
«…Общеевропейские закономерности, специфика их проявления в России до сих пор не выявлены четко, суммарно даже в монографических исследованиях. Соотношение общемировых и национальных факторов в генезисе декабризма не стало предметом методологического рассмотрения. Наряду с признанием декабризма одним «из слагаемых во всемирно-историческом процессе революционной борьбы против обветшалого феодально-крепостного строя» сохраняются формулировки, по существу противопоставляющие интернациональные и национальные факторы генезиса декабризма: «Движение декабристов выросло на почве русской действительности. Не увлечение западноевропейской передовой философией, не заграничные военные походы, не примеры западноевропейских революций породили движение декабристов, его породило историческое развитие их страны, объективные исторические задачи в русском историческом процессе» (М. В. Нечкина. Декабристы. 1982, с. 5., 7)… Часто приводилось известное высказывание А. А. Бестужева (Марлинского): «Еще война длилась, когда ратники, возвратись в домы, первые разнесли ропот в классе народа. «Мы проливали кровь, – говорили они, – а нас опять заставляют потеть на барщине»… Войска от генералов до солдат, пришедши назад, только и толковали: «как хорошо в чужих землях». Сравнение со своим естественно произвело вопрос: «почему же не так у нас?» У большинства это высказывание фигурировало в усеченном виде: сохранялась первая его, «антикрепостническая», часть, убиралась часть вторая, вводящая в круг идущей еще от Радищева проблемы: рождение дворянской революционности в России на стыке российского и западного исторического опыта… Мы бы назвали проект Пестеля проектом «русского пути» буржуазной эволюции страны, отличным от проектов «американского», или «прусского» типов… Хорошо, могут сказать нам. Свои, пусть минимальные, шансы на успех декабристы упустили. И все же в день 14 декабря их победа не была исключена. Что в этом случае ждало декабристов дальше?.. Могут, правда, сказать: а правомерен ли сам вопрос о возможности победы декабристов?.. С этим, на наш взгляд, нельзя согласиться. Ведь если историк обречен на то, чтобы лишь описывать случившееся и, так сказать, задним числом подыскивать ему детерминирующие причины, то он теряет почву для научного анализа и переходит на позиции пассивного регистратора событий, если не их апологета… Истории всегда внутренне присуща альтернативность… Поражение декабристов явилось в истории России огромной национальной трагедией – факт, еще не понятый и не осмысленный нами в полной мере».
Е. Г. Плимак, В. Г. Хорос. Проблемы декабристского движении
Есть, встало быть, и такой поворот, есть и такой узел в сюжете борьбы декабристов против попыток царизма зачислить Вольтера «на русскую службу», как Лагарпа или, к примеру, Жомини, и сжечь гимназии и упразднить науки не иначе, как «оседлав коня Парнасска». И при таком повороте возникают весьма важные проблемы освещения декабризма вообще, темы поражения декабристов – в особенности темы исторического смысла всего декабристского движения – прежде всего. Да и фигура каждого из участников движения получает особую окраску. Ведь одно дело, согласимся, когда речь идет о движении протеста, не имеющего шансов на успех. И совсем иное дело, когда мы говорим о людях, имевших свой исторический «шанс» и резон, но потерпевших поражение по тем или иным причинам.
Статье, фрагмент из которой тут приведен, предпослан эпиграф: «Восстание… 14 декабря как факт имеет мало последствий, но как принцип имеет громадное значение (М. Лунин)». Как знаменательно разошлись тут «факт» и «принцип»! И который из двух для нас ныне важнее?
Исторический факт не надо фетишизировать, как не надо фетишизировать вообще что бы то ни было. И если что-либо было так, а не иначе, то совсем не потому, что никак иначе вообще и быть не могло. И не состоит ли задача, в частности историка, в том, чтобы попытаться выяснить, почему же было так и как еще могло быть. Фетишизация истории – фатализм, обращенный вспять. Но не только. Авторы статьи правы: есть тут нечто от апологетики сущего. В истории все «правильно», по тому одному, что все «так и было на самом деле». Простая логическая ошибка, видимая подмена понятий становится чем-то вроде «самоочевидности», обретает силу объективного взгляда на вещи. Но фетишизация истории есть всего лишь своего рода исторический сервилизм – следствие сервилизма самого способа мышления. Под внешне респектабельным видом «строгой научности» и фактологической «фундированности» налагается запрет на историческое сравнение. И еще, если «правильно» все, что было, и именно по одному тому, что оно было, то столь же «правильно» наперед и все, что будет. Любопытнейшая вещь – психология «верности факту»…
Якушкин неповторим и в известном смысле не может быть нравственно превзойден. Как у его товарищей по декабристскому движению, так и у нас – его товарищей по всеобщему освободительному движению людей в мире, – не может быть тождества с его жизненной позицией, строем чувств и образом мысли. Это ясно. Мы находимся с Якушкиным в состоянии своеобразного диалога. Новое мышление диалогично по своей принципиальной сущности, а диалог предполагает сопоставление мнений, позиций, уровней. Обращение к личности Якушкина обещает поэтому нам, в частности, постановку таких нравственных проблем, которые вне сопоставления с этой личностью вообще могут быть рассмотрены лишь в абстракции, то есть вне пределов нравственного опыта каждого из нас. Обращение к Якушкину при условии той паритетности мнений «сторон», без которых нет диалога, открывает для нас возможность видения той альтернативы, которая не ограничивается рамками собственно декабризма, но может быть продолжена вплоть до представимых горизонтов развития нашего «состояния духа» вообще.
В почти полной беспредельности «всех общественных отношений», взятых, согласно известной марксистской формуле, в их совокупности, именно личность, пожалуй, выступает в роли «вариатора», если можно так сказать, развития событий. Личность – живой «вариант» истории, личностью история пробует новые пути. И «пробы» в этом случае стоят «ошибок», потому что «ошибки» – «пробы» истории.
Как «факт» движение декабристов, их участь и судьбы могут иметь «мало последствий», а вот как «принцип» значение их действительно громадно. Нечто не совершилось, но могло совершиться. Общественное сознание хранит нравственный опыт и урок – декабризм навсегда впечатлен в систему наших нравственных представлений и потребностей. «Чести клич» может быть и не услышан современниками – «слово, – писал Чаадаев, – живет лишь в отзывчивой среде». Нет ее – и оно застынет, как звуки в охотничьем роге барона Мюнхгаузена, оттаявшие вдруг в благоприятной среде. Барон (или его прототип) служил в XVIII веке в русской армии, знал, что такое русские холода. Но о судьбах слова в «неотзывчивой» среде Чаадаеву было, конечно, знать лучше. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Да. Как – не дано. И когда – не дано. И даже – отзовется ли. История вероятностна. Но потому желание «бросить слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль» не так уж смешно и нелепо.
«Чести клич» может быть и не услышан другими – он может прозвучать в душе, и тогда он станет «внутренней судьбой» человека, которая и определяет контуры личности.
«Нужно быть доблестным ради себя самого… Совсем не для того, чтобы выставлять себя напоказ, должна наша душа быть стойкой и добродетельной; нет, она должна быть такою для нас, в нас самих, куда не проникает ничей взор… Она научает нас не бояться смерти, страданий и даже позора; она дает нам силы переносить потерю наших детей, друзей и нашего состояния… Это – выгода гораздо большая, и жаждать, и чаять ее гораздо достойнее, чем тянуться к почету и славе, которые в конце концов не что иное, как благосклонное суждение других людей о нас».
Мишель Монтень. Опыты
К слову.
Я счел за благо излагать дело, для которого и написана эта книга, и рассказывать об участи человека, к которому она обращена, возложив на самого читателя в значительной части труд домыслить те связи, которыми объединяются многие ее фрагменты. Кто «я» такой и достаточно ли у этого самого «я» оснований, чтобы поступить именно так, а не как-либо иначе, – вопрос иной. Чуть позже я постараюсь этот вопрос выяснить…
«Государь! честь дороже присяги, нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще».
Это было сказано А. Н. Раевским в ответ на обвинение Николая в том, что Раевский преступил присягу, не донеся о тайном обществе. Афористическая формула значила многое. Честь оказывалась неотделимой от существования личности, отделяясь от вмененного в обязанность, от мундира. Николай угадал эту сторону дела в событиях 14 декабря, навсегда сохранив острую подозрительность ко всему личностному. Он почуял, что неофициальное слишком близко к недозволенному… Но если даже лишь появилось понятие о «чести мундира», значит, уже существует и еще какая-то иная честь – «немундирная», неформальная, извне никем не присвоенная, внутренняя, собственная честь человека.
Во времена декабристов было, конечно, еще очень остро представление о сословной, дворянской чести. Оно волновало Пушкина, Грибоедова, волновало многих декабристов. Тема попранных дворянских прав – прав, попранных самодержавием, представляла собой важный элемент общедекабристской идеологии. Идея восстановления дворянства в его правах перед лицом почти уже совершенно узурпируемой, почти уже самозванной после Петра I самодержавной власти, тем паче перед лицом всякого рода временщиков, всякого сорта фаворитов и людей «в случае» – эта идея была по существу идеей перехвата дворянством политической активности у самодержавия. С этой идеей связаны, безусловно, многие политические проекты дворянских революционеров. Это известно и уже достаточно освещено в исследовательской и популярной литературе о декабризме. Но людям такого уровня, как, скажем, Чаадаев, становилась все более близка, все более ими осмыслялась и прочувствовалась мысль о внесословной чести человека, которую-то, собственно, и следует беречь, которой, на самом деле, и стоит лишь жертвовать едва ли не всем – мнением «толпы», карьерой, даже – порой – жизнью. Но дело все это было сложным, порой мучительно запутанным. «Невольник чести» – это было сказано Лермонтовым, который и сам погиб на дуэли, на смерть поэта. О какой чести сказано тут у Лермонтова, и чувствовал ли он сам себя таким невольником? «Неволя чести» – что это такое? Может быть, поэтический перифраз Кантова «категорического императива»? Или все-таки речь тут об узах условных понятий? Чаадаев говорил, что, будь он в роковые дни подле Пушкина, катастрофы бы не произошло. С точки зрения многих современных авторов, Пушкин занял единственно возможную для своего достоинства позицию, решаясь на едва ли не спровоцированную дуэль. Но давайте попробуем поверить все-таки Чаадаеву, который, кстати говоря, однажды вроде бы уже уберег Пушкина – было дело – на самой грани непоправимого, быть может, поступка. Что же тогда из всего этого следует? Какие доводы мог представить Пушкину Чаадаев, какую нравственную позицию мог противопоставить пушкинскому понятию «оскорбленной чести»? Стоит, наверное, подумать. А ведь иные авторы и ныне находят, что у Пушкина вообще в ту пору не было никакого иного решения, кроме дуэли, не было и даже быть не могло. Более того, ныне приходится встречать в литературе и суждения относительно того, что Пушкин на дуэли с Дантесом грудью своей, так сказать, защищал честь и достоинство всей русской культуры, всей передовой русской общественной мысли того времени. Возникает своеобразный образ – модель дуэли на Черной речке как некоего трагического эпилога к Сенатской площади. Нравственно-психологический эпилог к социально-политической катастрофе… Впрочем, такого рода модель – дело, конечно, читательского воображения. Однако надо признать, что так или иначе, но в определенных социально-психологических обстоятельствах вопрос чести – это вопрос жизни, хочет того человек или нет, знает о том или не знает. И всегда, пожалуй, вопрос чести – вопрос судьбы.
«Честь… является душой монархического образа правления: не та философская честь, которая является не чем иным, как изысканным чувством, испытываемым благородной и чистой душой от своего собственного достоинства, которая имеет в основе здравый смысл и смешивается с долгом, которая существовала бы даже вдали от взоров людей, имея свидетелем лишь небо и судьей лишь совесть, но та политическая честь, природа которой состоит в стремлении к преимуществам и отличиям, которая ведет к тому, что люди не довольствуются тем, чтобы быть достойными уважения, а хотят главным образом того, чтобы их ценили, стремясь вложить в свое поведение больше величия, чем справедливости, больше блеска и достоинства, чем здравого смысла; та честь, которая содержит в себе по меньшей мере столько же тщеславия, сколько и добродетели, но которая в политическом устройстве заменяет самую добродетель, ибо она при помощи простейшего из всех средств заставляет граждан идти вперед к общественному благу, когда им кажется, что они идут лишь к цели своих личных страстей; та честь, наконец, часто по своим законам столь же странная, как и великая по своему действию, которая порождает столько возвышенных чувств и нелепых предрассудков, столько героических поступков и безрассудных действий, которая хвалится обычно уважением к законам, а порой считает также своим долгом нарушать их, которая повелительно приказывает повиноваться прихотям государя и, однако, разрешает отказывать ему в своих услугах тому, кто считает себя оскорбленным несправедливым предпочтением, которая повелевает одновременно великодушно обращаться с врагами отечества и смывать оскорбление кровью гражданина…»
Максимилиан Робеспьер. О бесчестящих наказаниях
Конечно, мысли Руссо, на которые Максимилиан Робеспьер здесь опирается, выраженно политизированы. Политизированы до такой степени, что собственно нравственная сторона как бы и затушевывается. Но важнее, пожалуй, тут иное: вопрос чести способен в определенных обстоятельствах становиться вопросом политики. Или по-другому и, быть может, вернее, определенная политика может становиться делом чести.
«…Кровью омыть запятнанную честь. Предрассудок общий, чуждый духа христианского! Им ни честь не восстановливается и ничто не разрешается, но удовлетворяется только общественное мнение, которое с недоверчивостью смотрит на того, кто решается не подчиниться общему закону».
Е. П. Оболенский. Воспоминания
«Вскоре после войны в общественном мнении обнаружилась большая перемена. Гвардейские и армейские офицеры, храбро подставлявшие грудь под неприятельские пули, были уж не так покорны, не так сговорчивы, как прежде. В обществе стали часто проявляться рыцарские чувства чести и личного достоинства, неведомые до тех пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесенной над народом милостью государей».
А. И. Герцен. О развитии революционных идей в России
«Пушкин в жизни обыкновенной, ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом при некоторых обстоятельствах бывал он злопамятен, не только в отношении к недоброжелателям, но и к посторонним и даже к приятелям своим. Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил он имена должников своих и долги, которые считал за ними. В помощь памяти своей он даже существенно и материально записывал имена этих должников на лоскутках бумаги, которые я сам видал у него. Это его тешило. Рано или поздно, иногда совершенно случайно, взыскивал он долг, и взыскивал с лихвою».
П. А. Вяземский. Приписка к статье «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева»
В сопоставлениях, противопоставлениях и перебивах разного рода документальных свидетельств общественной мысли, в возвратах к, казалось бы, прерванным или завершенным ее сюжетам – ее синкопы и контрапункты, ее пульсация, ее аритмия. Она идет не по какой-то ретроспективно от нас проложенной линии – она без нас жила и совсем не имела в нас какой-то теологической цели. У нее вообще нет никакой такой цели… В пору, о которой у нас речь, были все признаки кризиса общественной нравственности, слома определенных этических традиций. Этот кризис и этот слом резонируют в общественном сознании и новых поколений, смысл их и суть их – кризиса и слома – переосмысляются в сфере нравственных противоречий, присущих «последующим людям». Волны, идущие от нас вспять, сталкиваются с волнами, идущими к нам из прошлых веков. Нельзя и ждать, что линия, зона, точка – или как хотите еще – столкновения волн будет ровной, что не появятся всплески, водовороты, воронки и барашки. Все это закономерно; вернее, это и закономерно. В пору декабризма вошли в глубокий конфликт не две нравственности – официальная, «присяжная», мундирная, и новая – революционно-дворянская, – а три, четыре… Была еще и нравственность, были еще свои «понятия чести» у дворянства старого, потомственного аристократически-кавалергардского, нарождалась – вместе с чувством «личностного» самосознания, тесно связанного исторически с индивидуалистическим отношением к окружающему миру, с чувством личностной исключительности, – нравственность «частная» и в то же самое время общечеловеческая, как бы внесословная, внегосударственная и даже в каком-то смысле наднациональная. В известной мере нравственность «личностная», «человеческая», «индивидуальная» и «индивидуалистическая» находила отражение в стилистике сентиментализма, в культе «эмансипации души» и поэтизации ее суверенности и самоценной природы. Стилизованная наивность сентиментализма была своего рода эмоционально-психологическим кодом приоритета «естественного», «природного» начала в человеке, выражением своеобразного руссоистского «антропологизма». Тут был, конечно, и некий антирационализм.
«От природы человек не склонен мыслить. Мышление – это своего рода искусство, которое приобретают, и оно дается ему, пожалуй, еще труднее, нежели другие искусства. Я знаю только два класса людей, резко отличающихся друг от друга: класс мыслящих людей и класс людей не умеющих мыслить, – и это различие обусловлено почти исключительно воспитанием… Люди, всю жизнь работающие из-за куска хлеба, всецело поглощены своим трудом, житейскими заботами и умственно отнюдь не развиты. Невежество не наносит ущерба ни честности, ни нравственности, нередко даже содействует тому и другому, а размышления часто приводят к тому, что человек вступает в сделку с совестью и подыскивает оправдание своим неблаговидным поступкам. Совесть – самый просвещенный из философов… и самая честная в мире женщина, быть может, даже не знает, что такое честность… Достоинство женщины в том, чтобы оставаться безвестной… Всякая ученая девица останется девою до конца дней, ежели все мужчины на свете проявят благоразумие…» И еще.
«Счастлива, мой юный друг, страна, где нет надобности искать мира в пустыне! Но где такая страна?.. Золотой век почитают химерою, – и он останется навсегда химерой для людей с испорченным вкусом и сердцем. По правде говоря, о нем даже не сожалеют, ибо все эти сетования не отличаются искренностью. Что же следовало бы предпринять, дабы возродить золотой век? Надлежало бы сделать лишь одно, – полюбить его, а это вполне возможно».
Жан-Жак Руссо. Эмиль, или О воспитании
Условно-наивная, простодушно – «романсовая» фраза Карамзина «и крестьянки любить умеют» (сюжетная близость повести любовному романсу замечена в литературоведении) была, по сути дела, – при всей очевидной пасторальности и формы выражения, и даже прямого ее смысла – формулой-манифестом внесословной нравственности, одновременно и поэтому абстрактной, и демонстративно личностной. Дело не в том, кто ты по своему положению в обществе, определяемому случайным фактом твоего рождения, дело в том, что ты, лично, за человек сам по себе. «Бедная Лиза» – это тоже счастливо найденная формула-открытие, имеющая двойной смысл. Бедность – не преграда естественному чувству любви Лизы (то есть данного, конкретного человека), но вот судьба любви бедняжки Лизы взывает к искреннему состраданию и способна вызвать чувство презрения к высокородному «соблазнителю». «Честная девушка» Бедная Лиза гибнет, спасая тем свою честь. Эраст губит свою внутреннюю честь, не уронив ее в глазах людей своего круга. Бедная Лиза отчуждает, если позволить себе тут это специальное слово, истинную честь богатого Эраста…
Существовала большая нравственная многоукладность и чересполосица – признак глубоких социальных изменений, происходивших в обществе того времени. Общее понятие нравственности и чести размывалось и расслаивалось на множество частей, не сливавшихся ни в какое целое. Шкала нравственных ценностей представала своего рода лестницей вверх, ведущей вниз. О месте на этой лестнице норм и обычаев «екатерининских времен» было уже достаточно сказано. Передовое дворянство повело ближайший обратный отсчет от этой точки, все оглядываясь на нее. Была, к примеру, нравственность и честь элитарно-кавалергардская, парадно-преторианская. Кавалергардский полк традиционно был причастен к делам престолонаследия, обеспечивал дворцовые перевороты – тряс троны, составлял парадную охрану «царствующих особ», поставлял фаворитов для императриц и выдвигал из своей среды сочинителей дворянских конституций. Кавалергардами начинали М. Орлов и Пестель, кавалергардом был Лунин. Свои понятия чести были у старых (то есть служивших еще до переформирования части после ее известного «возмущения») семеновцев – прославленного в боях гвардейского полка, ведущего свою родословную еще от потешного войска Петра I. Бывший «старый семеновец» Якушкин достаточно скептически относился к М. Орлову, предполагая в нем эгоистическое высокомерие, настороженно – к Пестелю (вспомним подозрения ряда декабристов в «наполеонизме» вождя южан), а знаменитые письма-памфлеты Лунина из Сибири третировал как «выходки, подобные тем, которые он позволял себе… будучи кавалергардом… из тщеславия и для того, чтобы заставить говорить о себе». Конечно, суть дела в отношении неукоснительно лично скромного Якушкина ко всем этим людям отнюдь не определялась «полковыми понятиями чести» и предвзятостью, связанной с этими понятиями, но определенную предрасположенность или даже, быть может, некий привкус какой-то предрасположенности к неприязненному сомнению тут, пожалуй, можно почувствовать… А была еще, в свой черед, и армейская уязвленность по отношению к гвардии вообще. Но если Якушкина, скорее всего, настораживали и раздражали стиль поведения и нормативная поза кавалергардства, то в основе комплекса ущемленности честолюбивого чувства у общеармейского офицерства были, наверное, прежде всего основания карьерно-сословного свойства.
И был еще любопытнейший феномен гусарства, гусарских «понятий чести» – дерзости по отношению не столько к официальным, сколько к общепринятым нормам морали и «приличного поведения», стремящейся обязательно дойти до особого рода шалой наглости и столь часто граничившей с особого рода аморализмом напоказ, с ухарством и цинической «отчаянностью». Суррогат и одновременно кривляющаяся тень «высокого» честолюбия духовной элиты того времени.
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист…
. . . . . . . . . . . . .
…И крепко на руку нечист…
А. С. Грибоедов. Горе от ума
Как вроде бы ни странно, но гусарство оказалось исключительно живучей нравственной тенденцией (или традицией), исключительно стойкой формой особого рода стилизации определенных нравственных принципов – «от противного». Гусарство – в разных своих проявлениях – осталось, когда уже сгинули кавалергарды, гвардейцы старых времен, выветрилась почти совсем память о дворянском «кодексе чести», исчезли сами гусары в собственно профессионально-воинском понимании этого слова, обозначавшего части «легкой кавалерии». А гусарство и гусарское бреттерство все уцелевало, уцелевало влеченье – «род недуга» вдруг взять да и поставить на кон жизнь – свою или чужую, лучше, конечно, чужую, «блеснуть» так, чтобы «все так и ахнули», и вообще вести себя «вызывающе». Пусть – на дуэль, особенно, понятное дело, если твой противник не, как ты, «профессионал»-бреттер, а «дилетант» и когда, следовательно, он едва ли не заранее уже унижен тем чувством твоего превосходства, которое ты, как «профессионал» и специалист, над ним заведомо имеешь.





