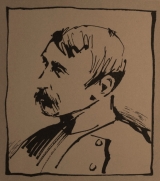
Текст книги "Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина"
Автор книги: Александр Лебедев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Не состоялась и дуэль Якушкина с Нарышкиным, и не был пущен в дело «кинжал» на царя. Вызов, который, как помним, почти уже послал Якушкин Нарышкину, был словно бы пролонгирован вплоть до «вызова на цареубийство». Этой своеобразной пролонгацией вызова «по личным мотивам» Якушкин словно бы силился напрямую, непосредственно сомкнуть ритуал дуэли с актом политического убийства в форме дуэли с заведомо гарантированным смертельным исходом для обеих «сторон» при свидетелях, но без секундантов. Это было, конечно, парадоксальным решением в той психологической ситуации, в которой себя чувствовал и которую столь болезненно переживал Якушкин, как бы застыв в жесте вызова после пережитой им драмы чувств. Нужна была какая-то разрядка, нельзя было навсегда уже остаться в нелепо безадресном жесте отмщения. И логика нравственно-психологического чувства указала на предельную цель отмщения и вместе с тем на оптимальный вариант разрядки всей накопившейся к тому времени в Якушкине энергии социального возмездия. И вновь судьба остановила Якушкина. Остановила от нравственно ошибочного решения. Ведь, как совершенно справедливо заметил Герцен, ритуал, ситуация дуэли, сам принцип ее уравнивают «стороны» и даже заведомо предполагают своим условием социально-психологическое равенство «сторон». Это тому же «кавказцу» Якубовичу пристало, быть может, носиться повсюду и кричать о том, что он не может жить без того, чтобы не отомстить Александру I выстрелом за то, что был… обойден по службе и что геройство его на Кавказе не было по достоинству оценено царем. Якубович карикатурил в этом случае намерение Якушкина, хотя и считал свои побуждения достаточным поводом для того, чтобы «быть принятым» в декабристском Обществе, а вот Якушкин счел отклонение своего «вызова» вполне достаточным основанием для того, чтобы Общество покинуть.
Якушкин, вознамерившись, вроде бы, стреляться с Нарышкиным, парадоксальным образом продолжив это свое намерение, пришел к идее учинить нечто вроде «смертельной дуэли» (бывали и такого рода дуэли, которые почти наверняка предполагали неизбежность именно смертельного исхода едва ли не для обоих участников)… с царем. Якубович, заявив о своем намеренном намерении застрелить царя без всяких правил по соображениям личного порядка, по логике уже какого-то «дурного парадокса» разрядил свой пистолет на формальной дуэли «из принципа», а не по личным, собственно, мотивам в Грибоедова, искалечив тому руку. Из всех этих парадоксальных замещений не стоит, конечно, выстраивать некую модель какого-то театра марионеток судьбы, но все же все эти замещения весьма на свой лад характерны, словно какие-то кодовые знаки повторяющейся на разный лад одной и той же социально-психологической коллизии. Сама парадоксальность всех этих «казусов» почти уже стирается, поскольку перед нами возникает своеобразный типологический ряд в сфере поведенческих вариантов и знаков в обратимых ситуациях.
Впрочем, тенденция к замещению дуэли по мотивам личной чести акциями очевидного общественно-политического значения в ту пору вообще была достаточно уже явственной. При этом подобного рода замещение обнаруживало настораживающую внутреннюю обратимость. Означенная тенденция обнаруживается соответственно в разных случаях по-разному и по-разному отражается в ту пору в сознании мыслящей и передовой части общества.
Многие декабристы к дуэлям относились, скажем, так – с готовностью и пониманием. Многократно вызывал, к слову сказать, на дуэль разных лиц и дрался с ними по правилам дуэльного кодекса, будучи уже штатским, Рылеев. А вот гвардейский офицер Оболенский, с полной очевидностью делом доказавший свою готовность при практически-политической надобности и из соображений успеха общего «дела», не колеблясь ни минуты, применить силу оружия, вместе с тем, оказывается, чуть не всю жизнь не мог себе простить того, что в дни юности ему «пришлось» на дуэли убить человека. Известно, какую духовную драму пережил Грибоедов, оказавшийся секундантом при поединке Завадовского с Шереметьевым, закончившимся мучительной гибелью последнего; вполне авторитетные авторы полагают, что потрясение, испытанное Грибоедовым в ту пору, оказалось своеобразным внутренним толчком для начала нового, «серьезного» периода в жизни этого человека, о «холодной и блестящей храбрости» которого столь уважительно говорил Пушкин, позавидовавший, кажется, какой-то удивительной и несколько страшной завистью даже смерти Грибоедова в неравной схватке с фанатически настроенной толпой, то есть опять-таки в ситуации, имевшей безусловно общественно значимый характер. А вот чуть ли уже не профессиональный бретер Якубович на Сенатской площади как раз и «забыл» о том, что он вооружен, хотя на его оружие рассчитывали, да и сам он, как помним, имел намерения им воспользоваться самым решительным и кардинальным образом, правда… применительно к уже помершему царю… Декабриста Анненкова Николай на первом же допросе пытался шантажировать, напоминая о том, сколь снисходительно некогда покойный Александр отнесся к «преступнику», когда Анненков «не был, – по его же собственному признанию, – наказан по всей строгости законов… за дуэль с Ланским… и просидел только три месяца на гауптвахте», убив своего противника.
«– Вы забыли милости покойного государя! Вас давно надо было уничтожить… Были вы в обществе? Как оно составилось? Кто участвовал? Что хотели?..»
Это был чистейшей воды политический шантаж по поводу дуэльного «дела» по частным мотивам.
Неоднократно и во многих выразительных подробностях описана в разного рода мемуарных источниках дуэль по мотивам «личной чести», состоявшаяся в 1824 году между «аристократом и флигель-адъютантом», как говорит о нем в своих воспоминаниях П. П. Каратыгин, Новосильцовым и «человеком среднего класса общества», употребляя выражение того же мемуариста, подпоручиком Семеновского полка Черновым, вступившимся за честь своей сестры, на которой означенный Новосильцов собирался вроде бы жениться, компрометировал девицу своим почти формальным жениховством, а потом вдруг оставил. Эта дуэль, как можно прочитать в современных уже работах, «приобрела характер политического столкновения между… членом тайного общества и презирающим человеческое достоинство простых людей аристократом».
Е. П. Оболенский, у которого было особенное чувство, связанное с дуэльными историями, вспоминал: «После долгих ожиданий, в надежде, что Новосильцов обратится к нареченной невесте, видя, наконец, что он совершенно ее забыл и, видимо, ею пренебрегает, Чернов, после соглашения с Рылеевым, обратился к нему сначала письменно, а потом и лично с требованием, чтобы Новосильцов объяснил причины своего поведения… Ответ был сначала уклончивым, потом с обеих сторон было сказано, может быть, несколько оскорбительных слов, и, наконец, назначена была дуэль по вызову Чернова, переданному Новосильцову Кондратием Федоровичем. День назначен, противники сошлись… и оба пали, смертельно раненные… Кондратий Федорович отвез Чернова и не отходил от его страдальческого ложа… По близкой дружбе с Кондратием Федоровичем я и многие другие приходили к Чернову, чтобы выразить ему сочувствие к поступку его благородному…» Рискну сказать, что Рылеев вполне сознательно, конечно, стремился придать этой дуэли – впрочем, о том же свидетельствуют и мемуарные опять-таки источники – непосредственно политический смысл, которого сама по себе она и не имела, представляя Чернова жертвой некоей политической акции (тогда как погибли все-таки оба противника). Сами «условия дуэли, – как свидетельствует современник события, – были нельзя даже сказать ужасные, но просто бесчеловечные. У отца Черновой было четверо сыновей, и каждому из них старик (отец оскорбленной девицы) приказал друг за другом вызывать Новосильцова, если бы дуэль окончилась смертью кого-либо из них. «Если же вы все будете перебиты, – добавил он, – то стреляться буду я!» Как вполне справедливо пишет один из компетентных нынешних наших исследователей, можно сказать, что «Северное общество превратило похороны Чернова в первую в России уличную манифестацию». «Трудно сказать, – свидетельствует Оболенский, – какое множество провожало гроб до Смоленского кладбища. Все, что мыслило, чувствовало, соединилось тут в безмолвной процессии и безмолвно выразило сочувствие к тому, кто собою выразил идею общую, каждым сознаваемую и сознательно и бессознательно, идею о защите слабого против сильного, скромного против гордого». В комментариях к современному изданию воспоминаний Оболенского читаем: «Демонстрация была организована К. Ф. Рылеевым и его друзьями. За гробом Чернова шли тысячи людей. 10 тыс. рублей было собрано на памятник Чернову. Возмущение передовых людей Петербурга против аристократии выразил К. Ф. Рылеев в своем агитационном стихотворении «На смерть Чернова». Еще не известно, как обернулось бы в свое время «дело» у Якушкина с Нарышкиным, окажись у Якушкина в ту пору в друзьях не Чаадаев с Фонвизиным, а Рылеев с его друзьями. Впрочем, подобное соображение, быть может, и не вполне все-таки веско – время было несколько иное, еще, кажется, не приспел час для такого рода превращений дуэли по соображениям личной чести в политические акции, но общая ситуация уже шла, конечно, к тому.
Не без определенного основания возникает искушение сказать, что и вся ситуация «великого противостояния» на Сенатской своими внешними контурами напоминает дуэльную модель, когда «вызов брошен», противники сошлись у некоей незримой черты, последние переговоры к примирению не привели, и вот – «право первого выстрела» остается за тем, кого призвали к ответу. Не выстрел, а залп картечью грянул. Ответа последовать уже не смогло. А потом, уже задним числом, «оскорбленный» всей этой дуэльной ситуацией Николай кинулся добивать поверженного противника – совсем уже вопреки всем «правилам чести». Но, к слову сказать, Николай сразу же после своего воцарения весьма определенно подтвердил существовавший ранее, но плохо исполнявшийся закон об уголовной ответственности обеих сторон за дуэль, тотчас же начав использовать этот закон в целях политического шантажа, продемонстрированного им еще на самом следствии по делу декабристов как довольно действенный прием давления на своего противника. Дуэли Пушкина и Лермонтова, состоявшиеся непосредственно вроде бы по совершенно личным и частным мотивам чести, оказались объективно и независимо от их начальных личностных мотивов делом чести всего русского общества…
Герцен писал о декабристах: «Десять лет каторжных работ, двадцать пять лет ссылки не смогли сломить и согнуть этих героических людей, которые с горстью солдат вышли на Исаакиевскую площадь, чтобы бросить перчатку императорской власти и всенародно произнести слова, которые… передаются от одного к другому в рядах нового поколения… Что произошло бы в случае успеха? Трудно сказать; но каков бы ни был результат, можно смело утверждать, что народ и дворянство спокойно приняли бы совершившийся факт. Это-то и было с ужасом понято правительством».
«Бросить перчатку императорской власти» – не «красивые слова»; за ними, как мы могли видеть, стоит определенная социально-психологическая традиция, за ними стоят определенные представления о «понятиях чести», личной и общественной, о способах решения «дел чести», о соотношении таких кардинальнейших для всей нашей жизни категорий, какими являются «политика» и «мораль».
«На другой день мы непременно должны были получить известие о том, что совершилось в Петербурге. Если бы предприятие петербургским членам удалось, то мы нашим содействием в Москве дополнили бы их успех; в случае же неудачи в Петербурге мы нашей попыткой в Москве заключили бы наше поприще, исполнив свои обязанности до конца и к Тайному обществу и к своим товарищам. Мы беседовали у Митькова до четырех часов пополуночи, и мои собеседники единогласно заключили, что мы четверо не имеем никакого права приступить к такому важному предприятию. На завтрашний день вечером назначено было всем съехаться у Митькова и пригласить на это совещание Михайлу Орлова… Поутру… всем уже были известны происшествия 14 декабря в Петербурге; знали также, что все действующие лица в этом происшествии сидели в крепости. Приехав к Орлову, я сказал ему:
«Ну вот, генерал, все кончено».
Он протянул мне руку и с какой-то уверенностью отвечал:
«Как это – кончено? Это только начало конца»…
Тут его позвали наверх к графине Орловой… Во время его отсутствия взошел человек… в изношенном адъютантском мундире без аксельбанта и вообще наружности непривлекательной… Орлов, возвратившись, сказал: «А! Муханов, здравствуй; вы не знакомы?» – и познакомил нас. Пришлось протянуть руку рыжему человеку. Ни Орлов, ни я, мы никого не знали лично из членов, действовавших 14 декабря.
Муханов был со всеми коротко знаком. Он нам рассказывал подробности про каждого из них и, наконец, сказал: «Это ужасно лишиться таких товарищей; во что бы то ни стало надо их выручить: надо ехать в Петербург и убить его».
Орлов встал с своего места, подошел к Муханову, взял его за ухо и чмокнул его в лоб. Мне казалось все это странно. Перед приходом Муханова я уговаривал Орлова поехать к Митькову, где все его ожидали. На это приглашение он отвечал, что никак не может удовлетворить моему желанию, потому что он сказался больным, чтобы не присягать сегодня; а между тем он был в мундире…
Видя, что с ним не добиться никакого толку, я подошел к нему и сказал, что так как в теперешних обстоятельствах сношения мои с ним могут подвергнуть его опасности, то, чтобы успокоить его, я обещаюсь никогда не посещать его. Он крепко пожал мне руку и обнял меня, но, прежде чем мы расстались, он обратился к Муханову и сказал: «Поезжай, Муханов, к Митькову»… Такое предложение меня ужасно удивило, и на этот раз я совершенно потерялся. Вместо того чтобы сказать Орлову откровенно, что я не могу вести Муханова, которого я совершенно не знаю, к Митькову, который его также не знает, я вышел вместе с Мухановым, сел с ним в мои сани и повез его на совещание… Все слушали его со вниманием… он заключил предложением ехать в Петербург, чтобы выручить из крепости товарищей и убить царя. Для этого он находил удобным сделать в эфесе шпаги очень маленький пистолет и на выходе, нагнув шпагу, выстрелить в императора. Предложение самого предприятия и способ привести его в исполнение были так безумны, что присутствующие слушали Муханова молча… В этот вечер у Митькова собрались в последний раз на совещание некоторые из членов Тайного общества, существовавшего почти 10 лет. В это время в Петербурге все уже было кончено, и в Тульчине начались аресты. В Москве первый был арестован и отвезен в Петропавловскую крепость М. Орлов, потом полковник Митьков и многие другие. Меня арестовали не раньше 10 генваря 1826 г.».
И. Д. Якушкин. Записки
Тут есть у Якушкина некоторые незначительные, как установили историки, редкие для якушкинских «Записок» погрешности в датах, но не в том, понятно, суть, и эти погрешности ровным счетом ничего не меняют.
Итак, некогда Якушкин сам вызывался убить царя, был не поддержан товарищами по Обществу и, как говорится, хлопнул дверью. Теперь он сам оказывается весьма далек от мысли о поддержке замысла цареубийства, когда и терять уже, судя по всему, нечего, а товарищей выручать следовало бы. Но по одному даже тону рассказа о происходившем чувствуется, что даже сама затея цареубийства в устах Муханова, который почему-то чуть ли не сразу же оказывается Якушкину несимпатичен и чуть ли даже не подозрителен, – сама затея цареубийства теперь представляется Якушкину более чем сомнительной. Что же это – непоследовательность? Переменился Якушкин? Как говорится, «сдал»?
И что сталось с его «понятиями чести»? Остыл, что ли, со временем этот, как говорит о нем Шаховской, «почти южанин»? Меланхолия совсем доконала некогда «резвого и влюбленного» юношу? Или все-таки тут вернее будет или даже просто правильным будет говорить о каких-то очень ярких точках проявления иной внутренней эволюции, эволюции иного типа, совершившейся в Якушкине между этими двумя характернейшими эпизодами его жизни? Скажем, от состояния социально-психологической экзальтации и «южного» экстремализма к той «меланхолии», которая чем-то уже сродни холодному пламени Грибоедова и какому-то мраморно незыблемому героизму Чаадаева, к той самой «меланхолии», которая потом переработается в смертную тоску и злое отчаяние Лермонтова, так хорошо описанные тем же Герценом? Судя по всей последующей жизни Якушкина, по всему ее стилю и манере, чуждой всякого подобия громких слов и скупой на всякие жесты, думаю, что последнее предположение вернее.
Якушкин становился со временем отнюдь не каким-то там «умеренным», а, скорее, революционером, ощущающим меру исторически необходимого действия. У Якушкина стали возникать вкус и способность к тому скромному, неброскому подвижничеству, которое бывает иной раз так легко принять за снижение революционной активности до уровня «малых дел», если только при этом упускать из виду то важнейшее обстоятельство, которое сам Якушкин никогда более не упускал из виду, а именно – сохранение чувства и сознания революционной цели и перспективы.
Как ясно из разговора Якушкина с Александром Бестужевым (уже после вынесения приговора), мысль о том, что формы и методы осуществления коренного переустройства российского общества следует как-то изменить, весьма занимала Якушкина (а не была им «в принципе» оставлена) и у него к тому времени уже были некие принципиальные соображения на сей счет, он уже понимал, что работа тут предстоит долгая, хлопотная и не очень-то видная – в содружестве с тем самым «кротом истории», который роет всегда «во глубине», но от невидимой работы которого вдруг оседают и смещаются целые социальные пласты и глыбы.
Якушкин не стал замышлять новых планов цареубийства, не стал вынашивать замыслов побега с каторжных работ или из мест поселения, не одобрил он и той мрачной броскости и какого-то, как ему казалось, каторжного «гусарства», которые виделись ему в поведении Лунина, так и сгинувшего в Акатуе. Якушкин был «не одинок в своей критике… Ряд поступков Лунина, которые, очевидно, представлялись ему самому как продолжение «старого», – пишет Н. Я. Эйдельман, – теперь нередко оценивается как анахронизм, архаизм.
Рассудить это противоречие должен был суд исторический… Интерес нескольких следующих поколений к личности и сочинениям Лунина, необходимость издания его работ означает, что слово и дело декабриста признаны историей».
Но при такой постановке вопроса совершенно исключается даже сама возможность всяких размышлений об уместности вызывающих и демонстративных форм революционной деятельности в любых условиях и обстоятельствах. Да и вообще, что именно из всего этого следует? Что Лунин был прав, а Якушкин нет? Что же, «слово и дело» Якушкина оказались «не признаны историей»? В итоге важный внутренний смысл несогласия Якушкина со «старыми» формами революционной деятельности в новых условиях просто «выпадает». Да и к чему нам в этом случае апеллировать к «признанию истории» – этой стертой метафоре, стоящей в ряду таких, как «время полностью показало» или «наукой установлено»?
Якушкин парадоксальным образом воспротивился приезду его жены к нему на каторгу или хотя бы на поселение, считая, что там она сделать так ничего и не сможет, а воспитание и образование детей при этом обязательно пострадают. Позже, правда, и само «начальство» не пропустило к нему бедную женщину, которая так и не дождалась возвращения мужа из изгнания… А вот дети Якушкина воспитались верными друзьями декабристов и, пожалуй, во многом не без помощи примера отца. Дети Якушкина оказались замечательными людьми, но это особая тема. Быть может, вообще характерно, что Якушкин умел находить связь с поколением «детей», умел находить контакт с «детьми» – это существенный момент в широком историческом плане, выходящий за пределы сферы семейных отношений Якушкина.
Сопоставляя, не надо, наверное, все-таки противопоставлять их – Якушкина и Лунина. Но при этом не надо и забывать, что Якушкин тоже сделал на свой лад нечто невероятное в его условиях. Не претендуя на переучивание ни государственных деятелей, ни уже достаточно проученное взрослое население империи, он стал учить детей. Он словно бы взглянул через голову современников на следующее поколение, обратившись к нему не со словами нравоучений и назиданий, а с предложением поделиться самыми необходимыми знаниями.
Можно сказать, что, может быть, так в Якушкине развилось сознание некоего «исторического отцовства», выходившее далеко за пределы собственно родственных чувств, но сохранявшее чувство кровного родства с «будущими людьми». Был проявлен удивительный общественный такт – тема конфликта «отцов и детей» готовилась стать болевой точкой российского общества.
При этом дело обошлось совершенно без всяких лозунгов и программных заявлений. Напротив, все и выглядело и было более чем скромно и даже не особенно-то оглашалось – в придании делу широкой огласки таилась несомненная опасность. Тут же могли бы и пресечь. Лишь ретроспективно в неприметном начинании ссыльного декабриста Якушкина можно, видимо, угадать или даже предугадать своего рода рабочую модель дальнейшего развития той великой идеи и дела, которые никогда не покидали его разум и душу.
Впрочем, похоже, что не только в исторической ретроспекции, не только «сквозь призму» десятилетий и даже куда более протяженных исторических сроков открывались значение и смысл скромного начинания ссыльного. Похоже, что сам Якушкин был наделен способностью «видеть вперед» сквозь эту самую «призму». Не от отчаяния и не от стремления занять как-то себя и «скоротать время» жизни шла его затея. Дело, им теперь затеянное, было любимым. Он словно бы вновь пробился наконец к нему, преодолев многие помехи.
Якушкин на поселении сделался, если попытаться вернуть этому словосочетанию его буквальный смысл, народным учителем.
По свидетельству современников и очевидцев, дети Якушкина любили. Видимо, он обладал тем особенным даром вызывать детское доверие, который бывает далеко не у каждого даже и из самых привлекательных и интересных для окружающих людей. Он в ту пору, говорят, и вообще стал отличаться «способностью сходиться с простым народом». А вместе с тем «Иван Дмитриевич… подозревался, – как писала позже А. П. Созонович, – в чернокнижии за собрание растений (он составлял гербарий растений Тобольской губ.), постоянную письменную работу, за клейку различной величины глобусов из картона, чтение книг, сначала даже и за катание на коньках в отдаленной от города местности по р. Имбирею, так как он, позднею порой, при лунном свете, неожиданно вылетал стрелой из развалин водяной мельницы и исчезал из вида случайных наблюдателей. При подобной обстановке, в высокой, почти остроконечной шапке, в коротенькой шубейке, перетянутый кожаным ремешком, весь в черной одежде, при его худобе, он должен был казаться народу колдуном, стремительно летевшим на пир или на совет к нечистой силе. Но вместе с тем перед ним благоговели за чистоту его безупречной жизни и безграничную любовь к ближнему, благодетельно отражавшуюся на всех, кто бы ни встречался на его пути. Его проницательный взгляд быстро подмечал выдающиеся в людях способности; он не пропускал возможности развить их, чтобы приложить к делу, соответственному положению человека, и считал себя счастливым, если ему удавалось ободрить кого-нибудь, убедив, что и у него есть доля способностей, над которыми стоит потрудиться, а не оставлять их под спудом…»
Своеобразен, конечно, был в ту пору весь жизненный колорит и самый стиль жизни Якушкина; кто бы мог, как говорится, подумать, представить, что таким предстанет наконец этот «Чацкий» и что тут-то он и найдет для себя ту «блаженную страну», куда довезет его наконец та «телега жизни», которую он в нетерпеливом гневе и досаде ждал в вестибюле одного старомосковского особняка, уже отчаиваясь найти во всем мире такое место, «где оскорбленному есть чувству уголок»… Не знаю, что подумалось, что почувствовалось бы вчерашнему гвардейскому офицеру, объявлявшему в горячке какого-то нравственного исступления товарищам по Тайному обществу о своем непременном намерении выйти на смертельную дуэль с императором, если бы он в тот момент смог увидеть в каком-нибудь там волшебном зеркальце из еще не написанной сказки Пушкина себя таким, каким суждено ему было стать потом, по прошествии целой жизни, целой исторической эпохи. Он, как мы знаем, вполне представлял себя в дебрях Южной Америки, он, наверное, смог бы тогда узнать себя и в опять-таки еще не написанном Пушкиным «Дубровском», мог представить себя на какой-нибудь огромной площади в какой-нибудь зимний неясный день, и площадь бы эта, вероятнее всего, напоминала бы Сенатскую, хотя могла бы располагаться при этом решительно в любой точке земного шара; он мог, наконец, даже почувствовать себя произносящим громовую речь перед тысячной толпой на каком– нибудь наспех сбитом помосте, и палач дышал бы ему в затылок; в равной мере он мог бы почувствовать себя выступающим с той же громовой речью в каком-нибудь сенате перед тою же толпой, которая дышала бы ему в лицо… Но если бы он имел тогда волшебную власть приказать волшебному зеркальцу «сказать всю правду», то перед ним возникла бы удивительная, судя по всему, «фигура неизвестного господина… с добродушной улыбкой. Это был господин в легонькой шубе с коротеньким капишоном, в остроконечной мерлушечьей шапке на маленькой голове. По бокам его острого с горбом носа блестели темные, быстрые глаза; улыбающийся красивый рот его обрамливался сверху черными усами, а снизу маленькой, тупосрезанной эспаньолкой. Он не походил ни на духовного, ни на чиновника…
– А я вам не сказал еще своей фамилии, – произнес бы этот господин, – я Якушкин»…
Впрочем, можно и без всей этой мемуарной беллетристики представить себе, насколько весь жизненный уклад, в котором оказался и так прижился теперь Якушкин, был отличен от всего, что только мог представить себе он сам наперед, но что теперь он считал вполне своим, едва ли даже не «кровным». Вдали была уже неизвестная ему Россия, Москва, позади – все, что привело его сюда и сроднило его с его новой «малой родиной», если, конечно, можно в данном случае так выразиться, но хотелось бы, чтобы было можно, потому что так оно и было на самом деле. Довольно многие, во всяком случае не один только Якушкин, из декабристов ощутили в конце концов место своего поселения своей второй «малой родиной»; они почти все были людьми, тяготевшими к товариществу и братству. Позади у многих был лицей или университет, у остальных – хоть общая походная палатка, потом – общая тайна, потом – общая участь каторжан и поселенцев, на поселении они старались всеми правдами и неправдами собираться в гнезда, на каторге – жить артельно. Камеры только были у них непременно одиночные… Попытались было они сбиться в какие-то артели и по возвращении в Европейскую Россию, но уже сил не хватало, они почти все быстро после своего возвращения умерли. Некоторые так и не усидели в родных местах, покинули Россию. Некоторые, как «первый декабрист» Раевский, не усидели тоже и… вернулись в Сибирь.
На поселении Якушкин вдруг выступил на несколько неожиданном для него поприще; хотя, конечно, для человека, столь близкого к Чаадаеву и некоторым другим лицам того же круга, поприще это не могло быть совершенно уж чуждым. Якушкин написал некий философический трактат. Впрочем, не у него одного из ссыльных декабристов возникло вдруг влечение к теоретическому сочинительству. Одно время такого рода влечение сделалось у некоторых из них даже как бы поветрием, возникали сочинения на политические и религиозные, исторические, моральные темы; хотелось, видимо, нечто обобщить из жизненных впечатлений, собраться с мыслями и одуматься, как говорится, «подумать о душе». Отчасти это было, конечно, делом внутренне вынужденным, некоторые из декабристов, почувствовав себя лишенными сферы приложения своей политической энергии, как бы отступили в область теории. Кое-кто, похоже, так и остался в основном в этой сфере. Так или иначе, но в советское уже время появилось (к 125-летию восстания декабристов) издание «Избранных социально-политических и философских произведений декабристов», в которое, правда, вошли многие произведения, непосредственного отношения к теме не имеющие, и не вошли некоторые из произведений, с темой прямо связанные. Начиналось издание характерным образом с сочинений Якушкина, о котором было сказано в предисловии, что он «был наиболее выдающимся мыслителем материалистом и атеистом» среди всех членов Северного общества. И далее сразу же сообщалось, что «главным оппонентом против материалистических взглядов Якушкина был П. Я. Чаадаев» и что «работа И. Д. Якушкина «Что такое жизнь?», по существу, являлась полемическим ответом П. Я. Чаадаеву, отстаивавшему религиозно-идеалистический взгляд на мир»…
Да, действительно, Якушкин решил в своем философическом трактате «не размениваться на мелочи» – сочинение его действительно именуется теперь так, согласно смыслу основного своего содержания и в соответствии с тем заголовком, который имеется на седьмой странице черновой рукописи (на первой странице название иное: «Что такое человек», а беловая рукопись вообще не имеет названия). Что же касается подобного рода упоминания в данном случае о Чаадаеве, то оно полностью соответствует тому «общепринятому» у нас в свое время толкованию всей истории философии вообще, согласно которому эта история есть исключительно борьба материализма с идеализмом, идеализм исключающая. Чаадаеву «надо» было подыскать соответствующего антагониста. Дм. Шаховской, понятное дело, и во сне не видел, какого рода модель он предвосхитил в своем сопоставлении Чаадаева с Якушкиным. А ведь, пожалуй, эта же, в принципе, модель лежит в основании и той позднейшей концепции, согласно которой Чаадаев оказывается «главным оппонентом» и Пушкина в сфере социально-исторической проблематики, которому Чаадаев, если хоть на минутку прислушаться к этой концепции, лишь по забывчивости не послал соответствующего номера «Телескопа» с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя». Впрочем, чуть ли даже и не так буквально было заявлено в одном не столь давнем труде… Какое все-таки счастье, думаю, выпало на долю и Пушкина, и Якушкина, и Герцена (чего уж там останавливаться в этом случае на полпути), имевших «главным оппонентом» мыслителя такого уровня и силы, каким был их любимый Петр Яковлевич Чаадаев! И как жаль, что позже перевелись у нас оппоненты подобного толка, имевшие силы и искреннее желание поднять своих прямых и ближайших «идейных противников» до собственного уровня мышления!..





