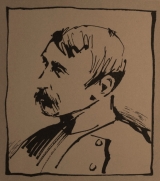
Текст книги "Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина"
Автор книги: Александр Лебедев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
«Якушкин, долгое время отвергая все Таинства веры, постоянно изъявлял Протоиерею казанского Собора Мысловскому (посещавшему арестантов по распоряжению Комитета) неудовольствия свои на его посещения, отказываясь от всех утешений религии. Но наконец, постигнув всю важность вины своей и тронутый истинным раскаянием, сам обратился к сему же протоиерею с убедительнейшею просьбою о примирении его с совестью, и о удостоении его исповеданием. Протоиерей уверясь в искренности чувств его, и видя в нем трогательнейший пример совершенного раскаяния и обращения к Религии, приобщил его Святых тайн, и обстоятельно донес о сем Комитету, о чем 12-го Апреля записано в журнал.
Правитель дел Боровков».
Таков официальный окончательный рисунок дела Якушкина и всей эволюции, совершившейся в его внутреннем состоянии за время следствия. Большего, очевидно, уже и не требовалось.
Примечательно же тут едва ли не прежде всего то обстоятельство, что под пером «правителя дел» вопрос о «раскаянии» Якушкина столь неразрывно связался с вопросом об отношении Якушкина к религии. По сути, это оказался один и тот же вопрос.
Нет, отнюдь не чувство какого-либо подъема, духовного взлета и внутреннего утешения испытал Якушкин, обратившись тогда к религии в лице протоиерея Мысловского. Напротив, он испытал тогда чувство грехопадения и слил это чувство в душе своей с чувством страшной вины перед едва не погубленным товарищем, с чувством действительного бесчестия, едва не обрушенного им самим на себя. Делать было нечего, – надо было как-то подниматься самому, не взывая уже ни к каким силам извне, не уповая уже более ни на что, кроме своих собственных внутренних сил.
«И свет не пощадил, и рок не спас».
М. Ю. Лермонтов. Памяти А. И. О(доевского).Эпиграф к «Отрывку из моей исповеди» Н. П. Огарева
Конечно, во время следствия Якушкин пережил очень глубокий духовный кризис, как можно было бы теперь сказать. Что «честь дороже присяги» – это для Якушкина было уже давно ясно. Письмо к императору было делом явно вынужденным, ситуационно обусловленным. Вместе с тем этот акт указал Якушкину и на ту границу, далее которой он без непоправимого урона для своего нравственного чувства идти уже не мог и не пошел. В отличие от большинства иных своих товарищей. Последнее сказано, как нетрудно понять, не в какой-то ретроспективный укор им, а ради констатации важного нравственного факта. Выяснилось с несомненностью, что честь, если держаться этого «тогдашнего» термина в его «тогдашнем» смысле, дороже веры, дороже утешений религии. Вот это был уже новый шаг на пути нравственной эмансипации, нравственного самоопределения личности. И этот шаг был сделан Якушкиным. Был сделан в той экстремальной ситуации «бездны на краю», когда столь многие товарищи Якушкина – даже из самых сильных духом, – отчаявшись идти, пытались «вознестись» и в таком «переносном смысле» пережить как-то катастрофу. Что «честь дороже присяги» – было уже выяснено и вошло «в плоть и кровь» тех, во всяком случае, кто вышел к Сенатской площади или ушел вместе с теми, кто на ней был в роковой день 14 декабря, в Сибирь. А вот что нравственность в известном смысле самоценна, что ее нельзя доверить вере – это еще только предстояло выяснить и доказать. Тут, в решении этого вопроса, Якушкину довелось одному из первых сделать свой выбор, видя, что такой выбор жизнь действительно предлагает, что такой выбор не чистое «умствование», не «пленной мысли раздраженье», а вполне жизненная, реальная вещь, вполне жизненная, реальная ситуация… Можно, конечно, представить дело и таким образом, что обращение Якушкина к религии стоит в одном ряду с таким его поступком, как обращение с письмом к царю. В известном смысле так оно, очевидно, и было. Но куда важнее тот факт, что, как и в случае с письмом, так и в случае с обращением к религии, Якушкин, сделав первый шаг, далее не пошел, остановился и возвратился на какой-то иной, свой собственный путь.
«Неутомимо преследуя избранную им цель, он никогда не уклонялся от обязанностей, им на себя наложенных…»
Е. П. Оболенский. Воспоминания
«…Он легко мирился с превратностями судьбы, был всегда бодр и весел. По выдающимся свойствам ума и характера, он имел влияние на большую часть своих товарищей, хотя многие из них были значительно старше его годами, например М. А. Фонвизин, которым он овладел с первой встречи с ним; в минуты скорби и упадка они искали его нравственной поддержки…»
Можно, конечно, и после всего изложенного остановиться на том, что «вера» – дело сложное, часто глубоко «личностное», что тот факт, что Якушкин расценивал свое обращение к «вере» в ее официальном выражении в пору своего заключения, равно как и тот, скажем, факт, что он и перед смертью своей, уже возвратившись из Сибири, решительно отказался от обряда причащения, еще далеко не все проясняет в этом случае. Да нет, кое-что, скажем так, проясняет. Как – еще более – и вся вообще жизнь Якушкина. Это все «формальности» в ту пору значимые, это все знаки внутренних решений, которые в ту пору не обходили и не могли обойти общественная мысль и нравственное чувство людей, думавших о жизни, о смысле истории, которая менялась у них всех на глазах и требовала от них самих каких-то внутренних перемен и перемен в их собственных судьбах. Судьбу любого человека, сколько бы необычной или «уединенной» она ни казалась нам, нельзя понять вне связи с тем «духом времени», в котором она существует. Я имею в виду всю ту духовную атмосферу, которая была «накоплена» людьми к тому времени, когда жил и думал данный человек, всю ту духовную атмосферу, которая создавалась современниками и предшественниками его, улавливавшими те же «воздушные потоки», что и он, находившими эти потоки и следовавшими ими или уходившими из них, чтобы обрести какое-то «новое дыхание». А в общем-то в общей духовной атмосфере в одно и то же время всегда живут разные люди, по-разному, но параллельными судьбами и дышат они одним и тем же воздухом. И эти люди по-разному решают одни проблемы.
«Гражданская свобода должна быть плодом внутренней свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода приобретается сознанием. И таким-то прекрасным путем достигнет свободы наша Россия… И все это сделается без заговоров и бунтов, и потому сделается прочнее и лучше. Давно ли мы с тобою живем на свете, давно ли помним себя, и уже посмотри, как переменилось общественное мнение: много ли теперь осталось тиранов-помещиков, а которые и остались, не презирают ли их самые помещики?.. Давно ли падение при дворе сопровождалось ссылкою в Сибирь? А теперь оно сопровождается много, много, если ссылкою в свою деревню… Помнишь ли ты, как отличались, как мило вели себя господа военные, особенно кавалеристы (т. е. гусары), в царствование Александра, которого мы с тобою видели собственными глазами за год или за два до его смерти? Помнишь ли ты, как они нахальствовали на постоях, увозили жен от мужей из одного удальства, были ужасом и страхом мирных граждан и безнаказанно разбойничали? А теперь?.. Теперь они тише воды, ниже травы. Ты уже не боишься их, если имеешь несчастие быть фрачником или иметь мать, сестру, жену, дочь… Теперь студент, который в состоянии выпить ведро вина и держаться на ногах, уже не заслужит, как прежде, благоговейного удивления от своих товарищей, но возбудит к себе их презрение и ненависть. А что всему этому причиною? Установление общественного мнения, вследствие распространения просвещения, и, может быть, еще более того, самодержавная власть. Эта самодержавная власть дает нам полную свободу думать и мыслить, но ограничивает свободу громко говорить и вмешиваться в ее дела. Она пропускает к нам из-за границы такие книги, которых никак не позволит перевести и издать. И что ж, все это хорошо и законно с ее стороны, потому что то, что можешь знать ты, не должен знать мужик, потому что мысль, которая тебя может сделать лучше, погубила бы мужика, который, естественно, понял бы ее ложно… Быть апостолами просвещения – вот наше назначение. Итак, будем подражать апостолам Христа, которые не делали заговоров и не основывали ни тайных, ни явных политических обществ, распространяя учение своего божественного учителя, но которые не отрекались от него перед царями и судиями и не боялись ни огня, ни меча… Итак, учиться, учиться и еще-таки учиться! К чорту политику, да здравствует наука!.. Бога ради, не думай о том, где и как можешь ты быть полезен, но думай о том, чтоб поддержать и возвысить свое человеческое достоинство…»
В. Г. Белинский. Из переписки
«Концепция русского исторического процесса, изложенная Белинским, отражала распространенные в эту пору ошибочные идеалистические представления об объективной прогрессивности русского самодержавия, как якобы надклассового политического института, а не органа помещичье-дворянской диктатуры. Эта концепция, с одной стороны, была крепко связана с еще неизжитыми в крестьянской массе монархическими иллюзиями, верой в царя-реформатора, освободителя от крепостной неволи, а с другой, отвечала интересам тех кругов дворянской и буржуазной интеллигенции, которые в условиях первых лет николаевской реакции ревизовали традиции декабристов и пытались сочетать критическое отношение к крепостническому государству с отказом от революционных методов борьбы с ним».
Из «Примечаний»к «Полному собранию сочинений»В. Г. Белинского,изд. АН СССР, 1956 г.
К последнему суждению можно было бы по всей справедливости добавить еще и то, что едва ли не первыми ревизовали важнейшие «традиции декабризма» сами декабристы, причем не те и не тогда, которые и когда отошли от декабризма, а оставшиеся декабристами, до Сенатской площади включительно. Более того, без особого риска впасть в некую крайность, можно утверждать, что именно подобного рода «ревизия» важнейших принципов декабризма явилась уже для самих декабристов формой развития декабристских принципов, поскольку эти самые принципы обнаруживали тенденцию к исторической несостоятельности. Это обстоятельство может показаться странным или даже с порога, как говорится, быть отвергнуто лишь в том случае, если не иметь в виду, что, вообще говоря, в любом обществе не может не существовать та или иная степень духовной многослойности, не могут не сосуществовать – мирно или совсем не мирно – разные уровни и типы общественного сознания. Да даже и «отдельно взятый» человек, не рождаясь, естественно, с готовым мировоззрением, претерпевает, если только развивается, процесс внутреннего противоборства разных мировоззренческих тенденций. Ведь мировоззрение – не данность, а процесс, в котором что-то постоянно отмирает, угасает, изживается или рушится вмиг, а что-то зарождается и находится в становлении или вмиг открывается «внутреннему взору» человека. Это – река, у которой есть и поверхность, и глубинные, придонные течения, скорость и даже сам состав которых не одинаков. Даже к относительно сформировавшейся личности применима мысль о соотношении разных мировоззренческих слоев, порой исключительно контрастных, даже совершенно, казалось бы, несовместимых. Все это, конечно, в общем достаточно известно, но все-таки – при обращении к тому или иному конкретному жизненному сюжету – частенько упускается из виду или просто не принимается в расчет. Да тут еще замешивается в дело представление о той «цельности натуры», которое чуть не непременно посещает наше сознание, как только мы обращаемся к натуре героической или просто исторически привлекающей нас… Но цельность – не глухая однородность, само понятие цельности предполагает цельность, целостность каких-то противоречий, какой-то центростремительный импульс или стержень, который удерживает около себя центробежные силы сознания…
В тот год, когда было написано письмо Белинского, отрывок из которого мы выше тут привели, был убит Пушкин. В тот же год, уже объявленный сумасшедшим, Чаадаев писал своему другу Якушкину в Ялуторовск:
«Я знаю, с каким благородным мужеством ты сносишь тяжесть своей судьбы; я знаю, что ты придаешься серьезному изучению, и удивляюсь многочисленным и твердым знаниям, приобретенным тобою в ссылке. Не могу тебе выразить, сколько я всем этим счастлив и сколько я горжусь, что так хорошо тебя угадывал. Есть старое изречение, мой друг, несколько, впрочем, отзывающееся язычеством, а именно, что нет прекраснее зрелища, как зрелище мудреца в борьбе с противным роком; но меня еще более увлекает исполненный ясности взгляд, который ты устремляешь на мир из своего безотрадного одиночества. Вот чего высокомерная древность не умела открыть – и что верный ум естественным образом находит в наше время. Однако же, хоть я и не знаю, какие теперь твои религиозные чувствования, но, признаюсь тебе, не могу поверить, чтобы к этому душевному спокойствию ты пришел путем того оледеняющего деизма, который исповедовали умы твоей категории, тогда, когда мы расстались. Изучения, которым ты с тех пор отдавался, должны были тебя привести к серьезным размышлениям над самыми важными вопросами нравственного порядка, и невозможно, чтобы ты окончательно остался при том малодушном сомнении, дальше которого деизм никогда шагнуть не может… Прошу у тебя извинений, мой друг, в том, что это мое первое письмо все наполнено моими обычными помыслами… но ты понимаешь, что в теперешнее время мне труднее, чем когда-либо, освободиться от влияния идей, составляющих весь интерес моей жизни, единственную опору моего опрокинутого существования. Я далек, однако же, от мысли навязывать тебе свои мнения; мне известен склад твоего ума, и я очень хорошо знаю, что ни годы, ни размышление, ни опыт жизни, по которой прошло неизмеримое бедствие и неизмеримое поучение, не в состоянии существенно видоизменить ум, подобный твоему… Но как бы то ни было, конечно, в одном ты будешь одинакового со мною мнения, а именно, что мы не можем сделать ничего лучшего, как держаться, сколько то возможно, в области науки»…
…Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении творца!
И смысла нет в мольбе!
Ф. И. Тютчев
«…Да, друг мой, сохраним нашу прославленную дружбу, и пусть мир себе катится к своим неисповедимым судьбинам. Нас обоих треплет буря, будем же рука об руку и твердо стоять среди прибоя. Мы не склоним нашего обнаженного чела перед шквалами, свистящими вокруг нас. Но главным образом не будем более надеяться ни на что, решительно ни на что для нас самих. Ничто так не истощает, ничто так не способствует малодушию, как безумная надежда… Какая необъятная глупость в самом деле надеяться, когда погружен в стоячее болото, где с каждым движением тонешь все глубже и глубже… Что до нас, то если земля нам неблагоприятна, то что мешает нам взять приступом небо?.. Правда, что по этому вопросу мы с вами расходимся во взглядах… вы полагаете, что между вами и небом лопата могильщика. Печальная философия, не желающая понять, что вечность не что иное, как жизнь праведника, жизнь, образец которой завещал нам Сын Человеческий; что она может, что она должна начинаться еще в этом мире, и что она действительно начнется с того дня, когда мы взаправду пожелаем, чтобы она началась…»
П. Я. Чаадаев – М. Ф. Орлову. 1837 г.
Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?
Ф. И. Тютчев
В мольбе нет не только смысла, нет в ней и морального основания. Если ты по своей воле выбрал свою судьбу, в мольбе твоей прозвучит нечто сходное с признанием несостоятельности выбора, стремление переложить бремя выбора на плечи другого. И еще нечто, сходное с призывом к пощаде. Если ты при этом обращаешься и к богу. Религиозный фатализм – та же расписка в собственном бессилии, бессилии собственной воли. Так или иначе, мольба – сигнал о «сдаче на милость победителя». Вот почему о себе, о смягчении собственной своей участи молить бывает недостойно. Не из гордыни, а по прямому чувству нравственного самосохранения и личной общественно-исторической значимости.
«…Наше положение таково, что мы никогда не подадим руки прежде, нежели не увидим, что нам протягивают обе; а сознание правоты своего дела дает нам право иметь столько гордости, чтоб не вымаливать внимания, как милостыни. Наше несчастие было пробный оселок, на котором узнают достоинство чистого и поддельного золота».
М. Бестужев. Из письма. 1846 г.
«Судьба лишнего ропота от меня не услышит…»
А. С. Грибоедов – П. А. Вяземскому. 1824 г.
«Я здоров… Жизнь в Петровском очень сносна; я живу один в комнате теплой, довольно светлой и, как вы можете представить, очень чистой. Вообще Петровская тюрьма так хорошо устроена, что не только в России, но, вероятно, и нигде в этом роде нет другого подобного…
Не подумайте, чтобы я говорил вам это единственно в утешение; не только обман, но даже преувеличение в этом случае почел бы я для себя относительно вас непозволенным. Кто не испытал жизни, какую мы ведем здесь, не может постигнуть ее; я вам скажу, и вы мне поверите, что, когда я бываю мысленно со всеми вами, близкими мне, и когда на ваш счет ничем не встревожен, я бываю так счастлив, как едва ли бывал когда-нибудь, когда жил на том свете; другому эти выражения покажутся признаком сумасшествия или по крайней мере вздором, но вы, может быть, меня поймете и наверно поверите мне… Вы очень знаете, что сентиментализм не мой порок… Что вам сказать еще о себе. Телесно, говорят, я не очень постарел за эти годы, седых волос, однако, много прибавилось. Душевно не только не постарел, но, как мне кажется, право, помолодел: иногда так светло, как прежде никогда не бывало…»
И. Д. Якушкин – Н. Н. Шереметевой. 1832 г., марта 13-го
Письмо было переправлено с оказией. Это было первое подробное известие, полученное близкими Якушкина и описывающее условия жизни заключенных. Письмо затем распространялось в списках. В письме подробно описана «комната» Якушкина, распорядок дня каторжан. Все это выдержано в тоне, представление о котором вполне дает приведенный тут отрывок. Нет не только жалоб или просьб, – письмо исполнено настроением какого-то особого рода удовлетворения и спокойствия и той неколебимой уверенности в себе, которой словно бы наперед не страшны, не грозят никакие испытания, напасти и превратности судьбы. Чувствуется, что в чем-то очень для него важном, может быть, даже самом для него главном Якушкин, судя по всему, знал, что теперь он уже навсегда непобежден.
Участник восстания Черниговского полка И. И. Сухинов, скрывшийся после разгрома восставших, был затем арестован в 1826 году в Кишиневе и осужден на каторгу вечно. Находясь в Зерентуйском руднике на каторжных работах, он начал готовить восстание политических и уголовных каторжан, восстание провалилось. Зачинщики – расстреляны, кроме самого Сухинова, успевшего покончить жизнь самоубийством. Есть свидетельства относительно того, что существовали и иные планы побегов с каторги. Упорно готовился к побегу Лунин, считавший, что его политическая миссия не может кончиться с поражением декабристов на Сенатской, а должна получить какую-то новую фазу. Вообще, как вспомнит Якушкин в «Записках», до его, Якушкина, «приезда были и между нашими разного рода предположения о возможности освободиться, но так как все эти предположения были несбыточны, они пали сами собой, без малейших последствий, и мы, приехавшие после, знали о них только по рассказам…». С технической точки зрения побег был вообще-то не исключен и не обязательно заведомо обречен на неудачу. Достаточно вспомнить, что Амур в ту пору еще не был в русском владении. Во всяком случае, планы побега рассматривались и условия побега выяснялись в деталях. Конечно, предприятие было все-таки в высшей степени рискованное, но пассивное прозябание на каторге, а затем на поселении в течение, по существу, всей жизни являлось удручающей альтернативой для деятельных людей в расцвете сил. Иное дело – цель побега. Декабристы были не просто «людьми действия», как говорил М. О. Гершензон и за ним многие. Декабристы были людьми политического действия – прежде всего. И вот перспективы для такого рода действия в случае удачного побега представлялись, конечно, туманными в высшей степени. Понятно и естественно, что восстание, поднимавшееся Сухиновым, имело невнятную конечную цель. Быть может, именно вследствие этого, в частности, обстоятельства в восстании предполагалось участие и политических и уголовных заключенных. Одно время среди части декабристов целью, которая вполне могла бы оправдать самые рискованные планы побега, считалась возможность «достигнуть образованного мира и свободного народа, будь то Соединенные Штаты или Англия, и огласить правду о нашем деле и о настоящем положении России» (Д. И. Завалишин). Иными словами, объяснить российской и мировой общественности свои истинные намерения, опровергнув то, что публично вменялось в вину декабристам согласно официальному приговору. Опровержение, «опротестование» официальных обвинений, доказательство их клеветнического характера вообще считалось декабристами делом чести. Эта задача их действительно волновала. Позднейшие декабристские мемуары своей внутренней идеей во многом имели решение именно этой задачи. Н. Тургенев, оставаясь за границей, сразу после обнародования официальных обвинений против его сподвижников по Тайному обществу принялся за опровержение и подробное доказательство их юридической и фактической несостоятельности, постаравшись «списать» многие свидетельства самих декабристов на следствии, как помним, за счет результатов пытки. У стремления опровергнуть официальное обвинение была некая важная идейно-нравственная причина, о которой – ниже. Но стремление немедленно объясниться, как-то сразу же истолковать свои действия и побуждения, во многом, возможно, подогретое жестоким отрезвлением, наступившим наконец после шока, пережитого во время следствия, было, похоже, в значительной степени и порождено эмоциональной «инерцией от противного», инерцией отталкивания от состояния декабристов на следствии. Тут чувствуется некий непосредственный нравственный импульс, а не обдуманное и взвешенное намерение. А вот когда этот первый порыв стал несколько проходить, оказалось, по всей видимости, что кое-что важное надо еще как следует обдумать, надо как следует осмыслить все происшедшее, понять все значение совершившегося в жизни каждого осужденного и в исторической судьбе общества в целом. Появилась, очевидно, некая насущная внутренняя потребность понять всю неслучайность выступления по достаточно случайному поводу вдруг возникшего междуцарствия – того вакуума власти, который вдруг обнаружился в России после смерти Александра I в ноябре 1825 года и продолжался до «переприсяги» Николаю, назначенной на 14 декабря того же года, того вакуума власти, который почти уже фатально не могли не попытаться заполнить декабристы, чтобы не заслужить хотя бы и перед самими собой «во всей силе, – как говорил тогда Пущин, – имя подлецов», политически безответственных болтунов, лишь смущавших и совлекавших на опасный путь многих людей, но сразу дрогнувших, как только дело обернулось делом.
Конечно, Гершензон очень заострял ситуацию в пользу своих концепций, когда утверждал, что в пору декабристов «внутренно никто не искал, никто не боролся, никто не болел вопросами миропознания», что, «даже когда в это… мировоззрение вносилось нечто новое, какой-нибудь продукт западной жизни и западной мысли, его также брали готовым и без борьбы», что «кровных нравственных исканий, трагедии духа, мы не встретим в нашем передовом обществе ни разу на всем протяжении XVIII и первой четверти XIX века» и что «это традиционное и однородное отношение к миру, к обществу и к собственной личности достигает наибольшей своей полноты и вместе самосознания у людей александровского времени, в том поколении, к которому принадлежали декабристы», что, наконец, «тип декабриста – это, прежде всего, тип человека… которому внутри себя нечего делать и который поэтому весь обращен наружу». Все это, конечно, крайнее заострение, и любой, кто хотя бы отчасти знаком с фактами на сей счет, которыми располагает и даже во времена Гершензона уже располагала историческая наука, знает, как трудно и в каких исканиях и противоречиях шел процесс выработки декабристами их политических воззрений, до какой степени эти воззрения связаны были у них с исканиями нравственными и вообще со всей сферой эволюции их мировосприятия. Выступление на Сенатской и поражение этого выступления потребовали от декабристов весьма интенсивной работы по углубленному постижению значения всего происшедшего. Тем самым деятельность декабристов из сферы непосредственно-политических средств и форм с неизбежностью и необходимостью переносилась в сферу интеллектуально-нравственную едва ли не исключительно. Тут была и неизбежность, но тут была и историческая потребность. Насильственное соединение почти всех в одном месте, принудительная общность условий жизни подталкивали, понятное дело, к совместному обсуждению самого главного события в жизни каждого из пострадавших за общее дело. И такое совместное обсуждение, согласно свидетельству самих декабристов, пошло почти сразу же очень интенсивно. Обдумывание, осмысление, уяснение истинного смысла и значения всего происшедшего само уже теперь превратилось в важнейшее дело жизни декабристов. И лишь свершение этого дела могло открыть какие-то новые перспективы, указать дальнейшие практические пути общественной активности не только для каждого из них, но – в принципе – вообще для русского общества. Просто пытаться продолжать действовать в том же духе, в каком они действовали раньше – на пути к своему поражению, – было бы внутренней недобросовестностью. Как раньше, чтобы не заслужить перед самими собой «во всей силе имя подлецов», надо было без особых размышлений действовать, также теперь – на том же моральном основании – без особых размышлений действовать было нельзя.
Некогда М. Азадовский с большим осуждением отнесся к заявлению исследователя, писавшего о судьбе одного малоизвестного декабриста, что он «был единственным из всех декабристов, который в стране изгнания не сумел противопоставить жестоким ударам судьбы необходимую твердость характера. В то же время он единственный декабрист, который не устоял перед соблазном побега».
«Но почему, – спрашивал Азадовский, – твердость характера должна была выразиться в отказе от соблазна побега, а не наоборот – в организации его? И неужели же заговор Сухинова свидетельствует не об исключительной твердости характера?.. Происхождение такого утверждения вполне понятно: оно опирается на плохо понятое заявление Якушкина».
«…Когда все и каждый оценили то назначение, какое мы имели в нашем положении, никому на мысль не приходило намерение освободиться. Никто даже из находившихся на поселении, в самых тяжких обстоятельствах, не попытался избавиться от своих страданий бегством». Вот что пишет Якушкин в своих «Записках».
«…Здесь, – говорит Азадовский, – речь идет о более позднем периоде, когда уже определенно осозналось назначение декабристов в Сибири; во-вторых, это заявление необходимо сопоставить с соответствующими показаниями других мемуаристов, и тогда будет ясно, что соблазн побега мог быть еще и потому губителен, что всякая одиночная попытка в этом направлении тяжело отозвалась бы на положении оставшихся.
Поэтому-то нет никаких оснований говорить о принципиальном отказе декабристов от побега или представлять их покорившимися судьбе».
Но стоит как следует вчитаться в то, что сказано Якушкиным, станет видно, какой смысл он придает побегу: избавление от страданий бегством. Вот что, как видно, представляется ему неприемлемым. От судьбы, как говорят, не убежишь. Фатализм ли это? А может быть, особого рода стоицизм? Ведь верность своей судьбе не есть покорность ей. И какова та цена, которой можно избежать своей судьбы? Нравственная цена? А почему подавляющее большинство самых активных участников событий на Сенатской не пытались скрыться сразу же после разгрома восстания? Беседовали, размышляли, делились впечатлениями и уже никуда не спешили. Кое-кто сам приходил во дворец и отдавал шпагу. Почти все оставались на месте. Не пытались скрыться, бежать, затеряться где-нибудь и у кого-нибудь и те, которых известие о катастрофе настигло далеко от места событий и к которым фельдъегерь или полицмейстер являлись куда позднее известий о предстоящем почти неизбежном аресте.
«После 14 декабря, – читаем в «Записках» Якушкина, – многие из членов Тайного общества были арестованы в Петербурге; я оставался на свободе до 10 генваря. В этот день вечером я спокойно пил дома чай… Я ожидал ареста… К отъезду у меня было уже все приготовлено заранее».
Сибирь – испытание; на верность самими на себя принятой судьбы, на верность тому делу, которое было как бы только заявлено на Сенатской. «Проверка на прочность» прокламированных побуждений. Бежать от испытания, спасаться от проверки? А ведь издалека, но пристально, может быть даже и придирчиво, за тобой следят тысячи глаз, ведь от тебя пойдет какой-то след… Для «людей дела» это было, возможно, особенно тяжкое испытание – скованными руками и замкнутыми устами. Лунин взял, конечно, своим заявлением о роли, принимаемой «вступлением в Сибирь», очень высокую ноту, на которой едва ли не он один и едва ли не крайней только ценой и мог рассчитывать удержаться. Не все и выдержали испытания, выдержавшие держались по-разному и разного. Но Лунин заявил сам принцип, по которому Сенатская и Сибирь оказывались звеньями одной цепи кандальной чести.
«…Вы… спрашиваете о Бакунине. Но что сказать Вам о нем? Убежал тайком из Николаевска от полицейского надзора, от жены, от долгов и теперь в Лондоне с Герценом, который вероятно скоро разочаруется от этого пустого человека… Касательно же продажи права на издание Марлинского поговорите с сестрою Еленою… Уговорите ее порешить продажу поскорее, потому что с каждым годом она будет более и более терять. Она не хочет понять, в чем состоит насущное требование века».
М. Бестужев. Из письма, 1862 г.
Для многих декабристов Сибирь оказалась прежде всего испытанием на удержание взятого идейно-нравственного уровня. И такого рода испытание было тоже исключительно общественно-исторически значимым.
«…Невольно приходит на мысль, что в жизни есть летучие начала, которые удобнее сохраняются в таком закупоренном положении, как наше…»
И. Д. Якушкин. Из письма, 1852 г.
«Проходили годы; ничем отрадным не навевало в нашу даль — там, на нашем западе, все шло тем же тяжелым ходом. Мы, грешные люди, стояли как поверстные столбы на большой дороге: иные путники, может быть, иногда и взглядывали, но продолжали путь тем же шагом и в том же направлении»…
Исключительна бывает в иные времена роль таких вот «поверстных столбов» на большой дороге движения общественной жизни, в судьбах отдельных ли людей или целых поколений. Только ведь кажется, что люди идут и идут все в своем направлении, не оглядываясь ни по сторонам, ни назад, а видя лишь ближайшего соседа, да насущную цель своего обыденного маршрута. Оглядываются они. Пусть и мысленно, но обязательно оглядываются. И видят: стоят эти самые «поверстные столбы», на своем месте – эти навигационные знаки движения жизни, от них идет какой-то важный отсчет, по ним можно во всякую пору свериться, определить свое местоположение в обществе, действительное местоположение, по ним можно ориентироваться. Если, конечно, они остаются на своем месте.





