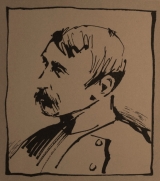
Текст книги "Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина"
Автор книги: Александр Лебедев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Выражение «меланхолический» – одно из ключевых в произведениях Карамзина, «меланхолия» – ключевое, можно сказать, слово – знак к «Письмам русского путешественника». Конечно, у Карамзина это слово глубоко связано со всей системой его сентиментализма, его «чувствительности»; «меланхолический» у Карамзина почти синоним «чувствительному», а «чувствительный» – «грустному». «Меланхолический» человек, по Карамзину, – это человек, грустно задумавшийся о чем-то, пригорюнившийся. Человек, остановившийся вдруг в раздумье, – «меланхолик». Человек, почувствовавший вдруг себя обособленным в «этом суетном мире», – «меланхолик». Какая-то сладкая горечь, какая-то грустная улыбка, какая-то светлая печаль – вот что такое, по Карамзину, «меланхолия». Это состояние души между отчаянием и надеждой, состояние, когда надежда уже покинула человека, но когда человек вместе с тем совсем не торопится впасть в отчаяние, вообще никуда не торопится. Это какое-то своеобразное поэтическое примирение с печально неизбежным. Меланхолия, по Карамзину, – это своеобразный психологический «позитивизм» (рискну вызвать нарекание в явной «модернизации», но хочу быть верно понятым), это лирическое «примиренчество», в котором нет угодничества перед действительностью, но в котором явственно звучит мотив: «все понять – это все простить».
«Осень делает меня меланхоликом. Вершина Юры покрылась снегом; дерева желтеют, и трава сохнет. Брожу… с унынием смотрю на развалины лета; слушаю, как шумит ветер, – и горесть мешается в сердце моем с каким-то сладким удовольствием. Ах! Никогда еще не чувствовал я столь живо, что течение натуры есть образ нашего жизненного течения!.. Где ты, весна жизни моей? Скоро, скоро проходит лето – и в сию минуту сердце мое чувствует холод осенний. Простите, друзья, мои!»
Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника
«Любезнейший друг!
Мы здоровы после здешней тревоги 14 декабря. Я был во дворце с дочерьми, выходил на Исаакиевскую площадь, видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало к моим ногам. Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев с «Полярного Звездою», Бестужевым, Рылеевым и достойными их клевретами… Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятежа… Я… чувствовал живо, сильно, но сам дивился спокойствию моей души странной; опасность под носом уже для меня не опасность, а рок и не смущает сердца: смотришь ей прямо в глаза с какою-то тишиною…»
Н. М. Карамзин.Из частной переписки, 19 декабря 1825 г.

Так «карамзинизм» и вся связанная с ним система нравственных понятий и представлений развивались самим Карамзиным. Так в этом случае сфера нравственности соприкоснулась с непосредственно политической сферой. Так вел и так чувствовал себя «меланхолик» этого рода в тот день на Сенатской. Приведенный тут документ – не «проходной», не просто «один из фактов» социально-нравственной биографии Карамзина, биографии его души. Если этот единичный факт поставить в связь с иными подобного же рода фактами (то есть рассмотреть его в контексте собственно литературной деятельности автора «Бедной Лизы» и «Истории государства Российского»), он обернется своеобразным «увенчанием» карамзинского сентиментализма, хотя, конечно, не в литературном, а в нравственном отношении. Но Карамзин своим литературным творчеством открыл дверь в мир личностной нравственности и утвердил «суверенность» личных чувств в жизни общества не для того, чтобы только он один и имел ключ от этой двери. Через эту дверь прошло целое, можно сказать, поколение русских людей, целое поколение дворянского сословия, и шли они в разных, порой диаметрально противоположных, направлениях. Всякий, кто делает какое-то открытие, так или иначе сознает это – иначе он не смог бы указать на то, что сделал, кому-либо вообще, иначе, идя без остановки дальше, он затоптал бы сам то, что открыл. Карамзин и не был бы Карамзиным, если бы не чувствовал, что тот путь нравственного самосознания, на который он вступил сам – как литератор, сгодится и для других людей, идущих с иными, нежели у него, целями. Он дажё захотел как-то теоретически сформулировать это соображение.
«От сильного волнения в крови провел я ночь беспокойно и видел сны, из которых один показался мне достойным замечания. Мне привиделось, что я в большой зале стою на кафедре и при множестве слушателей говорю речь о темпераментах. Проснувшись, схватил я перо и написал, что осталось у меня в памяти, из чего, к моему удивлению, вышло нечто порядочное. Судите сами – вот сей отрывок:
«Темперамент есть основание нравственного существа нашего, а характер – случайная форма его. Мы родимся с темпераментом, но без характера, который образуется мало-помалу от внешних впечатлений. Характер зависит, конечно, от темперамента, но только отчасти, завися, впрочем, от рода действующих на нас предметов. Особливая способность принимать впечатления есть темперамент; форма, которую дают сии впечатления нравственному существу, есть характер. Один предмет производит разные действия в людях – отчего? От разности темпераментов или от разного свойства нравственной массы, которая есть младенец».
Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника
Удивительно совпадение внешних проявлений того «состояния меланхолии», которое во «времена Карамзина» и позже испытывали люди, весьма разные по своему, так сказать, умонастроению, по всей своей жизненной ориентации.
«Отчего сердце мое страдает иногда без всякой известной мне причины? Отчего свет помрачается в глазах моих, тогда как лучезарное солнце сияет на небе? Как изъяснить сии жестокие меланхолические припадки, в которых вся душа моя сжимается и хлодеет?.. Неужели сия тоска есть предчувствие отдельных бедствий? Неужели она есть не что иное, как задаток тех горестей, которыми судьба намерена посетить меня в будущем?..»
Н. М. Карамзин. Там же
«Ах, боже мой, когда кончится это состояние тоски, или оно одно осталось для нас, чтобы мы замечали наше существование!»
И. Д. Якушкин.Из переписки, 1819 г.
«…Человек сей кажется выше всякой критики, и жало клеветы притупляется на нем. Ум от природы обильный, обогащенный глубокими познаниями, жажда к коим и теперь не оставляет его, душа, чувствительная ко всему высокому, благородному, геройскому. Правила чести, коими б гордились оба Катона… Одним словом, Грибоедов – один из тех людей, на кого бестрепетно указал бы я, ежели б из урны жребия народов какое-нибудь благодетельное существо выдернуло билет, не увенчанный короною, для начертания необходимых преобразований… Разбирая его политически, строгий стоицизм и найдет, может быть, многое, достойное укоризны; многое, на что решился он с пожертвованием чести; но да знают строгие моралисты, современные и будущие, что в нынешнем шатком веке в сей бесконечной трагедии первую ролю играют обстоятельства и что умные люди, чувствуя себя не в силах пренебречь или сломить оные, по необходимости несут их иго. От сего-то, думаю, происходит в нем болезнь, весьма на сплин похожая… Чтоб не быть бременем для других, запирается он дома. Вид человека терзает его сердце; природа, к которой он столь неравнодушен в другое время, делается ему чуждою, постылою; он хотел бы лететь от сего мира, где все, кажется, заражено предательством, и злобою, и несправедливостию!!»
П. А. Бестужев. Из «Памятных записок»
«Расскажи мне подробнее о Петре Чаадаеве. Прогнало ли ясное итальянское небо ту скуку, которою он, по-видимому, столь сильно мучился в пребывание свое в Петербурге, перед выездом за границу… Байрон наделал много зла, введя в моду искусственную разочарованность, которою не обманешь того, кто умеет мыслить. Воображают, будто скукою показывают свою глубину, – ну, пусть это будет так для Англии, но у нас, где так много дела, даже если живешь в деревне, где всегда возможно хоть несколько облегчить участь бедного селянина, лучше пусть изведают эти попытки на опыте, а потом уж рассуждают о скуке»…
М. И. Муравьев-Апостол – И. Д. Якушкину. 1825 г.
…Грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана…
. . . . . . . . . . . . . .
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей…
. . . . . . . . . . . . . .
Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим…
. . . . . . . . . . . . . .
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик…
. . . . . . . . . . . . . .
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..»
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
Похоже все-таки, что не только, может быть, даже не столько Байрон, а Карамзин (если уж оставаться в ряду литературных имен и понятий) положил начало – прежде всего, конечно, открытием своего «второго я» в «Письмах…» – целому «племени» меланхоликов на русский манер – людям какого-то особенного социально-психологического склада и особенного нравственного инстинкта, которых сам Карамзин, со всем своим меланхолическим «ренессансом чувствительности», и не знал, и не ждал, все более тяготея к консервативной «уравновешенности» и «упорядоченности», все более надеясь иметь в качестве гарантов духовного покоя такие устои, которые не дрогнули бы и устояли, выдержав все «бури и натиски», если не на площадях Парижа в 1789 году, то уж в крайнем случае и у последней черты – на Сенатской в 1825-м.
«Меланхолический Якушкин», Чаадаев, Грибоедов и люди, подобные им по какой-то своей внутренней социально-психологической типологии, не родились, понятное дело, сразу такими, какими сделались за очень короткий срок, каждый на свой лад и в своем собственном «жанре» пережив некое внутреннее потрясение. Что же, просто характер у всех таких людей был какой-то особенный? Но, как помним, уже и сам Карамзин не удовлетворился бы таким объяснением. Карамзин, толкуя о меланхолии, все говорил о каких-то особенных «предчувствиях», которые мучили его героя время от времени, нагоняя на него особого рода беспредметную вроде бы тоску… Удивительное, вообще говоря, дело – эти «беспредметные», «немотивированные», как сказали бы позже, «состояния дурного предчувствия», при которых человек оказывается способным словно бы слышать какие-то дурные «вести ниоткуда» (если воспользоваться тут выразительным словосочетанием, счастливо найденным Уильямом Моррисом для названия своей известной литературной утопии). Видно, действительно есть нечто от дурных социально-психологических «предчувствий» в том «меланхолизме», при котором или, лучше сказать, в состоянии которого некая «порода» людей ни с того ни с сего, как говорится, начинает «волками выть»; как, говорят, и в самом деле воют иногда волки в предчувствии каких-то особых холодов или иных стихийных невзгод и бедствий. И это в ту самую пору, когда, казалось бы, этим и иным людям «жить бы да жить», а особенно этим, молодым, блистательно вступающим в жизненный путь… И удивительно, конечно, «неудобны» бывают такие вот люди в ситуациях, когда никто и не просит их «выть» и «ныть», когда их «нота» так режуще диссонирует с общим тоном, общим «настроем»… Но эти люди уже «почуяли правду», в них уже сработал какой-то внутренний механизм опознавания комплекса неполноценности некоей исторической перспективы, и они затянули свою песнь, тревожа покой и смущая души людей деятельного бодрствования. Они, как «рыбки в аквариуме», способны, видимо, улавливать какие-то нечувствительные для других признаки и знаки беды, одним своим поведением и внешним состоянием немо извещая окружающих о том, что надвигается из-за «горизонта сознания» и истории. В каком-то смысле можно даже сказать, что эти люди из числа тех российских «чудаков», которые, согласно известному выражению, все «смеются на похоронах и плачут на свадьбах»…
Я не «подверстываю» и не подтягиваю «моего Якушкина» к «моим» же Чаадаеву и Грибоедову. Они разные, конечно, люди, разного уровня дарования, разных жизненных путей, разной личной участи и существенно разных взглядов на жизнь и свое место в жизни – все так. И все-таки в чем-то достаточно существенном это все люди какой-то сходной социально-психологической складки, и не случайно их биографии соприкоснулись столь тесно, что, говоря о любом из них, лишь по недосмотру можно не сказать о любом другом из этой своеобразной триады. Судьба не по слепому случаю связала их. Но если тема «Якушкин и Грибоедов» еще ждет, как говорится, своего исследователя, хотя и фактологические, и исходные идейные предпосылки освещения этой темы вырисовываются все более ясно, то теме «Якушкин и Чаадаев» уже была посвящена отличная работа такого известного и внутренне глубоко заинтересованного исследователя, как Дм. Шаховской, столь много сделавшего для восстановления подлинного облика автора «Философических писем», что одним только фактом личного знакомства с этим исследователем теперь откровенно гордятся авторы, рекомендующие себя его последователями и учениками.
«В полном смысле слова современники – даты их рождения и смерти расходятся всего на год, на два – Якушкин и Чаадаев были свидетелями и участниками событий одной законченной исторической эпохи – с 1812 до 1856 года, судьба их всецело определилась катастрофой конца 1825 года, притом оба они принадлежали к одному и тому же кругу передового и сравнительно просвещенного московского дворянства и в этом кругу были особенно близки с одними и теми же людьми и семьями. Они встретились в 1808 году на скамьях Московского Университета. Вскоре Якушкин, может быть, через посредство Грибоедова, стал вхож в дом Щербатовых, а дом этот был своим для братьев Чаадаевых, племянников Д. М. Щербатова и воспитанников сестры последнего. «Знаком я с ним [Якушкиным] коротко с 1808 или 1809 года», – показывает военному суду в 1821 году Иван Дмитриевич Щербатов. Как пишет последнему его сестра, Наталия, с 13-летнего возраста, т. е., вероятно, с 1810 года, Якушкин уже увлекается ею. Таким образом, еще до войны 1812 года, оторвавшей всю мужскую молодежь на несколько лет от Москвы, Чаадаев и Якушкин близко соприкасаются.
Весь поход 1812 года они проделывают бок о бок в Семеновском полку. В 1813 году, в Германии, в одной палатке находит Якушкина, Щербатова и двух братьев Чаадаевых другой их университетский товарищ, земляк Грибоедова и Якушкина по Смоленской губ., Владимир Иванович Лыкошин. По возвращении из похода Чаадаев и Якушкин, конечно, нередко встречаются в Петербурге и Москве. Круг знакомых у них общий. О братьях Чаадаевых и в отдельности о Петре Яковлевиче постоянно упоминает Якушкин в своих… письмах к И. Д. Щербатову… К 1821 году относится до сих пор представлявшийся неясным эпизод принятия Якушкиным Чаадаева в члены тайного общества. Затем – в 1823 году Чаадаев уехал за границу и по возвращении в 1826 году, конечно, уже не мог видеть Якушкина…»
Дм. Шаховской. Якушкин и Чаадаев
И вот дальше судьба и, следуя ее непреклонной «воле», сам исследователь резко разводят Якушкина с Чаадаевым. Но судьба – событийно. Дм. Шаховской, словно повторяя ее рисунок, – внутренне, социально-психологически, вплоть до контрастного сопоставления характеров и побуждений этих двух людей, этих двух натур.
«…Кипучая натура Якушкина, откликавшегося действием на всякую мысль, и малоподвижная личность Чаадаева, склонного целиком уходить в высшие обобщения и совсем неспособного к жизненной борьбе, представляются чуть не антиподами. Обоих не пощадила судьба, и жизнь того и другого далеко уклонилась от обычного шаблона, но трагедия каждого протекала по-своему. Исходя из ненависти к одним и тем же бичам земли родной, далеко разошлись они и по своему мировоззрению, и по оценке пережитого. Помимо чисто индивидуальных черт, это расхождение, конечно, объясняется и тем, что вышли они из разных социальных слоев того общества, к которому оба принадлежали.
Из всех декабристов-северян Якушкин, может быть, всех ближе подходит к тому типу, который был общим для «Соединенных Славян» на юге. Отсюда его постоянные столкновения с товарищами. Владелец небольшого имения в 120 душ в разоренной войной Смоленщине, отличавшейся некоторыми особенностями еще и вследствие близости к Западу, свободный в личной жизни от традиций служебной знати, рано покинувший семью и ближе знакомый с изнанкой действительности, всецело предоставленный себе в жизненной борьбе, Якушкин воспринимал жизнь совсем не так, как Чаадаев. В противоположность Якушкину, Чаадаев рос в условиях полной материальной обеспеченности, без всяких забот о хлебе насущном, обильно добывавшемся от множества крепостных душ, на труде которых зиждилось все семейное благополучие; источником средств служили обширные земельные владения с прикрепленным к ним населением, пожалования предкам в воздаяние за их службу. Сообразно с этим слагались и семейные традиции – с обязательной служебной карьерой, масонскими этическими воззрениями, по существу непримиримой, но в своих проявлениях поверхностной и лояльной оппозицией правительству, с решительной тягой к независимости от власти, но опять-таки на основе сословных прав и остатков феодального строя. Ведь Чаадаев – родной внук кн. М. М. Щербатова, непримиримого врага «самовластия», сотрудника Екатерины II и, вместе с тем, ее сурового антагониста, решительного защитника крепостного права и привилегий дворянства, озлобленным обличителем пороков и слабости которого он, однако же, выступал, знаменитого дворянского депутата 1767 года и ревностного масона, сотрудника Н. И. Новикова… Просветительные идеи глубоко захватили внука и поставили его лицом к лицу с теми противоречиями, которые мучили уже и деда, но все же на деле, в области положительных стремлений и построения жизни, старая основа и среда давали себя знать и отзывались мучительными неувязками… Разрешение их Чаадаев находил только в высшей философии. Якушкин – всегда искал разрешения противоречий в самой жизни…»
Дм. Шаховской. Там же
Поражение на Сенатской сокрушило, кажется, обоих. Дальше их отношения развивались только почти одной перепиской, да и то от случая к случаю. Известно и то, что Чаадаев – чем дальше, тем вроде бы больше – отрицательно оценивал значение 14 декабря. Достаточно привести тут хоть такой, к примеру, отрывок из письма Чаадаева Якушкину, написанного в мае 1836 года, но, правда, не дошедшего до адресата: «Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего – глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина… Как бы я был счастлив, – добавляет Чаадаев, – если бы в тот день, когда ты сможешь мне написать… первые твои слова, направленные ко мне, подтвердили, что ты теперь осознал свою страшную ошибку и что в своем уединении ты пришел к заключению, что заблуждение может быть искуплено перед высшей правдой не иначе как путем его исповедания, подобно тому как ошибка в счете может быть исправлена лишь после ее признания.
Прощай, друг мой. Я горжусь тем, что смог сказать тебе эти вещи с уверенностью, что душа твоя этим не оскорбится и что твое высокое понимание сумеет разглядеть в сказанном внушившее его чувство».
Как известно, никакого «исповедания» со стороны Якушкина в том, во всяком случае, смысле, в котором говорил Чаадаев, не последовало. Но – вот странность! – чем дальше, тем больше и больше Чаадаев ценил, как замечает Шаховской, Якушкина. Тема «ошибки» и необходимости «исповедания» исчезает из писем Чаадаева к Якушкину. Более того, Шаховской говорит, что начиная с какого-то времени Чаадаев жил в «атмосфере какого-то культа» Якушкина. Даже культа! Правда, тому отчасти сопутствовали некоторые частные обстоятельства чаадаевской жизни. «…Он, – читаем у Шаховского, – близко сошелся с двоюродной сестрой и пламенным другом Якушкина, известной по столь теплым отзывам о ней Герцена, Екатериной Гавриловной Левашевой. По чувству дружбы к Якушкину особенно живо заинтересовалась Левашева Чаадаевым, именно как близким ему человеком, и пригрела его; Якушкину же она считала себя обязанной за те духовные ценности, которые она затем почерпнула из общения с этим другом и с миром его мысли. Мать Левашевой, Екатерина Андреевна Решетова, родная сестра Дмитрия Андреевича Якушкина, отца декабриста, также проникнута была к племяннику чувством горячей привязанности. И у нее любовь к Якушкину трогательно сочетается с дружеским расположением к Чаадаеву. Лучшим памятником отношений к ссыльному могут, – замечает Шаховской, – служить сохранившиеся письма, в частности письма этой полуграмотной старухи…
«Друг мой [впрочем, она пишет: «Друк мой»…]. Друк мой незабвенный, какая для меня радость, что я пишу к тебе… Что мне сказать? Что я люблю тебя? Ты это знаешь. Знаешь и горесть мою. Когда я вижу детей твоих, какое для меня утешение, смешенное с горестью, я тебе все эта изъяснить не могу. С Чаадаевым говорить а тебе… Как я его люблю. Он тебя любит. Прасти друк мой милой, мой Ванюша, боже храни тебя. Ах, я тебя никогда не увижу, нет минуты, чтобы я о тебе не думала. Прасти, прасти, мне 70 лет. Когда услышишь, что меня нет на свете, то скажи: ана умирая обо мне думала. Прасти, мой Ванюша, и за гробом буду друк твой Катерина Решетова».
И когда она умерла, – продолжает Шаховской, – Якушкин прослезился и прислал особенно тронувшее и Левашеву, и Чаадаева послание. Левашева ему ответила:
«Ваше письмо, такое доброе, на время меня воскресило. Мы его читали и перечитывали вместе с Чаадаевым, и он то и дело повторял: «Да, вот воистину вся его душа, чистая, прекрасная, но только к чему эта языческая доблесть, к чему этот стоицизм?» Эти слезы в глазах такого человека, как он, не могут быть сочтены сентиментальностью, это проявление чувства, которое не только возвышает человека… но и возносит его высоко»…
…Объективно говоря, – заключает Шаховской жизнеописание двух своих любимейших героев, – Чаадаев оказался правым в том отношении, что работа русского общественного самосознания направилась именно по указанному им пути и на многие годы ушла в постановку отвлеченных вопросов, на вид весьма далеких от текущей злобы дня и прямой борьбы против того, что одинаково сильно, хотя и каждый по-своему ненавидели оба товарища. Были, видно, какие-то объективные условия, которые вызывали такой уход в «глубину», но тем не менее «истина», которую Чаадаев в данном случае ставил выше пристрастия к другу, была на самом деле только жалкой полуистиной, так как выбрасывалось за борт напряжение воли в решительной борьбе со злом. В осуждении Якушкина и всего порыва к водворению нового строя путем решительного вмешательства в ход событий как нельзя ярче сказалась «шуйца» Чаадаева, однобокость его философии, уходившей в «глубину» до такой степени, что совсем утрачивалось понимание живой действительности. Чаадаев, как настоящий выразитель своего поколения, обнаружил его жизненную сущность. «Будьте гениальны, – незадолго до того писал Чаадаев, – и увидите». И далее рассуждал приблизительно так: Галилей ведь умел ударом ноги заставить землю вертеться, невзирая на всех тогдашних жандармов, которые были почище господина Уварова и присных его… А через несколько месяцев после самоуверенной расправы Чаадаева с ошибкой людей, клавших жизнь на завоевание свободы, суровая действительность с неумолимой логикой покарала философа, обнаружив всю важность для водворения истины на земле и тех внешних условий, борьбу за которые он готов был счесть второстепенным делом. По собственному выражению Чаадаева, «земная твердость его бытия была поколеблена на веки»… Плеханов в одном из своих выступлений, – пишет далее Шаховской, – против народников рисует картину, как бы прямо направленную против слабой стороны мысли Чаадаева и того настроения, которое надолго у нас водворилось.
«Привели доброго молодца в каменный острог, посадили за запоры железные, окружили стражей неусыпной. Добрый молодец только усмехается, он берет заранее припасенный уголек, рисует на стене лодочку, садится в нее, и… прощай тюрьма, прощай стража неусыпная, добрый молодец опять гуляет по белому свету. Хорошая сказка. Но только сказка. В действительности нарисованная на стене лодочка еще никогда никого и никуда не уносила».
У Чаадаева, – заключает Шаховской, – вся мысль устремлялась на выяснение тех общих начал, которые составляют основу жизни, и он отстранял от себя вопрос о том, как же осуществятся на деле эти общие начала. У Якушкина на первом плане стояла задача проведения в жизнь признанного за истину».
Таков ход мысли исследователя, который я представил тут с возможной полнотой.
Шаховской ценил и любил Чаадаева. Напомню, что, после того как Шаховской перестал работать, о Чаадаеве у нас вообще долгое время не было ни слуху ни духу, исключая редкое «проскакивание» в каких-нибудь периферийных «записках» отдельных «плановых работ». В работах же более широкого профиля Чаадаев рекомендовался в основном не с лучшей, как уже говорилось, стороны. Это ведь теперь стало можно прочитать, как нечто само собою разумеющееся и, главное, разумевшееся всегда: «Петр Яковлевич Чаадаев. Кто не знает этого имени?..»
Имя Чаадаева возникло в этой книге в связи с Якушкиным… Шаховской много сделал для того, чтобы Чаадаев предстал перед современным читателем во всей своей идейной значительности.
Я не замечал по иным работам Шаховского какого– нибудь особенного пристрастия к плоскому социологизированию и страсти к непосредственному «выведению» тех или иных идей из конкретного «социального положения» их носителей. Не с этой целью его интересовал обычно вопрос о том, «кто его родители» – Чаадаева ли или, к примеру, Якушкина? Но вот при сопоставлении «кипучей натуры» почти, можно сказать, «южанина» Якушкина с отвлеченным и даже несколько вроде бы отчужденным от практически– политической «злобы дня» Чаадаевым такого рода «выведение» (или, лучше сказать, низведение) весьма заметно. А ведь эти два человека «работали» в разных сферах общественной жизни. Один – в сфере непосредственно-политического действия, другой – в сфере теории. И как согласовать со всеми «упреками» Чаадаеву, которого Шаховской противопоставляет Якушкину в пользу второго, то обстоятельство, что, «объективно говоря, Чаадаев оказался правым в том отношении, что работа русского общественного самосознания направилась именно по указанному им пути»? Если учесть при этом, что пути Чаадаева и Якушкина после Сенатской идейно коренным образом разошлись и что Якушкин так и «не послушался» Чаадаева, то выходит, что Якушкин если и развивался как-то в последующие годы, то, «объективно говоря», не по тому пути, в каком шла работа передовой русской общественной мысли. Тут что-то не получается у Шаховского, словно над ним довлеет некая обязательность или даже вынужденность суждений и оценок. А вот живое чувство любви к обоим его героям продолжает ощущаться читателем, несмотря ни на что… Довлело и давило на Шаховского все набиравшее силу представление-схема, согласно которой, в частности, все те деятели первой четверти XIX века, которые не были декабристами или даже принадлежность которых к декабристам с точки зрения чисто организационной была сомнительна, аттестовались как «неправильно» мыслившие и действовавшие. Согласно знакомой логике выходило в общем так, что те, кто не был вместе с декабристами или был с ними «не до конца», – тот был против них. Так методология исторического исследования калькировала некоторые расхожие политические лозунги, о которых уже упоминалось, и то плоское понимание действительной жизни, которое шло еще от экстремистского максимализма левонароднического толка, о чем также уже говорилось.
Ну а как же все-таки быть с «меланхолическим Якушкиным»?
Шаховской писал: «…Пушкин в своей известной надписи к портрету Чаадаева, как будто и восхваляя его, при всей своей любви и уважении «к единственному другу», нарисовал, по существу, вовсе не лестный его образ:
Всевышней волею небес
Рожден в оковах службы царской,
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь – он офицер гусарский».
Исследователь выделяет в пушкинских стихах, по сути дела, некоторые, как мы потом стали говорить, «анкетные данные», свидетельствующие о «социальном происхождении» Чаадаева, и словно бы вменяет их ему в вину. И далее: «В немногих словах удивительно метко схвачены социальные корни и промежуточная позиция Чаадаева: роковым образом все его силы связаны принадлежностью к русскому служилому дворянству, Периклесом или Брутом он был бы в Афинах, в Риме, таким рисуется он только в мечтах… Совсем не то в суровой действительности…
В противоположность этому, Якушкин рисуется поэту как личность без раздвоения, всегда готовая на дело, не ограничивающаяся мечтаниями и словами…» Автор приводит известные строки о «меланхолическом Якушкине», который «молча обнажал цареубийственный кинжал».
Я потревожил здесь имя Дм. Шаховского, очень ценимого мною автора, как иной раз приходится тревожить и иные очень ценимые и даже внутренне близкие имена, не всуе. А потому, что некоторые идеологические схемы и методологические предрассудки и держатся столь долго, столь упорно во многом силой авторитета подобных имен – имен ученых, которые по сути своего творчества, по своим собственным взглядам ничего общего с означенными схемами и предрассудками не имели, но, как бы отдавая «кесарю – кесарево», продолжают придавать всем этим схемам и предрассудкам весомость своего собственного авторитета, даже зачастую своего собственного обаяния. Ценимые имена в этом случае сами становятся существенным аргументом в пользу схем и предрассудков, длящих свое существование, паразитируя на добром имени, которое им удалось, как теперь принято говорить, интегрировать. Прием этот старый и известный, «времен Очакова и покоренья Крыма»; Дидро и Вольтер были далеко не последними его жертвами, сами решившиеся «перехитрить», быть может, тех, кто манипулировал их славой. Если, конечно, допустить тут определенную долю наивности с их стороны. Но и в этом случае их слабость была чуждой им силой.





