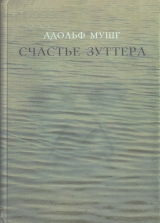
Текст книги "Счастье Зуттера"
Автор книги: Адольф Мушг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
– Зачем ты мне это рассказываешь? – спросил Зуттер.
– Затем, что ты должен взглянуть на почтовую открытку. По-твоему, скабрезная? Нет, чистейшая невинность и голая анатомия. Девочка продемонстрировала мне и то и другое. Эзе, ну при чем же тут мы?Разве мысоздали человека?
Тетя, – продолжал он, – в восемнадцатом веке была женой священника, которого звали Лангхас. Так вот говорят, что жена его была красивейшей женщиной в округе. Скульптора звали Наль, он был пруссак датского происхождения, известный мастер, сбежавший от Фридриха Великого. Владельцы замка Хиндельбанк заказали ему надгробный памятник своему отцу – мошеннику, каких поискать, – полководцу, воевавшему то на одной, то на другой стороне, продававшему своих подданных тому, кто больше заплатит, менявшему веру, как меняют жен, и ставшему бургомистром старого Берна, который он довел до краха. Истинно художественная натура, Наль высек ему такой надгробный памятник, какой он заслужил, помпезный, в стиле барокко, как раз то, что надо, изобразив на нем всех добрых духов древности отвернувшимися от него. Но затем понадобилось сделать еще один памятник, той, которую скульптор предпочел бы видеть живой. Это была прекрасная жена пастора. Она скончалась во время родов накануне Пасхи, вслед за ней умер и ребенок. И в этом памятнике, Эзе, он дал волю своим чувствам и сотворил чудо воскресения. Он изобразил прекрасную покойницу и щель, из которой появился ребенок. Могу поспорить, что при этом он испытывал к ней влечение. Малышка верно разглядела, что ее тело просыпается, и решила воспользоваться моим инструментом. И с тех пор, Эзе, она на меня и смотреть не хочет. Вот уже восемь лет я для нее пустое место.
Зуттер взглянул на собеседника, который был весь в поту и обезьяньи глаза которого выражали муки творения. Впервые он увидел в нем художника, от которого отвернулись все добрые духи.
– Она читает твою книгу, – сказал Зуттер, – выучила ее почти наизусть.
– Какую книгу? – удивленно спросил фон Бальмоос.
– Византийский сонник, который ты ей подарил.
– В самом деле?
– И чем же ты теперь занимаешься? – спросил Зуттер.
Йорг заметно оживился.
– Забочусь о нашем деле. Оно процветает. Лео создала школу, число ее приверженцев растет, трубы дымят, а дышать хочется всем. У нас появились филиалы в пяти странах. Мы дышим глобально. В конце две тысячи второго года мы создадим Open Air for Breath [54]54
Чистый воздух для дыхания (англ.).
[Закрыть]в Айерс Роке [55]55
Гора на юго-западе Австралии. Место паломничества туристов.
[Закрыть], фантастический центр энергетической подпитки. Мы изменим мир, он в этом нуждается. – Йорг криво усмехнулся. – «Шмели» живут, Эзе, и многие ветераны вносят свою лепту, не только твоя Руфь.
– Руфь? – удивился Зуттер. – Она состояла в вашем союзе?
– Ну да, ты же ее знаешь. Всегда платила раньше других. Сегодня деньги поступают регулярно, но тогда, в самом начале, и несколько сотен тысяч были серьезной суммой. Лео рада, что могла помогать Руфи – вплоть до последнего дня.
– Ага, – сказал Зуттер.
– А теперь расскажи о себе, – попросил Йорг.
– О чем тут рассказывать? Вот думаю, что делать дальше. Я оставил машину в долине Фекса.
– И спустился сюда на дрожках?
– Хотел освежить память о прошлом.
– В таком случае я отвезу тебя к твоей машине.
– Я лучше пройдусь пешком.
Лицо Йорга потемнело.
– Эзе, – сказал он, – есть еще кое-что, о чем тебе надо знать.
– На сегодня я узнал достаточно.
– А вот и Ялу, – сказал фон Бальмоос.
Она и в самом деле шла к ним, так стремительно огибая группы сидящих в мягких креслах людей, что ей приходилось придерживать руками светлую накидку, а складки на платье, казалось, не поспевали за ее движениями. Все в этой маленькой женщине было каким-то опрометчиво-торопливым, но при этом никак не сказывалось на ее достоинстве; подбородок, веки, волосы, накрашенные светлой помадой губы – все в ее лице было несколько чрезмерным, даже тяжеловатым. Зуттер не видел ее со времени судебного процесса. Выглядела она женственнее, чем восемь лет назад, но эти годы сделали ее подвижнее, почти омолодили. Теперь он впервые услышал ее высокий, слегка певучий голос, она строила фразы точно, с долей искусственности, но ее немецкий, если не считать напевной интонации, уже никак не выдавал происхождение Ялуки. Она вся сияла, стоя перед Зуттером, который тоже поднялся со своего места.
– Господин Гигакс! – воскликнула она.
Он не знал, какая у нее теперь фамилия, поэтому с легким поклоном произнес:
– Госпожа Ялука!
Она протянула ему снизу вверх маленькую руку, словно приглашая на менуэт; эту ручку Виола от нее не унаследовала. На секунду ему показалось, что Ялука опустилась на пол – это она сделала книксен, усвоенный за время ее жизни в Германии.
– Ну как, выиграла? – спросил, сидя в кресле, муж. Она оставила его вопрос без ответа.
– Я безумно рада познакомиться с вами, – сказала она. – Благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Лео дала мне ваши книги.
«Какие еще книги? – подумал он. – Ну да ладно».
– Вы замечательный человек! – воскликнула она, и Зуттер почувствовал, что надо с этим кончать, так как люди в соседних креслах уже начали посматривать в их сторону.
– А где же Леонора? – спросил он.
– Ей надо немного отдохнуть, но она передает вам большой-большой привет, – сказала Ялука с преувеличенным почтением.
– Я имел удовольствие подвезти сюда вашу дочь.
– О, Виола сейчас на озере. Она всегда на озере. Где вы остановились?
– В пансионате фройляйн Баццелль, как обычно. По крайней мере, надеюсь на это. Я не уверен, что для меня там найдется комната.
Она закрыла свои глаза-щелки.
– Ваша жена, – тихо сказала она.
– Да.
– Я вам так сочувствую, – проговорила она и вдруг в испуге широко открыла глаза. – Вам не дают комнату? – спросила она таким тоном, словно речь шла о голодной смерти целого народа. – Но почему? Почему вам не дают комнату, в которой вы всегда останавливались с женой?
– Собственно, пансионата больше не существует, – сказал Зуттер. – Его владелица скончалась. Теперь там одна фирма проводит свои семинары.
– Владелица умерла, и вам об этом не сообщили? – дрожащим от возмущения голосом спросила она.
– Ялу, – вмешался фон Бальмоос, – может, ты присядешь? Зачем устраивать сцены на глазах у всех?
Она снова не обратила на него ни малейшего внимания и осталась стоять. Пришлось стоять и Зуттеру.
– Не беспокойтесь, – сказал Зуттер, – я найду, где остановиться.
– А если в «Вальдхаусе», Эзе? – предложил фон Бальмоос. – Хочешь, я спрошу у администратора? Будешь моим гостем.
И тут произошло нечто, чего Зуттер совершенно не ожидал. Ялука бросилась ему на шею. Она обняла его и положила голову ему на грудь. Он почувствовал, как она всем телом слегка прижалась к нему. Ощущение, которое он испытывал, только когда брал уроки танцев. Он осторожно взял ее за плечи, которые вздрогнули от прикосновения его рук, но так и не решился отодвинуть ее от себя.
Все вокруг внимательно наблюдали за ними.
– Не уходите, – услышал он ее голос.
Чтобы внятно, преодолевая смущение, ответить ей отказом, ему нужно было отодвинуть ее, но она сама стремительно откинула голову и решительно повторила:
– Не смейте уходить!
Он улыбнулся и пожал ей руку, но этот его жест остался без ответа.
38
Зуттер и фон Бальмоос молча шли обратно в долину Фекса.
– Вот видишь, – сказал Йорг.
– Вижу, только не знаю что.
– Вот уже восемь лет ты злой дух моей семьи.
– Объясни.
– С удовольствием, господин кукловод. Одна из твоих кукол имеет к тебе претензии. Восемь лет танцует она под твою диктовку. Представление длится по двадцать четыре часа ежедневно и называется «Многоженство в калмыцкой семье». Оригинальный сценарий. Откуда только ты его позаимствовал?
Зуттер молчал.
– Вот тебе подлинная история человека, который разбогател. После суда над Ялу мне пришлось посещать ее в тюрьме и заниматься ребенком. Через два года я на ней женился, по настоянию Лео, своей – как это ты изволил выразиться? – «старшей жены». Бухгалтерией я занимался и раньше, но это были только цветочки. Теперь у меня появилась большая калмыцкая семья. Нашему общему ребенку нужно было брать уроки игры на скрипке. А ты знаешь, сколько стоит час занятий у Ульрики Пульт? Скрипку пришлось отложить в сторону – пришла очередь платить за интернат. Я оплачивал кровать принцессы, потом горошину, из-за которой ей понадобилась другая кровать, потом эту другую кровать, и, разумеется, платил за королевство, полагающееся принцессе. И не забудь: все это время я расплачиваюсь за презрение, которое испытывают к злому и глупому отчиму. Ему следует заняться дыхательной гимнастикой, но только в качестве коммерческого директора. Тут уж не до искусства. Я ценил в тебе сторонника соразмерности, Эзе. У наказания должны быть свои границы. Я же расплачиваюсь до сих пор, жертвуя всем, что у меня было, за портрет калмычки, который я написал по просьбе ее незадачливого супруга – написал почти задаром. Тут нечто большее, чем просто творческая неудача. Теперь портрет висит у Шпитцера, адвоката Ялу, – помнишь еще этого типа? Лео подарила портрет ему – в дополнение к солидному гонорару, который оплатил я.И висит он теперь в салоне Шпитцера – в качестве conversation piece [56]56
Жанровой картины (англ.).
[Закрыть]. Но за все это пришлось расплачиваться деньгами и в известной мере потерей лица. А вот за портрет, который нарисовал ты,Эзе, я расплачиваюсь своей жизнью, – расплачиваюсь за твою умело сочиненную фальшивку. Потому что калмыки и слыхом не слыхивали о полигамной семье, которую ты нам приписал. Им незнакома семья, в которой две, три, четыре женщины дружно живут с одним мужчиной. У них и намека нет на бесшабашный тройственный союз во главе с патриархом. Это твоя выдумка, но она пришлась кстати в омерзительной семье Бальмоосов. Дамы чувствуют себя в ней как рыба в воде.
– Так вот почему ты в меня стрелял, – сказал Зуттер.
Фон Бальмоос остановился.
– Что ты такое несешь?
Зуттер в двух словах рассказал о своих подозрениях.
– Я слышал о том, что с тобой случилось. Но нет, это был не я. – Он улыбнулся, и улыбка его показалась Зуттеру непринужденной. – Эзе, не будь у нас альтернативной службы, я был бы полным отказником. Я в жизни не держал в руках оружия.
Он снова остановился.
– Ты навел меня на мысль, – сказал он. – Моя младшая жена стреляет, а старшая берет у нее уроки стрельбы. Разумеется, речь идет о совершенно новой форме абсолютного присутствия духа: ты попадаешь в цель, если что-то в тебе стреляет само собой. Тогда уж не промахнешься, пуле остается лишь уведомить цель о скорой встрече. Правильно дышать или метко стрелять – для такого мастера, как Лео, без разницы.
То и дело останавливаясь, они подошли к машине Зуттера. Внизу, в долине, уже сгущались сумерки, кое-где в домах зажегся свет. На взгорьях, тянувшихся вдоль лощины и усеянных дачными домиками, еще лежал красноватый туман, с которым прощалось солнце. На ветровом стекле Зуттерова «вольво» торчал, прижатый «дворником», квиток с требованием уплатить штраф.
– Это все, что ты собирался мне поведать? – спросил Зуттер, шаря в карманах в поисках ключей.
– Нет, – ответил фон Бальмоос, – я хотел тебе сказать, что я переспал с Руфью.
Зуттер вцепился в дверцу, которую успел открыть.
– Когда?
Йорг задумался.
– Кажется, осенью тысяча девятьсот девяносто пятого, после моей женитьбы на Ялу, с последующей потерей всяких контактов: она запретила мне прикасаться к ней.
– Где это было?
– Здесь.
– Этого не может быть.
– Ты тогда уехал из пансионата, твоя газета вызвала тебя на какую-то конференцию.
Зуттер с неохотой припомнил этот факт. Речь шла о репортаже, в котором он зацепил как следует одного прокурора, и тот стал угрожать газете судом за оскорбление личности. Надо было решать, топить ли прокурора и дальше, пойти с ним на мировую или ограничиться публичным извинением.
– Ага, – хрипло проговорил Зуттер. – И как же это было?
– Я приехал сюда из Касте, – ответил фон Бальмоос, – один, после ретроспективной выставки в «Кунстхалле», в полнейшем расстройстве. Из-за разгромной рецензии, появившейся в твоей газете.
– Давай ближе к делу.
– Сначала мне нужно было прийти в себя, позволь тебе сказать. Здесь я не только совершал прогулки. Дважды я заблудился в тумане. А однажды заночевал в горах.
– Я признаю за тобой любые смягчающие обстоятельства, – сказал Зуттер.
– К сожалению, ты не сможешь этого сделать. Я тогда думал, что на всем свете нет человека несчастнее меня. Но я заблуждался. Каждый вечер я сидел на камне Ницше. Шел дождь, я этого не замечал. Возвращаясь через Плаун да Лей, я увидел женщину, одиноко сидевшую на скамейке. Я ее не узнал. Дождь лил все сильнее, у нее не было зонтика, по ее лицу текли слезы.
– Дальше, дальше, – торопил Зуттер.
– Я остановился и спросил, не могу ли ей помочь. Только тогда я узнал Руфь и набросил ей на плечи плащ.
– А заодно и обнял за плечи.
– Само собой, – подтвердил фон Бальмоос, – и проводил ее через плато.
Зуттер сел за руль. Фон Бальмоосу пришлось наклониться, чтобы не слишком повышать голос.
– Проводил до самого пансионата?
– Никогда еще я не видел ее такой убитой.
– Никогда? – спросил Зуттер.
– Мы знали друг друга до вашей женитьбы.
– Ну да, в «Шмелях».
– Нет, раньше. Она общалась с нами еще в Париже. Была близкой подругой Лео.
– Давай заканчивай, – сказал Зуттер. – Куда ты ее отвел?
– Она сказала, когда обрела способность говорить: «Это сидит у меня в груди, Йорг, мне уже не жить, я не могу говорить». – «Но ты же сейчас говоришь со мной, успокойся». – «Говорю, но опухоль осталась». – «Оставь, сказал я, никакая это не опухоль».
– Ты это сразу почувствовал, – сказал Зуттер.
– Я это определил, когда мы оказались в номере.
– До того или после?
– До, если это так важно.
– Руфь умерла не от рака груди, – сказал Зуттер.
– Что этого не случится, я мог бы сказать ей, будучи профаном в таких делах.
– Когда речь о грудях, тут ты далеко не профан, – сказал Зуттер. – И после всего этого ужаса она снова стала почти как новенькая.
– Слушая тебя, Эзе, я начинаю понимать, почему Руфь не могла говорить.
– И знаешь, отчего она умерла.
– Нет, но думаю, что виной тому ваш брак.
– Вот как?
– Должно быть, ты совсем не знал ее.
– Коли так, то мне остается только поблагодарить тебя за то, что ты соизволил переспать с ней.
Йорг стоял, Зуттер сидел за рулем, в это время мимо них проехали дрожки с пожилыми японцами; одна женщина робко им кивнула. За дрожками медленно ехал черный лимузин немецкого премьер-министра, которого вынудили отказаться от своего поста, так как уже после окончания войны он, будучи судьей на флоте в Норвегии, приговорил молодого человека к смерти за дезертирство. Что еще вчера было правом, приводил он довод в свою защиту, не может в одночасье обернуться своей противоположностью.
39
Когда они подъехали к «Вальдхаусу», Йорг остался сидеть в машине.
– Теперь ты должен знать все, – сказал он.
– Не многовато ли для одного раза?
– Но не здесь, поехали к камню Ницше.
Зуттер молча отпустил ручник. Машина покатилась вниз, миновала деревню. Они припарковались у гостиницы «Альпийская роза» и пошли к озеру. Время близилось к вечеру, был тот час, когда близкое кажется далеким, а далекое неосязаемо близким, когда окутанные туманом горы как бы парят в воздухе.
– Ты помнишь Love Parade [57]57
Парад любви (англ.).
[Закрыть]тысяча девятьсот девяносто пятого года? – спросил Йорг, когда они подошли к лодочной станции, откуда начинался подъем на полуостров.
В августе город превратился в «пульсирующую массу», это был последний август в жизни Руфи.
– Кажется, в тот день я куда-то улетал, – сказал Зуттер.
– Не помнишь куда?
– Помнится, я ехал в машине в аэропорт и услышал по радио рекомендацию «объехать город стороной». Мне нужно было купить хлеба на воскресенье и еду для кошки. Магазины в аэропорту в субботу и воскресенье работают, там за эскалатором есть единственная булочная, где хлеб пахнет детством.
– Ты стоял на смотровой площадке и наблюдал за самолетами, сказал Йорг, – а рядом с тобой стояли две пожилые немки, которых ты шокировал.
– Ага. И чем же?
– «Вот, наконец, нечто позитивное», – отозвались они о Love Parade, на что ты возразил: «Я бы всех этих позитивных поставил к стенке».
Зуттер невесело рассмеялся.
– Должно быть, нечто подобное я прочитал у Ницше, – сказал он. – Я бы расстрелял всех антисемитов, писал он сестре, которая сама была антисемиткой. В ту пору на него уже стремительно наваливался мрак безумия.
– И на тебя тоже. Немки приняли твое замечание на свой счет.
– Просто глупое изречение.
– Опасное для жизни. То, что ты изрек, услышали женщины-агенты.
– Женщины-агенты?
– Агенты дыхательной терапии. «Я бы всех этих позитивных поставил к стенке» – ты хоть понимаешь, как можно истолковать эту фразу?
– Нет.
– Слова можно понимать так и этак. Резкий ветер оттачивает их с обеих сторон, словно ножи. С какой стороны за них ни возьмешься, все равно порежешься. Наше время понимает только шутку. Это значит, Эзе, что оно не понимает уже никого. Обе немки могли услышать в твоих словах угрозу. Быть может, они как раз возвращались домой после дыхательной терапии у Лео.
– Не сумасшедшие же они в самом деле, – заметил Зуттер.
– Что значит сумасшедшие? Когда мы еще жили в «Шмелях», у Лео была маленькая соблазнительная «лавка здоровья». Дыши красиво. Стимулируй выделение желчи печенью. Укрепляй иммунную систему.
– Руфи это не помогло.
– Я думал, эта терапия нужна Лео, чтобы чем-нибудь заняться. Все свое время я отдавал ей. Рядом со мной осталось место только для одного человека – для специалистки по умению жить. Она вяжет пуловеры и печет пироги, он крадет коней. Мужчина обязан окунаться в чужую жизнь, зная, что дома его ждет родная душа, которая только им и дышит. Ты можешь себе представить, что уже тридцать лет она живет одной мыслью: как бы меня унизить? Тут нужны тренированные легкие, Эзе, в сравнении с ней я – жалкий астматик. По ее милости я оказался выброшенным на мель, где мой вес художника уже ничего не значит и где мне придется околеть.
Йорг остановился, глядя прямо перед собой.
– У нас процветающее дело, Эзе. Первое время мы вдыхали в себя антитела, накапливая запасец. Занимались дыхательной гимнастикой, избавляя людей от потливости ног, от инфаркта и любовной тоски. Сегодня мы уже не исцеляем клиентов от тех или иных недугов, нам этого мало. Симптомами пусть занимаются мелкие лавочники. Возиться с антителами en détail, по мелочам, нам уже не с руки. Мы все тело переделываем в антитело. Нам помогает страх смерти, Эзе, вот наш материал и наш источник жизни. Кто делает на него ставку, тот избавляется от забот и оказывается в самом прибыльном бизнесе, который когда-либо знало человечество. Страх смерти беспределен.
Зуттер пошел дальше. Йорг, тяжело дыша, последовал за ним и схватил его за руку.
– Почему в инсценировках Fun and Games отсутствует всякое содержание? Почему на Love Parade на улицах танцуют только раскрашенные телеса? Потому что они всего лишь оборотная сторона страха смерти. «Вы в играх и шутках проводите жизнь? Так и надо, друзья! / Это трогает душу мою, ибо вами отчаянье движет». Могу поспорить, что новый тип человека не будет понимать даже междометий. Ему будут понятны только слова вроде вокзал, peace, love и ecstasy [58]58
Мир любовь и экстази (англ.).
[Закрыть], этот тип ничего собой не будет представлять. Абсолютно ничего, как и сама жизнь. Дыхание пустоты, Эзе, его надо только уловить. И использовать. Лео это умеет.
По дороге к озеру то и дело приходилось одолевать крутые подъемы, и Зуттер не без удовлетворения отметил, что его спутник дышит чаще, чем он сам.
– Вначале я был у Лео сутенером: люди искусства нуждаются в дыхательной гимнастике. Толстяки, случалось, уже подумывали о близком конце, но стоило им подышать вместе с Леонорой – и они снова оказывались на коне. Мне не полагалось знать, как далеко заходит моя старшая жена в своих услугах клиентам. Но скоро уже она стала поставлять мне клиентов. У Лео оказались длинные руки. И ими она выставила меня за дверь. После истории с Зигги она могла столкнуть меня в пропасть.
Тем временем они подошли к памятному камню.
– «Будь осторожен, человек», – прочитал Йорг фон Бальмоос. – Вот он, Эзе, голос глубокого мрака. В Европе и во всем мире есть несколько сот человек с положительной реакцией. Я имею в виду дыхательную реакцию. Они заражены возбудителем, который в тысячу раз токсичнее вируса СПИДа. Возбудитель страха смерти. Кто хочет забыть о нем, приходит к нам. Но горе тому, кто помешает нам позитивно мыслить.
– Кому это «нам»? – спросил Зуттер. – Вы что – секта?
– Нам это ни к чему. Ты разве до сих пор не заметил, что все вокруг построено по принципу секты? Пару лет назад я с Лео побывал на выставке пластификатора,точнее, Лео со мной, там она мне показала, где раки зимуют и что такое искусство. Это были экспонаты, которые умелый хирург сделал из людей – правда, им прежде пришлось умереть. Но они не позволили безропотно кремировать или похоронить себя, а в виде экспонатов из сухожилий и нервов родились для нового мира. Увидеть этот мир они не могли, зато могли показать себя – и их увидели. Хирург-художник разрезал их на тончайшие пластинки. Затем растянул, оставляя большие промежутки, на семь метров в длину. Он облагородил заурядное лицо, превратив его в золотую маску, и посетители смотрели сквозь него. Никто не оставался равнодушным. При желании человека могут препарировать в античного дискобола, Эзе. Или выставить в виде беременной женщины, аккуратно разрезав в длину вместе с зародышем в чреве, слои которого напоминают кондитерское изделие, – старый Наль со своей скульптурой прекрасной жены священника не идет с этим ни в какое сравнение. Публика ходит на цыпочках по огромному выставочному павильону, в котором можно было бы продавать ванны или дезинтеграторы. А теперь это молельня с комнатой ужасов.
Я наблюдал за публикой, Эзе, как она обнюхивала эти памятники удавшейся смерти – похотливо и благоговейно: мол, есть же люди, которые решились так себя увековечить! В углу выставочного зала чудо-доктор положил книгу отзывов. Список очередников. Несчастные восторженно приветствовали в нем светило науки, благодетеля человечества, вершину благочестия. Просили и с ними проделать то же самое. Все, все хотели встать в очередь к чудо-доктору. Все жаждали ультимативной косметики, которая им ничего не будет стоить, если не считать маленького отрезка жизни! Я отыскал Леонору, которую все еще считал примерной женой, охраняющей покой художника. И что же я увидел? Ее глаза сияли! Тогда-то я и понял, Эзе, что пробил час полуночного мрака. Лео открыла для себя величайший черный рынок мира. На нее снизошло озарение. Она стала вампиром… Все, все хотят стать тем, чем они и так являются, – артефактами. Ну как тут еще заниматьсяискусством? Ведь это все равно что делать холодильники для Северного полюса! Дыхание, объяснила мне Лео, когда мы ели черничный пирог, – это текстура без материи. Но когда правильно втягиваешь в себя воздух, он соединяется с клеточной тканью, поддерживает ее, преображает, обновляет все тело. «Йоргли, – сказала она, – я тку своему „внутреннему“ человеку праздничную одежду, прекрасную, как фата невесты, прочную, как волосы феи, легкую, как ветер. Я открываю для него небо, где он может летать». Единственное, чего она не сказала, но это подразумевалось само собой, что от смерти есть одно надежное средство.
– Смерть, – сказал Зуттер.
– Вопрос только в том, как ее обставить. Лео планирует праздник прощания в виде фейерверка или ракеты с двумя ступенями. Первую мы зажигаем на Эйерс-Рок. Мир затаивает дыхание. Вакуум аккумулирует энергию, накапливает ее под самую завязку. Через три года – взрыв, и мы отрываемся от земли. Мир расстается со своей историей, издавая протяжный вздох. Тут-то и приходит конец вашему Вечному возвращению, господин Ницше.
– А последняя ступень? – спросил Зуттер. – Где она взлетает?
– У истоков Нила. В Африке земля впервые вдохнула в себя человека, в Африке она снова избавится от чужеродного тела.
– Зачем твои дамы учатся стрелять?
– Кто не умеет задерживать дыхание, тот рискует прежде времени исчезнуть с лица земли. Недавно Лео перелистывала газету в поисках траурных объявлений. Все еще самая сильная страница в твоем издании. Там она наткнулась на фамилию одного члена правления многих советов. Он был ее клиентом – и моим тоже. И вот отправился в мир иной. «Да, – сказала Лео, – Нигг выпустил его из своих рук». Нигг – это главный врач городской больницы.
– Знаю, – сказал Зуттер. – Я только что видел его в пансионате Баццелль. Он приехал на семинар.
– Ты встретишь там немало клиентов Лео.
– А что же две немки в аэропорту?
– Ты вполне мог там вынести себе смертный приговор.
– Йорг, но это же детские забавы.
– Не скажи. Дети ведь не знают жалости. У тебя нет детей, иначе ты бы это знал. Судебного репортера такие вещи не должны бы удивлять.
– Давай присядем, – предложил Зуттер.
Скамейка у камня Ницше освободилась. Юная парочка, любезничавшая на ней, ушла – видимо, ей мешали разговаривавшие вполголоса старики.
Сквозь низко нависшие ветви Зуттер смотрел на воду; у берега, в тени, она казалась темнее обычного.
– У тебя мания преследования, – сказал он.
– И это говорит человек, которого Лео держит в своих руках. Давно.
– Что-то я этого не замечал.
– Чем меньше замечаешь, тем цепче она тебя держит, – сказал Йорг. – Мир кишит черными дырами. Астроном их тоже не видит. Он только фиксирует перемены в их окружении. Каждое движение изгибается, в пространстве появляется кривизна. Сила притяжения действует повсюду. Тебя окунают в нее, сминают, добираясь до самого ядра. И вот ты уже такой добренький, каким никогда не был.
Йорг замолчал, так как на дороге послышались быстро приближавшиеся шаги. В просветах между ветвями замелькал небесно-голубой тренировочный костюм, вскоре можно было увидеть и того, на ком он был надет. Пробегая мимо, человек, улыбнувшись, поднял для приветствия руку, и Зуттеру показалось, что он уже видел его в пансионате. Фон Бальмоос посмотрел ему вслед.
– Это бегают зомби, – сказал Йорг. – Бегут навстречу своему концу, по десять километров ежедневно. А когда придет Судный день, у них будет только тщеславное желание выглядеть помоложе, up to date, just in time [59]59
Очень современно, точно ко времени (англ.).
[Закрыть].
– He нравятся мне твои фантазии, – сказал Зуттер.
– Потому что они не твои? – мрачно рассмеялся Йорг. – Разве моя большая калмыцкая семья не заслужила светопреставления? Эзе, из-за твоих чудных фантазий я попал в такие жернова, которые перемололи меня в порошок, словно Макса и Морица [60]60
Персонажи серии юмористических рисунков и подписей к ним немецкого поэта и художника Вильгельма Буша (1832–1908).
[Закрыть]. Вот уже восемь лет я только тем и занят, что притворяюсь личностью, которую зовут Йорг фон Бальмоос. Когда мне стало не хватать дыхания, вместо меня задышала Лео. Всего лишь маленькой жертвы требует она – чтобы я был своей собственной тенью.
– Сегодня ты поразил меня в самое сердце, – признался Зуттер. – Такого со мной еще не случалось.
Йорг поднял голову и уставился на Зуттера. Потом закрыл лицо руками, и Зуттер услышал стон, который ввел его в заблуждение несколько часов назад.
Йорг запустил руку в нагрудный карман своей кожаной куртки, вынул оттуда камешек и раскрыл ладонь.
– Тебе он знаком?
Зуттер молчал.
– Ей тогда было семнадцать, как сейчас Виоле, – заговорил Йорг, – и она впервые отправилась в путешествие. С подругой. Иначе тетя ее не отпустила бы. Но этой подругой был я. Я был на два года старше ее и учился в Высшей художественной школе. За год до этого я побывал в Греции, в одиночку. После этого я уже не сомневался, что буду художником. Надо было только стать самим собой. Я был так переполнен своим призванием, что мне хотелось все превращать в искусство. И всех, кто оказывался вблизи меня, в художников. Ты слышал, как смеется Руфь? «Я стану врачом, – заявила она, – и буду все время опускать тебя с высот искусства на грешную землю». Мы разбили палатку там, где меня поразил в сердце Аполлон, где суша заканчивается мысом Сунион. За спиной у нас высились белые колонны, а мы сидели на берегу моря и ждали восхода солнца. Мы почти не спали: вот сейчас мир откроет свои глаза. Часами сидели мы молча, на наших глазах рождался новый день. Земля вокруг нас была усеяна обломками храма Посейдона. Руфь подняла два мраморных осколка и один дала мне. Я всегда носил его с собой. Он твой.
Зуттер взял у него камень и зажал в кулаке.
– А я и не знал, что Руфь бывала в Греции, – сказал он.
– С ней я мог бы жить, – проговорил Йорг.
– А я – нет, – сказал Зуттер.
Он взвесил камень в руке. Зуттер родился левшой, и ему пришлось переучиваться. Однако для бросков он все же пользовался более сильной левой. Когда он швырнул камень вверх, тот на миг поймал искорку света, уже отступившего из лощины; увидеть, как он упал, они не могли, да и удар о землю поглотила тишина.
40
Борода у него была с проседью, но сбрей он ее, лицо выглядело бы молодым; правда, это было лицо пятидесятилетнего мужчины. Его можно было бы назвать тощим или стройным, казалось, он весь состоял из одних жил. Две из них, прежде всего бросавшиеся в глаза, поднимались из открытой рубашки к ушам, как две напрягшиеся выпуклые опоры, на которых держалась голова с беспорядочно вьющимися волосами и приветливыми глазами. При этом они обрамляли резко очерченный треугольник кожи, по которому одна за другой прокатывались волны пульса. Когда Руфь и Зуттер отдыхали после прогулки на полуостров, они наблюдали за работой этого человека в лодке; в его движениях не было ничего торопливого или лишнего. Это он вытащил тело Руфи из воды.
– Я запомнил, где вы живете, но фамилию вашу забыл, – сказал Зуттер, когда мужчина возник в освещенном четырехугольнике входной двери.
– Каханнес, – ответил тот.
Зуттер извинился за поздний визит, сказал, что он хотел бы взять у него завтра утром напрокат рыбачью лодку, и объяснил, зачем она ему нужна.
– Входите, господин Зуттер, – пригласил Каханнес и отступил в сторону; Зуттер, таким образом, последовал приглашению еще до того, как решил, принимать его или нет.
Он быстро прошел мимо зеркала и остановился в просторной, освещенной светом лампы и лишенной каких-либо украшений комнате. За столом сидела молодая женщина с необычайно светлой кожей лица и шаровидными глазами, такими же черными, как и разделенные посередине пробором волосы. Она улыбнулась Зуттеру, прижимая одной рукой к себе какой-то сверток. Из-под пелерины, которую она глубже натянула на грудь, слышалось смачное чмоканье.
– Это Шейла, а это господин Гигакс, – представил их друг другу Каханнес.
Он выдвинул из-под стола табуретку, но она оказалась уже занятой. На ней лежала кошка, кошка Руфи. Наполовину вытянувшись, она лежала на маленьком сиденье, закрыв темной передней лапой белое пятно на мордочке; остальные лапы были в белых «сапожках», белым было и жабо на блестящей черной шерстке.








