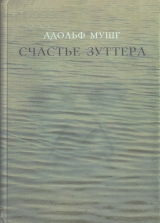
Текст книги "Счастье Зуттера"
Автор книги: Адольф Мушг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Часть вторая
Призраки
19
– Извини, – сказал Фриц, он стоял за дверью, которую Зуттер открыл после многократных звонков, – но твой телефон не отвечает.
– Никак не научится, – сказал Зуттер.
– Но есть же автоответчики.
– Телефонный автоответчик – это я сам, – сказал Зуттер.
Когда Фриц подшучивал над собой, то называл свое лицо «тысячекратной складкой»; его необычайно синие глаза не просто сияли, казалось, это именно они изобрели сияние / Но сейчас они метали молнии, многочисленные складки вибрировали так, словно Фриц прикоснулся к высоковольтному проводу. Он сглотнул, и по его толчками прыгающему кадыку можно было догадаться, какие слова он проглотил: «Эмиль, ну сколько же можно?» Вместо этого он спросил вполне благовоспитанным тоном:
– Так и будем стоять перед дверью?
– Дверь останется закрытой, – ответил Зуттер, – иначе улизнет кошка. Похоже, она еще не признала этот дом своим. Поэтому останется пару дней взаперти. Давай обойдем вокруг дома и посидим в саду.
Дом Зуттера был последним в двойном ряду шестиугольных пятикомнатных домов, всего в ряду было одиннадцать таких сдвоенных строений; поселок построил в 1973 году архитектор Петер А. Шлагинхауф и хотел дать ему название «Полимер». Но городские власти дали разрешение на строительство с условием, что сохранится старое название этой местности. И поселок будущего – как тогда считалось – был назван «Шмелями».
Со временем выяснилось, что это название подходит поселку больше, чем «Полимер». Товарищеские связи, соединявшие клетки «Полимера», давно распались. Дом Зуттера, который изначально не был самым надежным звеном цепи, замыкал ее юго-западную оконечность. Это окраинное положение сохранилось и двадцать лет спустя, когда сменилось население поселка, хотя и не в том духе, в каком это виделось зачинателям. Гладкий, замешенный на мелкой крошке бетон, считавшийся тогда совершенным строительным материалом, был теперь замазан и заклеен всевозможными способами, так как оказался холодным и неуютным. Дома в стиле мастерских, извещавшие, что здесь жили если и не художники, то во всяком случае свободные устроители собственной жизни, благодаря тюлевым гардинам, волнистым жалюзи и герани на окнах превратились в маленькие домишки, утратившие приметы великого замысла, а вездесущие, заполнявшие любую брешь украшения говорили о боязни пространства.
Основатели общины теперь появлялись в поселке только для того, чтобы присмотреть за своими сданными внаем домами. Как, к примеру, Фриц и Моника, передавшие свой дом индийскому программисту с семьей, когда получили место руководителей чрезвычайно удобно расположенного Евангелического центра – в иных странах такой центр мог бы называться Академией. Художник фон Бальмоос с женой Леонорой покинул «Шмели» еще раньше. Конец семидесятых годов принес ему международное признание, и чтобы закрепить его за собой, ему понадобилась не только более пространная мастерская, но и соответствующее окружение; поселок со сдвоенным рядом домов ему уже не подходил. Даже архитектор Шлагинхауф уехал из поселка, послужившего ему ступенькой и трамплином для прыжка в другие сферы. Он что-то строил одновременно в Санкт-Петербурге, Базеле и Лос-Анджелесе и в своем доме больше не жил.
И только бездетные Зуттеры дольше других засиделись в своем жилище; правда, теперь Зуттер остался один. У крайнего дома, граничившего с зеленым лугом, на котором пасся скот расположенного неподалеку образцового крестьянского хозяйства, были свои преимущества – в данный момент то, что Зуттеру и Фрицу, чтобы попасть в сад, не пришлось делать крюк в полкилометра. Тропинка мимо кустов и водостока шла вдоль внешней стены дома. Стена, уже без окон, с трещинами в запущенном бетоне, продолжалась и за домом, огораживая шестигранник сада.
Мужчины молчали, Зуттер шел впереди, и было заметно, что ходьба все еще дается ему с трудом. Всего несколько шагов в сторону от «Шмелей» – и ты оказывался в настоящих зарослях, правда, в пору, когда барбарис, кизил, калина и терн покрывались зеленой листвой. Теперь же сквозь решетку ветвей с набухшими почками, кое-где уже выкинувшими белые соцветия различных оттенков, виднелся луг и за ним полоса коричневой, залитой солнцем пашни.
После этой прогулки друзья вошли на участок Зуттера с заднего хода; им оставалось пройти еще несколько шагов по внутреннему коридору без крыши (идея Шлагинхауфа) до покрытой черным шифером террасы. Она располагалась под застекленным верхним этажом, претензии которого походить на мастерскую художника вряд ли можно было принимать всерьез, так как его окна выходили на солнечную сторону. Зато этот этаж как нельзя лучше годился для зимнего сада, и именно с такой целью Зуттер его и использовал. Мебель тут была жесткая, рассчитанная на любую погоду, и Зуттер не стал приглашать своего гостя присесть, пока не принес прохлаждающие напитки. Через брешь, устроенную архитектором в безветренном садике, уже проникали горячие солнечные лучи.
Зуттер вошел в дом, соблюдая необходимую осторожность, так как кошка стояла за стеклянной дверью, ожидая, что она хотя бы чуть-чуть приоткроется. Зуттер прикрыл щель ногой, взял извивавшуюся кошку за загривок и отнес ее в ванную – единственное запиравшееся помещение. Ее протестующие вопли были слышны во всем доме.
Зуттер разлил светлое, как вода, шипящее вино, любимый напиток Руфи, который делали в близлежащей озерной местности, и поднял свой стакан.
– Твое здоровье, – сказал Фриц. – ОЭмиль, если б я знал…
– Я знаю, – произнес Зуттер, разглядывая наливавшуюся кровью царапину на тыльной стороне своей ладони.
На морщинистом лице Фрица снова появилось выражение едва сдерживаемого негодования.
– Скажи, пожалуйста, что ты знаешь? – спросил он.
– Вы бы навещали меня, спрашивали, не нужно ли мне чего, поговорили бы с врачами, а если надо, то и с полицией. Вы приносили бы мне цветы, книги, одежду и белье. И, конечно же, все это время присматривали бы за кошкой.
– Я, – со страдающей миной прервал его Фриц, – я делал бы все это, можешь не сомневаться. Но не мы.«Нас» больше нет. Моника ушла от меня.
– ОФриц, – сказал, не глядя на него, Зуттер, – в который уже раз.
– На этот раз окончательно, – загробным голосом произнес Фриц. – Мы расстались Она решила расстаться. Влюбилась, видите ли.
– Такое с вами уже случалось, – невозмутимо заметил Зуттер, избегая страдающего взгляда друга.
– Такое, да не такое. Так еще не было. Теперь она хочет жить.
– С кем?
– Она познакомилась с ним в Санкт-Вельтене, – в голосе Фрица была горечь.
– Ага, в Санкт-Вельтене. Там, куда вы послали Руфь, чтобы она познала себя. Нехорошее это место.
– Врач из Пирмазенса, – подтвердил Фриц. – Даже не разведен. У него две дочери. Подростки.
– Подожди, они скоро выгонят Монику.
– Наоборот, – сердито бросил Фриц. – Именно они не отпускают ее. Наконец-то у них есть кто-то, с кем можно общаться. Их мать наркоманка и алкоголичка. Моника у них уже целую неделю. Она там живет.В Пирмазенсе!
– А что говорят ваши дети?
– Алекс, как всегда, отмалчивается, а Беттина в восторге от поступка матери.
Он беспрерывно сглатывал, и тысячи морщинок придавали его лицу горестное выражение. «О, Фриц», – хотелось утешить его Зуттеру, но Фриц принял бы такое обращение к себе за насмешку. Он сам навязал себе это прозвище. Советчик по профессии и призванию, он каждый раз начинал свои утешительные тирады этим жалобным восклицанием: О, Эмиль. О, Руфь. И вот теперь: О, Моника. Но сейчас в утешении нуждался он сам, будучи абсолютно уверенным в том, что ему его не найти. Он был безутешен, и никакое напоминание о том, что в мире много куда больших страданий и горестных вещей, не могло ему помочь. Один из первых обитателей «Шмелей», беспощадно-насмешливый художник, говорил за спиной Фрица, что он человек истинно ирландского происхождения, Сэмюэл Беккет в популярном издании.
– Я могу собирать вещички, Эмиль, – сказал он. – Церковные власти нанимали нас руководить центром как супружескую пару.Раз Моника ушла, договор утрачивает силу.
– Она вернется, – заверил Зуттер. – От тебя она еще может отдохнуть, в этом деле у вас большой опыт. Но от договора не откажется.
– А разве брак – не договор? – спросил Фриц, и глаза его снова загорелись: в них была глубокая укоризна. – И что значит: она может отдохнуть от меня? Что ты хотел этим сказать?
– Что сердцу не прикажешь. Нечто подобное я уже слышал. От вас, от Моники и от тебя.
– Только не от меня, – ворчливо заметил Фриц. – Да и от Моники вряд ли, разве что ей кто-то нашептал. Это все Лео.
– Лео – единственная зрелая женщина, которую мы знаем, говорили вы. Разве не так? Сидя у камелька после языческого Рождества. У вас был очередной кризис. Тогда речь шла об управляющем из Лангенталя. Его вы обсуждалис Леонорой. Твои слова, Фриц. И все в очередной раз чудесным образом уладилось. Благодаря Леоноре.
– Да, – печально согласился Фриц, – она ведьма. Самая настоящая. Дьявольское отродье.
– Вот те на! А тогда вы называли ее ангелом, воплощением зрелости и рассудка.
– Ты ее не знаешь, – вздохнул Фриц. – Да, она умеет говорить языками ангельскими, как сказано в Послании к Коринфянам, глава тринадцатая. К чему ни прикоснется, все под ее руками становится мягким, как воск. А потом расплывается и исчезает. Ты-то хоть понимаешь, что она разрушала вокруг себя все браки? И свой собственный прежде всего?
– Впервые слышу, – удивился Зуттер. – Это ведь ее бросил Йорг, торговец железным ломом.
– Да, – согласился Фриц, – так это выглядело. Так она все подстроила. Смирилась с тем, что произошло, не правда ли? Проявила великодушие! Преодолела себя! Хотела поразить всех своей уступчивостью! Все ложь и обман, Эмиль, ни от чего она не отступилась, ничем не поступилась. Она заманила его в западню, а когда он уже и пошевелиться не мог, ободрала его как липку, подчистую. Сначала лишила его второй жены, калмычки, которую она же ему и подсунула, потом падчерицы Зигги, потом уверенности в себе, остатков порядочности, а в конечном счете отобрала у него и его искусство. Присвоила все, что у него было. Высосала его, как паук свою добычу. И вот теперь пришла очередь Моники, наша очередь.
– Вы искали у нее совета, – заметил Зуттер.
– Совета! – сорвался на крик Фриц, стараясь перекричать жалобные вопли запертой в ванной кошки. – Это ты называешь советом! Мы ходили к ней каждую неделю, сначала заниматься дыхательной гимнастикой, а потом терапией супружеских отношений. Ты можешь представить себе, что из этого вышло?
– Не могу, – признался Зуттер.
– Ничего, кроме полной свободы действий для Моники. Она выдала ей вольную. И я подписался под этой грамоткой, покорно и собственноручно. Можешь представить себе такое? Ты подтверждаешь свое собственное банкротство, да еще и гордишься этим. Подумать только!
– Тебе сейчас тяжело, Фриц, – сказал Зуттер. – В таких случаях ищут козла отпущения. А ты нашел козу.
– Коза отпущения! – зло прошипел Фриц. – Что верно, то верно! Она тертый калач. Окатит тебя кротостью, выкупает в благодеяниях, а потом под слоем пены хвать за твой конец. И так с каждым, без исключения.
– И с тобой тоже? – ледяным тоном спросил Зуттер.
Фриц бросил на него быстрый взгляд.
– Давай говорить серьезно.
– Что я и делаю. Ты спал с Леонорой?
Фриц покраснел.
– Если для тебя это так важно – да. Я давно и думать забыл об этом.
– Когда?
– Примерно год назад, если сие послужит обретению истины.
– Когда точно? – не отставал Зуттер.
– Да зачем тебе? – Чувствовалось, что Фрицу этот вопрос крайне неприятен, но он все же задумался. – Кажется, в феврале, где-то в двадцатых числах, во всяком случае, после сеанса так называемой терапии.
– Меня это не касается, – Зуттер отпил глоток белого вина. – Но чему же ты удивляешься?
– Как чему?
– Лео лишь продемонстрировала тебе твою двойную мораль.
– Вот как? Ну ладно. Но ты не представляешь, как она скомпрометировала меня. В глазах Моники.
– Представляю. Ты пошел на риск, скомпрометировал себя, а она не стала этого скрывать.
– Не стала скрывать? – сорвался на крик Фриц. – Она оскорбила мое человеческое достоинство! Вот что она сделала! Выложила все моей жене. Разве таким можно доверять?
Зуттер грустно улыбнулся.
– И ни намека на стыд, – скрипнул зубами Фриц.
– А ты ждал иного?
– Я несчитаю такт мещанской добродетелью, – Фриц откинулся на спинку стула. Кажется, разговор о самом неприятном был уже позади. – Эмиль, она успокоится когда-нибудь, твоя кошка?
– Я рад, что она вообще выжила. Признаться, я уже и не рассчитывал, что она вернется. Вчера выхожу из такси, а она сидит под дверью, возле рододендрона. Сидит, точно с неба свалилась, и смотрит на меня отсутствующим взглядом. Слава богу, хоть не убегает, я хватаю ее и вношу в дом. Хочу покормить и не могу удержать, она опять рвется на улицу. Делает вид, что не знает меня. Инстинкт мне подсказывает: сейчас нельзя ее выпускать. Пусть посидит взаперти. Придется терпеть ее вопли, никуда не денешься. Она так ничего и не ела, даже не притронулась к своей любимой еде.
– Может, у нее болит что-нибудь?
– Может, и болит. Только она не говорит что. А вообще-то она в отличном состоянии. Откормленная, ухоженная, чистенькая – даже духами от нее попахивает. Должно быть, обреталась где-то на другой планете.
– А ты взял да и запер ее, – с тоскливой завистью сказал Фриц.
– Не хочу потом искать ее, я пока не гожусь для охоты за крупной дичью.
Зуттер не всесказал Фрицу. Ночь кошка провела совершенно спокойно. Просидела без движения в зимнем саду, у пирамидки из камней. Зуттер не спускал с нее глаз, когда, весь напрягшись, ждал ночного звонка. Пятнадцать минут двенадцатого, шестнадцать, семнадцать. Восемнадцать. Телефон так и не зазвонил.
– Я прочитал заметку в газете, – сказал Фриц. – Недалеко от трамвайной остановки кто-то стрелял в мужчину шестидесяти шести лет. Мне и в голову не могло прийти, что это был ты. Фамилию жертвы газета не назвала. Этот было как раз в день, когда ушла Моника.
Кошка замолчала. Зуттер и Фриц, потягивая вино, осматривали окрестности. Сад Зуттера хоть и был запущен, но еще сохранял следы другого мира,который когда-то был уготован ему в «Полимере». С террасы, как со сцены, открывался довольно скудный вид. В центре сдавленного бетонными стенами сада находился крохотный бассейн, в котором объединились, хотя и не очень выразительно, природа и искусство. Несколько стеблей ситника и листьев частухи смазывали каллиграфически задуманную форму китайского иероглифа, означающего Ничто. В углу вишня, вся в белом цвету. Через отверстие в стене виден кусочек сохранившегося ландшафта, весьма невзрачного, но благодаря обрамлению казавшегося каким-то особенным. Уже зазеленевшие буки в ближней рощице залиты солнечным светом и четко выделяются на фоне сочного луга, на котором символически теряются следы тропинки.
Зуттер и Фриц сидели на шатких стульях, перекочевавших сюда, как и стол, из какого-то ресторана в парке.
– Есть какие-то догадки относительно того, кто стрелял? – спросил Фриц.
– Я и так знаю кто, – ответил Зуттер. – Ты.
Фриц задал вопрос с отсутствующим видом, мыслями он был в Пирмазенсе, блуждал по тем полям, над которыми никогда не заходит тусклое солнце ревности. Когда до него дошел смысл ответа, он испугался.
– Я? Ты что, с ума сошел?
– Этот тест я провожу только с лучшими друзьями, – успокоил его Зуттер. – В нашем возрасте трудно поддерживать дружеские отношения. Вот и ждешь, когда в них появятся трещины. Полиция не обнаружила ни следов, ни мотивов, ни подозреваемых, ничего. Даже особого интереса не проявила.
– Должно быть, в тебя стреляли из мести. Хотели проучить.
– Не знаю, что и думать, – сказал Зуттер. – За этим может последовать еще что-нибудь.
– Брось. Не так страшен черт, как его малюют.
– Странное ощущение: чувствуешь, что за тобой наблюдают, но не знаешь кто, – признался Зуттер. – Я подумываю, не спровоцировать ли мне преступника. Тогда он, возможно, проявит себя. Если я не ошибаюсь, он тщеславен.
– А если ошибаешься? Ошибиться тебе никак нельзя.
– Ты слишком много от меня требуешь, – сказал Зуттер. – Преступник затаился в темноте, я стою на виду. Игра в одни ворота. Может, она выровняется, если и я напущу немного тумана.
20
«Зверек, зверюшка, дикий зверь, в наш дом вернулся дикий зверь», – напевал про себя Зуттер, открывая банку с рагу из баранины. Руфь предпочитала покупать для кошки еду в жестяных банках, но Зуттеру еще ни разу не удавалось открыть хотя бы одну из них с помощью электрической открывалки, не причинив себе какого-нибудь вреда. Поэтому последняя банка стояла на полке вот уже больше года.
Кошка прижалась к его ноге, сдвинув полу халата. Она поднялась на задние лапы, чтобы потереться головой о колено Зуттера. Потом провела хвостом по его щиколотке и изогнулась, приняв позу, которую Руфь называла «позой рассказчика».
– Да-да, – пробормотал Зуттер, – расскажи мне что-нибудь.
Где бы кошка ни гуляла, голод в конце концов оказывался сильнее страсти к бродяжничеству или тоски по неизвестной руке, ласкавшей ее: запах этой руки уже окончательно улетучился из шерсти. Но когда кошка прижималась к коже Зуттера, он чувствовал себя как бы помолодевшим. Накрошив в миску немного хлеба, он вилкой затолкал его под покрытые студенистой массой кусочки мяса. «Она так голодна, что и не заметит этого», – подумал он. «Давай посмотрим, кто кого, – напевал он. – Еще немного потерпи, тут нет моей вины». Под конец он из большой картонной коробки добавил в миску горсть витаминных хлопьев.
– Не торопись, пусть все чуть-чуть настоится, – сказал он. – Потерпи, боль уляжется, а корму надо настояться, так уж полагается. – Он сел на табуретку. – С чего бы это я так запыхался?
Кошка громко замяукала. Она могла бы и замурлыкать. Когда ее кормила Руфь, она издавала звуки, напоминавшие одновременно ворчание и сопение. После смерти Руфи она больше не мурлыкала, а когда он клал ее, заспанную, к себе на живот, только слегка хрипела, давая таким странным образом понять, что ей хорошо. Раньше, когда Руфь и Зуттер только начинали жить вместе, кошка могла даже прыгнуть ему на голову. Куснуть его ей не удавалось, кусала она его только за запястье, которое она трепала и царапала, совсем не втягивая коготки. Прошло время, и на голове Зуттера не осталось волос, с которыми кошка могла бы поиграть. Кому охота грызть гладкую кожу! И колени у него скрипели, как ржавые петли.
Своих детей у Руфи и Зуттера не было.
– Ну вот, – сказал Зуттер, ставя миску перед кошкой, которая оттолкнула его руку. Она затрясла головой: это крошки витаминных хлопьев попали ей в нос. Хлопья были уже не очень свежие. Но кошке нужно было добраться сквозь груду этих хлопьев к рагу. Тебе надо бы затолкать хлопья под рагу. Совсем не обязательно, Зуттер, чтобы крошки лезли ей в нос. Мерзкие поступки совершаются с воспитательной целью, которая доставляет удовольствие воспитателю, хотя он и сожалеет о содеянном.
Прижавшись от напряжения к полу, кошка хватала зубами свое рагу и старательно жевала одной стороной рта, то вытягивая, то опуская голову. У нее отсутствовал один клык.
– Да, кошка, – сказал Зуттер, – я наставляю тебя, хотя и знаю, что ты неисправима. За что я тебя и люблю – беспричинно, тут нет никаких сомнений. Вопрос лишь в том, доверяю ли я своей любви? Люблю ли я свою любовь? Любезен ли я со своей любовью? Нам, нормальным преступникам, это вроде бы и ни к чему. Послание к Коринфянам, 13. Кто любви не имеет, тот… как там дальше? Вроде медь звенящая и кимвал звучащий. Почему бы меди не звенеть, а кимвалу не звучать? Разве способны они на что-нибудь иное? А любовь на что способна? Она не усердствует, не раздражается, не мыслит зла, она все переносит, на все надеется, все терпит. Всего этого нет и в помине, Фриц, ни у тебя, ни у меня. Ты усердствуешь, ты озлобляешься, ты вовсе не способен к долготерпению и надеешься, что Бог смилостивится. Но он не смилостивится. Я скажу тебе, на что способна любовь: обманывать себя и других и все еще верить, что она делает это из любви.
Руфь никогда не называла тебя по-иному, просто кошка. Даже когда ты довольно недвусмысленно, в два года, повела себя как кот. Для Руфи ты очень долго оставалась ребенком. И вдруг захотела стать ее мужем. По крайней мере, мужем ее руки. Когда ты взбиралась не нее и испускала свою слизь. Вся квартира провоняла ею. Ты пометила ею всю мебель. Наш первый и последний набор мягкой мебели ты вконец исцарапала, Руфь доводила тебя до неистовства.
После этого тебя кастрировали, в цветущем возрасте. Руфь отнесла тебя к ветеринару. Тебе оставалось только зализать рану. Твоя боль прошла. А боль Руфи?
Год спустя у нее обнаружили рак, «совершенно случайно», как выразился врач, этим он хотел сказать: обнаружили вовремя. Меня обмануть было нетрудно, но Руфь не обманывалась на этот счет ни одной минуты. Обманчивой была только жизнерадостность, с какой Руфь, казалось, восприняла свою болезнь. Может, так она выражала свое тихое облегчение, что с болезнью уже ничего нельзя было поделать?
Кошка посмотрела на Зуттера. Миска все еще оставалась наполовину полной.
– Пожалуйста, ешь, – сказал он. – Не умирай, кошка.
Вдруг она вздрогнула, тряхнула головой и отвернулась от миски, словно та вызывала в ней отвращение. Задрав хвост, она, будто спасаясь от чего-то, бросилась вверх по лестнице, к урне с прахом Руфи. Вид хвоста ничем не напоминал «повествовательную позу». Зуттер остался сидеть на кухонной табуретке.
Потом он встал, чтобы сварить себе кофе. Хочешь не хочешь, а надо. Собственно, ему совсем не хотелось завтракать, но он знал свои обязанности. Поступать как ты, кошка, мне не к лицу.
Однажды он заснул, дожидаясь в «кресле сказок» действия кофе. А когда проснулся, весь в слезах, то испуганно обнаружил, что прошел целый час. Но во сне он слышал голос Руфи.
– Вы здешний житель? – спросила она.
– А вы кто?
– Великий князь из России, – ответила она. – Раньше я был великий, в прежние времена. А сейчас я хочу вложить свои деньги.
– И что собираетесь приобрести?
– Дом.
– И сколько хотите потратить?
– Пятнадцать миллионов. Недавно я выгодно продал сто пятьдесят душ.
– Так много душа не стоит.
– В России стоит. В России душа почти бесценна.
– Значит, пятнадцать миллионов, – сказал он. – Рублей?
– Разумеется, долларов.
– И на них вы хотите приобрести дом? Но иностранцам в Швейцарии дома не продают.
– Вы будете моим подставным лицом, – сказала она.
– Вашим подставным лицом? А что я от этого буду иметь?
– Вы сделаете это из любви.
– Разве что так, – согласился он. – Какой дом вы хотели бы иметь?
– Дом с привидениями, у меня уже есть несколько таких. Один в Бистрице, Dracula’s Tooth [8]8
Зуб Дракулы (англ.).
[Закрыть]. Другой в Санкт-Петербурге, Rasputin’s Body [9]9
Труп Распутина (англ.).
[Закрыть]. И еще один – All Souls Dungeon [10]10
Темница всех душ (англ.).
[Закрыть]– в Ясной Поляне.
– Почему все ваши дома называются по-английски? – спросил он.
– Английский повсюду, – ответила она. – Но русский будет всегда.
– Россия побеждена, Россия повержена в прах.
– От этого она только крепнет, – сказала Руфь. – Чем униженнее, тем сильнее. Поверхностный рынок меня не интересует. Я пойду на рынок глубинный.
– В таком случае лучше всего подойдет пещера, – сказал Зуттер.
– Дорогое подставное лицо, в пещерах холодно. А я люблю тепло.
– Великий князь, – сказал он, – у вас слишком много денег. Слишком много для одного дома.
– Верно, – согласилась она. – Тогда мы сможем купить целую цепь домов. Как мы ее назовем? По-английски, пожалуйста.
– Haunted Houses Incorporated [11]11
Корпорация домов с привидениями (англ.).
[Закрыть].
– Это звучит как Romantic Hotels [12]12
Романтические гостиницы (англ.).
[Закрыть]. А должно звучать проще.
– Ghost Enterprises, Ghoulish Delights [13]13
Смелые приключения с привидениями, жуткие наслаждения (англ.).
[Закрыть], – сказал он.
– Уже лучше, но звук «h» следует произносить четче. И что, подставное лицо, дадут мне эти дома?
– Душу, – сказал Зуттер, – чистую душу.
– Но что такое душа без комфорта. Не забывайте, души должны чувствовать себя как дома.
– А как вы устроили все в Трансильвании?
– А, вампиры. С ними легко совладать. Dracula’s Tooth всего лишь бордель – и только. В Швейцарии мне хочется иметь что-нибудь более утонченное. Что-нибудь приличное.
– Знать бы, что Ваше сиятельство разумеют под приличием.
– Убийство. Везде одно и то же, друг мой. Люди хотят убивать, но так, чтобы не причинять себе боли.
– И жертвам тоже? – спросил он.
– Этим можно! Да так, чтоб корчились. Но я – я не испугаюсь, если будет столько, что мало не покажется.
Такие разговоры они вели в общественных местах, в ресторанах, залах ожидания, очередях в кассу. Тогда Руфь еще жила у себя дома. Кто вы, спрашивала Руфь, и ему надо было назвать себя – охотником за скальпами или морильщиком тараканов, продавцом душ или работорговцем, жуком-дровосеком или смерчем, тогда она начинала выспрашивать его о той ужасной, богопротивной жизни, которую он ведет. Все было позволено, нельзя было только смеяться; при этом они разговаривали вполголоса и как бы между прочим, так что стоявшим рядом приходилось напрягать слух, чтобы в конце концов убедиться, что перед ними шутники. На Руфь и Зуттера смотрели, как на появившиеся среди бела дня привидения, иногда кто-нибудь хватался за голову, так как качать ею был уже не в состоянии, и, выругавшись вполголоса, уходил прочь.
– Великий князь, – говорил Зуттер, – похоже, у вас убийственные вкусы.
– Вкусы у меня плохие, но честные, и когда-нибудь я хотела бы знать.
– Что? – спрашивал он.
– Да, что, в этом все дело. Моей душе не нужно никакого дома, не говоря уже о целой цепи.
– Я хотел бы удержать вас, – говорил он, – и без всяких там цепей.
– Я не убила бы ни одно дитя человеческое, оно и так умрет. Что мне эти пятнадцать миллионов? Моих душ больше нет. Немножко плоти, вот все, что у меня осталось. Ее уже почти не видно, но за нее я хотела бы кое-что себе купить. Слишком много я не запрошу.
Однажды какой-то пожилой господин запротестовал:
– Такими вещами не шутят!
– Какими такими? – спросила Руфь.
– Такими!
– Позвольте, – возразила, не повышая голоса, Руфь, – но именно такие вещи и происходят на свете.
Игрой «Кто вы?» они увлеклись, когда Руфь уже почувствовала себя плохо. А началось все иначе. Зуттер пригласил Руфь, тогда еще госпожу Ронер, в столовку своей газеты. Речь шла о ее репортаже из Индии, и он боялся, что недостаточно решительно выполнил свое поручение – отказать ей, так как заметил в ней веселость, показавшуюся ему неуместной.
Когда они сели за столик, Руфь, сощурив глаза, принялась изучать меню.
– У вас просто убийственное меню, – сказала она и показала пальцем на блюдо «свиная отбивная». – «Отбивная». Возьмете ли вы на себя грех съесть свинину, отбитую у свиньи?
– Тогда возьмите лучше что-нибудь диетическое, – он ткнул пальцем в раздел для вегетарианцев.
Она не отдернула своей руки, когда он нечаянно коснулся ее, и в ее красивых, ставших вдруг серьезными глазах он увидел, что чем-то угодил ей, хотя и не знал, чем. В эту минуту Руфь по-настоящему обратила на Зуттера внимание и приветствовала в нем товарища по играм, не без некоторого испуга. Ибо с этого момента они уже были помолвлены.
Позже:
– Слушай, ты сводишь меня с ума.
– Кто ты?
– Иван Грозный.
– Вот видишь. Безумие тут вполне к месту.
Или:
– Ты мое покрывало, сурок.
– Кто ты?
– Самка сурка.
– И что ты все шепчешь?
– Зимняя спячка, зимняя спячка. Ты должен хорошо укрывать меня этой зимой.
– И что потом?
– Потом будет весна. Иначе я тут же умру.
Еще позже:
Я Изабелла Безумная. Пожалуйста, возьми мое тело. Он больше не хочет меня знать.
21
Зуттер расследует дело Зуттера: только чтобы заняться чем-нибудь, так сказать, отвлекающая терапия или предосторожность, профилактика?
Если и профилактика, Зуттер, то касающаяся тебя одного. На общественный интерес рассчитывать нечего. Случившееся с тобой – твое личное дело, окажи услугу самому себе. Ты должен расследовать возникшее у тебя подозрение, от этого зависит твоя жизнь, ведь тот, кто стрелял, вполне может попробовать еще раз, если ты сделаешь неверный шаг. Но чтобы знать, какой шаг преступник сочтет неверным, нужен его образ, и тут кошка кусает себя за собственный хвост – занятие, свойственное котятам.
В деле самопознания, Зуттер, ты никогда не был силен, вопреки «сократовской иронии», которой наделил тебя главный редактор, когда своими похвалами напоминал, что тебе пора уходить. Твоя сила в наблюдении за другими, тут твоя фантазия разыгрывается как следует. Но почему так получается, Руфь, что в собственном деле я дурак дураком, зато дела других вижу очень живо, особенно дела тех, кто преступает закон и попирает право? Или, говоря о «фантазии», ты хотела сказать, что я выдаю лишь свои собственные тайные ипостаси? И они только потому даются мне так легко, что я нуждаюсь в алиби больше, чем те, кто меня преследует? И я знаю, что делаю, когда требую снисхождения к совершившим правонарушение? Или, напротив, я потому не стараюсь разобраться во всем как можно дотошнее, чтобы и далее заниматься своим делом – симуляцией, называемой гуманностью? Что невиновность, которую я отыскиваю у несчастных грешников, только туалетная вода, в которой я смываю грех с собственных рук?
Перечитай-ка еще раз самого себя, Зуттер, со строгостью, которой у тебя не находится для твоих друзей и подруг, неудачников. Рядом нет больше Руфи, чтобы поддержать твое бережное отношение к людям. Не прячься за спину покойной жены, ради нее тебе уже ничего не надо делать. Перечитай себя так, Зуттер, словно речь идет о твоей собственной жизни, ибо так оно и есть, речь – со стрельбой или без нее – именно о ней.
Апрель 1992 года.
Перед судом стоит молодая женщина, которая отказывается отвечать на вопросы. Она топором убила своего мужа, сильным ударом обуха по затылку. Смерть, по заключению судебных медиков, наступила мгновенно.
После этого она перетащила тело, на котором почти не было крови, к супружеской кровати, уложила мужа на постель, закрыла ему глаза и сложила на груди руки, положив под них огненно-красную лилию, которую он принес ей утром, в день своей смерти, после проведенной частью под открытым небом, частью в своем джипе ночи. Она сняла с покойника ботинки и аккуратно поставила их рядом с кроватью. Потом прикрыла его до пояса одеялом, зажгла свечу на ночном столике, туда же положила топор и позвонила в полицию, которую дождалась, сидя на стуле возле своей жертвы; рядом стоял чемоданчик, в который она уложила самое необходимое на время тюремного заключения.
Их восьмилетняя дочь была на своей первой школьной экскурсии, длившейся целый день. Ялука X. попросила арестовавших ее полицейских передать своей знакомой Л. Б., чтобы та встретила на вокзале возвращающуюся с экскурсии девочку и на время приютила ее у себя. Соответствующее письмо было уже заготовлено. Поэтому прокурор сделал вывод, что убийство было преднамеренным. Письмо было адресовано жене человека, с которым Ялука X. состояла в любовной связи. С момента ареста она, словно военнопленный на допросе, произнесла лишь несколько неизбежных в таких случаях слов. А по поводу убийства сказала всего одну фразу: «Я должна была это сделать».








