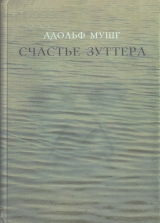
Текст книги "Счастье Зуттера"
Автор книги: Адольф Мушг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
– Лео тебя обследует, у нее для тебя поручение. Будь умницей. И не надо быть таким серьезным! – засмеялась она и легонько ткнула его между ног, туда, где уже безвольно висело его мужское достоинство. – Я вернусь, и мы с тобой сделаем ребенка.
Она притянула его упирающуюся голову к себе и прошептала на ухо, в котором шипело и пощелкивало ее дыхание:
– Я хочу от тебя ребенка, ты еще молодой мужчина. Но, – отодвинулась она от него, – тебе придется закрыть коровник.
– Коровник, – озадаченно повторил он, слушая, как замирают в коридоре ее легкие шаги.
42
Когда Зуттер проснулся, комната плавала в сером полумраке. Болела и никак не хотела проясняться голова, но он все же понял: мгла за окнами никак не может быть вечерними сумерками. Значит, уже светает.
«О алая заря! Пора рассвета!» Но во сне он слышал совсем другой стих. Он остался у него в памяти: «Плывем мы в лодке, остров огибая». Не стерся и увиденный во сне ландшафт. Но стоявшая перед сомкнутыми веками картина утратила яркость и глубину, и тут же стала меняться фактура образа. Как и в самом начале сна, возникли горы с отливающими металлом кронами деревьев, похожих то ли на буки, то ли на липы, правда лишенные стволов; колеблемые порывами ветра, они вздымали свои кроны из черной воды в ясное, как днем, звездное небо. Потом кроны расплылись и стали походить на высушенные листья растений, Зуттер видел такие на щитах, рекламирующих табачные изделия. При этом он знал, что это листья из гербария, и он рассматривает их через лупу, плотно прижимая ее к листьям. Вот показались и полоски бумаги, скреплявшие листья, и Зуттер обнаружил, что у полосок зазубрины только с одной стороны. Это были краешки почтовых марок, его отец отделял их, чтобы использовать в качестве клеящего материала. Зуттер вспомнил, что недавно видел такие полоски и в коллекции старого Кинаста. Он хранил их в ломких на вид целлофановых пакетиках, в альбоме «Вся Швейцария».
Вдруг пожелтевшие листья стали превращаться в гербарий, который Зуттер завел себе в детстве. Засушенные растения были с этикетками, окаймленными синей полосой, точно такие мама наклеивала на банки со сваренным ею джемом. Во сне надписи были выполнены готическим шрифтом, но так сильно выцвели, что Зуттер ничего не мог разобрать. И все же он знал, что это были листья сассафраса. Зуттеру не доводилось бывать в Канаде, но он не сомневался: эти спрессованные дольчатые листья с толстыми прожилками могли принадлежать только канадскому сассафрасу.
Потом контуры их стали расплываться, картина растаяла, превратилась в бесформенное светлое пятно, напомнившее Зуттеру о лекциях его детства, сопровождавшихся показом диапозитивов. Он непроизвольно вздохнул и открыл глаза.
«Плывем мы, полукружьем огибая». Книга была у него с собой, он мог найти это место.
Он сел на кровати, все еще одетый, даже ботинки не снял, когда ложился. Часы на руке показывали половину шестого. Комната: букет белых роз, в тусклом утреннем свете сиявший, казалось, сам по себе, на столе свечи. Внизу у окна – коричневый кожаный чемодан, к нему прислонен белый полиэтиленовый пакет; на обвисшей пленке вырисовывались края ящичка.
Когда Зуттер вставал, под ним что-то зашуршало. Это было «поручение», оставленное ему Ялукой.
Он прочитал письмо, прочитал еще раз и огляделся в поисках пепельницы. В старом «Баццелле» они всегда были под рукой, несмотря на опасность пожара. Новые жильцы не курили, они учились рассказывать истории.
Он отнес письмо в ванную, сложил листки в биде и стал жечь, один за другим. Пламя поднялось выше, чем ему хотелось бы. Он смотрел, как чернели и съеживались, превращаясь в ничто, строчки. Когда он подложил в огонь конверт, раздался щелчок, как при выстреле: это треснуло историческое биде с размашисто выписанным именем фабриканта из Шеффилда. Но огонь не вышел за пределы посудины, и он довел уничтожение написанного до конца, пока не погас последний синеватый язычок пламени.
Зуттер смотрел на черный пепел, на фарфор со следами копоти, на трещину от края до края, но сосуд не развалился, поэтому обеими руками он выгреб из него пепел в унитаз, спустил воду, вымыл под краном руки и насухо вытер стенки биде полотенцем.
Читай дальше своего Гевару.
Он подошел к чемодану, открыл его и достал книгу. На форзаце неровным детским почерком было написано «Руфь Ронер»; от этого почерка Руфь так и не избавилась до конца жизни. Подписывая книгу, она еще придавала значение каждой букве. Но позже ее почерк, оставаясь прямым, все ускорял свой бег, однако благодаря многочисленным непослушным черточкам он никогда не производил впечатления беглости. Уже в годы учебы она не имела привычки писать свое имя иначе, чем имена всех остальных вещей, к примеру, тщательнее или со всякими там завитушками.
Зуттер вспомнил, что Руфь называла автора этой книги мрачным волшебником, слишком близко подобравшимся к ее принцу Лорису в шортах, но не сумевшим его заколдовать. Скорее, от этой встречи окаменел сам волшебник. Зная о страсти Руфи к камням, можно было догадаться и о ее неравнодушии к окаменелому. Она называла его звенящей мраморной глыбой, Люцифером на глиняных ногах. В томике Руфи, украшенном выписанными девической рукой буквами, Зуттер наткнулся на мраморные прожилки, на утаенные образцы, по которым шла его жизнь. «Холм, где мы бродим, тенью уж накрыло, / А тот, другой, еще светло алеет. / И над его лугами, как на крыльях, / Луна пятном прозрачно-белым реет».
«Раньше самую лучшую бумагу делали из тряпок, – подумал Зуттер, – и я спрашивал себя, откуда бумажные фабрики берут столько тряпья?» Бумажные фабрики, это словосочетание в свое время тоже пришло откуда-то издалека, и если человек перестает ощущать эту даль, ему пора исчезнуть. «Два мотылька, игрою мрак поправ, / Не устают друг друга догонять. / Готовит роща из цветов и трав / Благоуханье – боль мою унять». Ах, Руфь, Руфь, подумал Зуттер, и на глаза ему навернулись слезы. «Вот только б не рассталась ты со мной / Пока не разгорится новый день / И роща, примиряя нас с тобой, / Вновь не предложит благостную тень. / Когда трава и след окаменеют / И ели склонят кроны, ты пойми…» Зуттер не мог читать дальше, ему казалось, он понял. «С тобой мы были счастливы, пока / За роковую грань не заглянули». Да, так оно все и было, всхлипнул Зуттер, перевернул несколько страниц и наконец нашел то, что искал:
Уже давно в цветах увядших осы
Не рыщут, дань с тычинок собирая,
Плывем мы, полукружьем огибая
Багрянцем окропленные откосы.
Здесь, наверху, о багрянце еще нет и речи. Но «полукружьем огибая» – просто подарок. А теперь за работу.
Зуттер достал из несессера, который Руфь называла «культурной сумкой», зубную щетку, вошел в ванную и тщательно почистил зубы.
Зубную щетку он оставил в стакане. Закрыв чемодан на замок, он придвинул его к стене. Книгу в полосатом переплете положил на кровать Руфи. Потом надел куртку и похлопал себя по карманам. Ключ от лодки был на месте. Прежде чем положить часы на ночной столик, он еще раз взглянул на циферблат. Без двадцати семь. В доме был слышен шум. Рассказчики уже встали, но в номере федерального советника еще было тихо. Зуттер взял за ручки и поднял полиэтиленовую сумку, ему показалось, что она стала легче, чем вчера.
Без нее комната выглядела веселее.
43
Кто в теперешней Академии, прежнем пансионате Баццелль, между завтраком и началом заседания (в половине восьмого) выглядывал в окно, чтобы узнать, какая ожидается погода, и предпочтительно бросал взгляд в сторону Малойи, где нередко над краем долины имели обыкновение накапливаться зловещие тучи; кто затем критически оценивал освещенность и видимость на вершине Марньи – с невозмутимостью наблюдателя, которому предстоит остаться в четырех стенах бывшей гостиницы, а не взбираться на скалы; кто, стало быть, позевывая, ждал у окна готовности желудка к перевариванию и позволял себе тайком выкурить сигарету, чтобы через пару минут рассказать свою историю; кто даже при недостатке времени не лишал себя удовольствия полюбоваться местностью, заслуженно воспетой Ницше, тот в четверть восьмого мог увидеть удалявшегося по полю одинокого человека.
И если бы позже кто-то спросил не только о времени, но и о том, как этот человек выглядел и что нес, – полиция, как и семинар в Академии, интересуется подробностями, – то он узнал бы, что речь идет о пожилом человеке в желтом вельветовом костюме и желтых туристских ботинках, оказавшихся потом всего лишь кроссовками, в кепке с козырьком, уже изрядно поношенной, и с рюкзаком оливково-зеленого (или защитного) цвета.
Молодая сотрудница Академии утверждала, что увидела его, еще когда ехала в машине, и что он нес рюкзак не на плечах, а спереди, как парашют. Судя по всему, он готовился к восхождению средней сложности, но, тут же подумала она, в одиночку ему его не совершить. Обувь, на ее взгляд, тоже никуда не годилась. Кроме того, ее насторожило, что свой провиант или еще что-то он нес в неудобной пластмассовой сумке. Молодая, спортивного вида дама все это «взяла себе на заметку», хотя этого от нее никто не требовал; ее способность регистрировать в уме увиденное зачтется ей позже. Слегка неуверенную походку «старика» она приписала неравномерному распределению груза.
Чтобы обратить внимание на другие странности этого человека, например на заметную одышку или на возможную близорукость, нужно было столкнуться с ним «в пути» или «вблизи того места», чем и воспользовались другие свидетели, в этот ранний час совершавшие пробежку. По их общему мнению, походка мужчины была и впрямь неуверенной, но шел он в хорошем темпе и особенно пристально за ним никто не наблюдал. Гонг позвал свидетелей заняться тренировкой своего собственного дыхания или упражнениями в медитации, благодаря которым можно было даже indoors [61]61
Не выходя на улицу (англ.).
[Закрыть]«снова ощутить себя».
Зуттер дошел до защищенной деревьями площадки для отдыха рядом с лодочной станцией, у причала которой швартовался «самый высокий прогулочный катер в Европе»; правда, в это время он еще не курсировал. Несколько лет тому назад Руфь и Зуттер предприняли на нем короткую прогулку, в такой же облачный день, как этот. Время от времени они поднимались на палубу, чтобы поговорить со шкипером, и при этом промерзли до костей. Зуттер расспрашивал неразговорчивого шкипера о планах реконструкции «Альпийской розы», давно отслужившей свой срок гостиницы, разорившейся и уже почти выпотрошенной; она уже несколько лет пустовала у входа на Плаун да Лей. Теперь из нее хотят сделать образец рафинированного гостиничного бизнеса, здесь станут продавать квартиры в долевую собственность тем, кто больше заплатит и кто будет приезжать сюда на определенное время. Зуттер дал волю своей не знающей удержу стариковской фантазии и попытался осторожно настроить на соответствующий лад и Руфь, так как без ее унаследованного состояния об этом и думать было нечего. Однако Руфь вышла на палубу одна и, прислонившись к перилам, подставила лицо предзимнему ветру. Тогда о ее болезни еще не было речи, но она могла простудиться; чтобы предотвратить это, Зуттер молча подошел к ней и набросил ей на плечи свою штормовку.
Теперь он отвязал выкрашенную в голубой цвет лодку, подтянул ее к песчаной отмели, вошел в нее, положил сумку и снял рюкзак: надо было отомкнуть замки на цепях, которыми шкипер закрепил весла. Одним из весел Зуттер оттолкнулся от берега. Когда лодка начала покачиваться на волнах, он вложил оба весла в уключины, взялся за рукояти и начал – первое время неловко – грести. Скоро лодка вышла на открытую воду, он надел ремни и с растущей уверенностью почувствовал, как гребок за гребком сопротивляется веслам вода; греб он сильно, но без напряжения, поднимая все меньше шума.
Он сидел на веслах спиной к направлению движения, но одного взгляда через плечо было достаточно, чтобы увидеть: водная гладь впереди была пуста. Холодная и прозрачная, как стекло, она расстилалась под мягким светом, источник которого, закрытый неподвижными облаками, угадывался над массивом Корвача. Чем дальше отплывал Зуттер от врезающегося в озеро полуострова, тем ощутимее становились короткие, тупые удары волн о борт лодки, тем сильнее чувствовал он разгоряченным от непривычной работы, вспотевшим лбом порывы ветра. Место, где собирались тучи, было у него за спиной, но над краями гор, обрамлявших долину с северо-востока, пробивался солнечный свет, слабый, но ясный и призрачный, словно во сне. Размеченные трассами валунов склоны с левой стороны долины и смутно обозначенные вершины за ними улавливали утренний свет и начинали менять свою темно-фиолетовую окраску, там и сям прочерченную прожилками снега, на нежную лиловую, плавно переходившую в теплый желтовато-коричневый цвет альпийских лугов и во все более сочную зелень хвойных лесов. Полуостров был освещен только местами, но над равниной уже мелькали, словно раздуваемые ветром и тут же снова исчезавшие, блуждающие солнечные зайчики.
Зуттер вряд ли мог точно назвать место, куда он плыл, но был уверен, что оно само откроется ему. В лодке его не покидало ощущение расстилавшейся под ним глубины. Он предполагал, что она будет достаточной вблизи резко вздымающейся вверх скалистой гряды с левой стороны, на самой ее вершине стоял «Вальдхаус», окна которого игриво поблескивали в свете начинающегося дня. Он надеялся, что потеряет его из виду, если возьмет круче влево, к темнеющему уступу.
В очередной раз бросив взгляд через плечо, он обнаружил еще одну помеху. От Изолы в открытое озеро двигался красно-желтый парус виндсёрфера. Он летел, совершая неожиданные повороты, потом маленький треугольник на мгновение исчез, словно проглоченный волнами, чтобы вынырнуть снова, как показалось Зуттеру, уже ближе к нему. Он отчетливо видел тоненькую, похожую на насекомое фигурку у шеста, которая, широко расставив ноги и низко наклонясь к воде, тянула на себя вырывающийся парус, стараясь придать ему новое направление. Становилось все очевиднее, что целью была лодка Зуттера. Управлявший парусом человек пользовался посвежевшим ветром, чтобы быстрее настичь лодку.
Не желая этой встречи, Зуттер круче принял влево в поисках укрытия за маленькими островками, что часто попадались в дельте перед Изолой. Но так как гряда леса за ними отступала, то, надо думать, и глубина озера становилась все меньше. Волнуемая ветром водная масса стала походить на светлый купорос; черные полосы в ней говорили о покрытом растительностью дне и предупреждали о песчаных отмелях. Избавляться от своего груза здесь Зуттер не хотел. Но более глубокое место грозило встречей с существом из другого мира, которое без устали выписывало свои пируэты на поверхности озера. Надо было выйти из гостиницы как можно раньше, чтобы в этот единственный раз оказаться на озере одному. Теперь же у Зуттера было такое чувство, что его принуждают, – к осторожности или, что еще хуже, к спешке.
Он опустил весла и перевел дыхание. На вполне приемлемом расстоянии слышался шум моторов. Откуда-то появился вертолет: должно быть, срочно доставлял в клинику больного и перевозил валежник. Над Малойей неподвижным языком повисла туча, лишь ее самый верхний край трепал и завивал ветер, и на этих завитках мелькали слабые блики солнечного света.
Тем временем виндсёрфер исчез из вида. Зуттер бросил весла и, балансируя, прошел к корме. Встав на колени, он развязал рюкзак и вытащил из него тяжелый джутовый мешок с парой десятков камней. Он сунул руку в мешок, словно собирался тянуть жребий, и его рука нащупала три легких шара из хвойных иголок; он осторожно провел пальцами по круглой, чуть колючей поверхности и только потом один за другим вынул шары и положил их на свободное место между шпангоутами, где плескалась просочившаяся в лодку вода; отсюда они никуда не укатятся. Потом снова сунул руку в мешок, наткнулся на камень, ощупал его и вытянул к свету. Ребристый, величиной в половину кулака, он поблескивал своими темно-зелеными, почти черными гранями, словно кусочек застывшего потока. На вес он был довольно тяжел и казался обработанным, но поверхности были на ощупь гладкими, как шелк, точно их плавили в огне. Наверно, какой-нибудь первобытный охотник нашел его точно таким же и сдирал им кожу с животных или заострял стрелы. Зуттер опустил камень обратно в мешок. Оставшиеся в рюкзаке камни все еще изрядно утяжеляли его.
Лодка покачивалась на волнах, и Зуттер почувствовал, что незаметно подкравшееся головокружение становится все сильнее; надо было кончать задуманное. Он открыл мятую пластиковую сумку и еще раз оглядел блестевший в глубине светлый ящичек. «Раньше они заказывали свинцовые гробы, Руфь, теперь мы хороним со скидкой в шестьдесят процентов». Он закрутил сумку так, что стали неразборчивы надписи на ней и она плотно облегала деревянный ящичек; затем зажал зубами крепко скрученную горловину, затянул ее – дважды и трижды – заранее приготовленным шнуром из кокосового волокна и только потом перевел дыхание и завязал узлом; как только он это сделал, верх сумки раскрылся, словно искусственный цветок. Он с трудом поднял сверток – видимо из-за дрожи в руках – и положил его в джутовый мешок; сверток плотно лег на основание из камней. Сверху осталось еще достаточно места для трех сильских шаров, он положил их на ящичек и убедился, что они не пострадают, когда он закроет мешок.
Из наружного кармана рюкзака он вынул золотые карманные часы на длинной цепочке, когда-то их носил дедушка Руфи. Они давно уже не ходили, и Руфь поставила стрелки на время своего рождения: 11 часов 17 минут. Утра или вечера? Леонора составила Руфи гороскоп. Смерть в нем не предусматривалась. Зуттер постоянно путал дату рождения Руфи, но она только смеялась: «Ты не помнишь и своего собственного». Но дедушкины часы должны указывать минуту, на это они еще годились. «Теперь, Зуттер, я родилась навсегда».
Зуттер отделил часы от цепочки и положил их между сильскими шарами. Они взвесил на руке тяжелую серебряную цепочку. «Сейчас я завяжу мешок, Руфь, завяжу узлом, который время не скоро развяжет».
Зуттер с усилием поднял мешок и перевалил его через край лодки; груз тут же потянул его за собой, но едва он коснулся поверхности воды, как тяга ослабла настолько, что Зуттер, пошатываясь из стороны в сторону, мог удерживать его в руках. «Руфь, ты первая, ты последняя. Не возвращайся, побереги потусторонние силы. Мы сделаем по-другому. Тебе еще предстоит кое-что узнать».
Зуттер перестал судорожно напрягать ноги, они покачивались в такт волнам и почти без его участия принялись слегка пританцовывать, не ощущая тяжести тела. Перед ним с неописуемой ясностью расстилалась водная гладь, поднимаясь на фоне Малойи так высоко к небу, что, казалось, она сливалась с ним. Стояла полнейшая тишина. За крутыми уступами Марньи ландшафт как будто обрывался, вдали, из-за размытого горизонта, выглядывали только несколько словно плывущих вершин. Но и они, несмотря на холодный день, все еще несли на себе следы безоблачного юга, к которому они стремились, оставляя за собой залитое совершенно прозрачным светом высокое зеркало воды и прощаясь с ним.
Почти озорно перегнувшись через край лодки, Зуттер крепко держал мешок за цепочку, проверяя, не ослаб ли под тяжестью груза узел, распушившийся короной из джута. Он видел, как темнеет, набираясь влаги, и расширяется мешок, так как не все в нем хотело сразу погружаться на дно. «Ты всегда хорошо плавала, Руфь, лучше, чем я. В море, на озере или в бассейне – каждый раз ты без усилий уплывала от меня, пока я молотил руками по воде, точно дрова рубил. Погружайся легко, Руфь, но надежно».
Зуттер откинулся назад, держа мешок в воде; побелевшими пальцами он раскачивал его вдоль борта, словно пакетик чая, чтобы напиток получился крепче. Вперед, назад, груз в его руке получил нужное направление, и Зуттер отпустил его.
Он смотрел вслед мешку, который тонул без промедления, но и без спешки. Над ним сомкнулась неопределенность. Зуттер поднял рюкзак и просунул руки в лямки, не забыв предварительно закрыть все карманы. Потом сел на край кормы и повернулся так, чтобы ноги свисали к воде. Затягивая лямки на груди, он почувствовал ледяной холод воды, медленно проникавшей сквозь кроссовки и носки. Потом появились пузыри.
Зуттер удивился, этого он не ожидал. Однако все было более чем естественно. Целые гроздья пузырей поднимались на поверхность и лопались в воздухе с едва уловимым треском. Вот еще один, и еще, а следом вынырнул совсем маленький.
Легкая буря, идущая из глубины, казалось, утихла, но Зуттер все еще не падал. Он ждал, не спуская глаз с воды. И они появились, редкие, по отдельности, их можно было сосчитать. Вдруг всплыл целый венок пузырьков, скромный букет под занавес, он на несколько мгновений задержался на поверхности, прежде чем исчез; словно это был другой воздух, который кто-то задержал, чье-то дыхание.
– Так тому и быть, – были его последние слова.
44
Нужно испить чашу страданий до дна – вот что существенно. Уходить из жизни раньше времени некрасиво.
Выражение «смертию смерть поправ» тут и вовсе некстати. Кто так говорит, тот представления не имеет, что это такое. Остается приверженцем так называемой «борьбы». Когда речь заходит о смерти, выражения такого рода просто неуместны.
Бороться со смертью за свою жизнь – значит висеть на шнуре или на ниточке и, держась за них, пытаться выбраться, вытащить себя из пропасти. Если повезет, то история, которую ты называешь борьбой, продлится еще немного и ее можно будет рассказать; пока же об этом и говорить нечего. А если нет, если останешься висеть до тех пор, пока не лопнут шнуры и нитки, то можно продолжать словесную вязь. Перед тобой совсем другая проблема.
Слово «агония» можно использовать только в том случае, когда ты борешься не за свою жизнь, а за свою смерть. Ты уже сделал этот шаг, но тут вдруг появляется некто, желающий тебя удержать. Ты уже не ощущаешь холода, уже миновал самое мучительное и мерзкое состояние, называемое удушьем; но ты, вероятно, еще помнишь первый урок, полученный в так называемой школе жизни, например, в школе плавания, которой ты так боялся в детстве, или урок, усвоенный после прострела легкого. Самым же первым уроком было событие, которое не сохранилось в твоей памяти, – твое рождение. Будем, однако, надеяться, что всякая агония, перейдя некий рубеж, заканчивается спокойной смертью – такой, какая бывает, когда замерзают в снегу. Главное – испить чащу страданий до дна, почувствовать, что все некрасивое и неуместное перестает что-либо значить.
Но бороться, напрягая последние силы, за свою смерть – это по-настоящему больно, как скажет потом та, что пыталась тебя спасти. То, что осталось в тебе от жизни, целиком отдано расставанию с ней. И вдруг этот остаток ты должен употребить на то, чтобы не допустить к себе другую жизнь, закаленную спортом и решившую во что бы то ни стало спасти тебя. Ведь могло случиться, что тебе пришлось бы вцепиться в такую мерзкую штуку, как неопрен – разве нынешняя молодежь этого не знает? Что до неопрена (чтобы уже раз и навсегда избавить себя от разборок с производителем этой ткани) – это почти то же самое, как если бы ты запустил руку в букет белых роз, уцепился за мокрые от слез волосы или за по-христиански протянутую руку с подаянием. Ужасна борьба сама по себе, если ее приходится вести против жизни за собственную смерть – и, значит, против самых страшных недоразумений, сопровождающих всякого рода присловия о жизни и смерти.
Добрая душа хочет только одного – помочь тебе, и ей невдомек, как ужасна эта ее помощь. Ладно бы она была просто убийственно ужасной! Так нет же, тебя удерживают на поверхности без всякого смысла. Но успокойся: ты доставил своей нетерпеливой спасительнице столько хлопот, что ей придется оглушить тебя, иначе ничего у нее не выйдет. Не тонуть же ей самой, чтобы спасти тебе жизнь, она должна привести тебя в беспомощное состояние, а это, благодарение Богу, лишь ускорит твой уход из жизни. Ты чувствуешь, как тебя оставляет сознание, и первыми отступают все эти речения – о «борьбе» уже и речи нет. Напряжение спадает, легкие перестают судорожно сжиматься, тебе уже не нужно ни с чем «расставаться», все покидает тебя сразу, и ты перестаешь существовать, переходишь в то, что отделилось от тебя, а твое тело впитывает воду, как губка.
Рассказать об этом можно бы и так:
Ты начинаешь видеть, и ты знаешь. Видя, ты знаешь, зная, ты чувствуешь, что попал в огромный поток, что твоя кожа, твое тело, твое бытие широко раскрылись перед ним, и ты стал частью этого потока. В состоянии, которое ты называл жизнью, тебе приходилось без устали плыть против течения, так, по крайней мере, гласит пословица. Ты боролся за что-то или против чего-то, то держась молодцом, то беспомощно барахтаясь. Ты перестал спрашивать, как ты очутился в этом мире, во всяком случае, спрашивать от своего имени, ибо тебя произвели на свет, не спрашивая твоего согласия. Слов «а вот и я» или подобных им ты не говорил. Ты запищал, когда тебя пошлепали по одному месту, чтобы ты зацепился за жизнь; с тех пор ты в ней и барахтаешься. Барахтаешься, подгребая, подбираясь к своему «я», направляясь к потоку, в котором, похоже, надо было устроить маленький водоворот, а еще лучше – большой. Поток, полагал ты, должен разбиться о тебя, только тогда ты сможешь обрести свое истинное «я». Ты испробовал, сперва наивно, затем осторожно, с растущей недоверчивостью, но всегда не слишком умно, все возможные формы сосуществования с другими; благодаря им, этим другим, можно было устроить еще больший водоворот. Тебе казалось, что в этой жизни ты уже не один, а в обществе других «борцов», плывущих в том же направлении – против течения. Так тебе казалось – вот именно, что казалось! Эта кажимость освещала тебе путь, который ты принимал за истинный. Тебя не покидало ощущение, что ты все время быстро движешься вперед. Но ты знавал и приступы страха, когда тебе чудилось, что ты стоишь на месте, и тогда ты впадал в панику. И тебя отбрасывало назад. Паника была вполне оправданной: чем больше барахтался ты в мире речений и слов, тем неизбежнее отбрасывало тебя назад, и ты – что было еще больнее – чувствовал, что тебя оттесняют на задний план. Ты боялся смерти, само собой, видя в ней свое окончательное поражение – ты ведь был борцом, тебя воспитали для борьбы.
Но едва ты прекращаешь борьбу, как смерть, которой ты так боялся, проникает во все поры твоего тела, во все перегревшиеся от напряжения пути и проходы, по которым совершался в тебе обмен веществ; тогда ты открываешься для иного мира. Тогда наконец все кончается, и в первую очередь слова и речения. И ты видишь и понимаешь то, что происходит.
Пока жил, ты не сделал ни одного шага вперед. Зато и назад не отступал. Вперед, назад – это такой же обман движения, как и обман зрения. В потоке жизни ты плавал всегда на одном и том же месте – на своем месте. И был тем, кем сделало тебя то, что мы на нашем языке называем «потоком».
Верно, что нечто двигалось тебе навстречу, ты называл это «временем». Не двигаясь с места, ты оказывал ему свое собственное сопротивление, сопротивление своего «я». Верно также и то, что этим ты кое-чего добился, но не продвинулся вперед и не отступил назад. Но ты подставлял потоку времени, который непрерывно накатывал на тебя, некую поверхность, которой он мог придавать определенную форму. И если твое сопротивление и подставляемая потоку поверхность были достаточно изобретательны и своенравны, то и процесс формирования шел интенсивнее. Из твоего всегда немного жалкого «я» поток мог тогда делать нечто художественно ценное или даже образцовое, коллективное творение силы и сопротивления, творение «я» и ничто, теперь и никогда. Ибо поток этот – своего рода вечно движущаяся мастерская, в которой то, что получает форму, с самого начала, с рождения каждое мгновение жизни проходит обработку, шлифуется, выдалбливается и приглаживается, размывается и одухотворяется, короче – образуется, творится. Совсем уже бесполезным созданный тобой водоворот не назовешь, даже если его вращение редко можно отличить от бессмыслицы, за которой ничего нет. Но дело не в этом. Ибо поток могуч, он включает в себя все сущее, и если в этом потоке что-то возникает и обретает форму, то только для того, чтобы тут же быть унесенным. Оформляющемуся «я» противостоит сильнейший – сильнее не бывает – поток сноса, смыва, который не разбирает, кто перед ним – живое существо, которое, подобно людям, утверждаетсвое «я», или нечто, подобно растениям и животным, этим «я» просто являющееся.
И все же, унося созданное, поток времени не отбрасывает и не разрушает, он в свою очередь создает новые формы, быть может, самые достойные. Только чисто отмытая потоком, выварившаяся в нем форма обнаруживает свою ценность, свою текстуру, свое драгоценное ядро, свою выдержавшую испытание и достойную испытания красоту. Только после этого она, если понадобится, и сама может ощутить свое значение. Достойны внимания даже кирпичи или банки из-под кока-колы, выбрасываемые волнами на морской берег: все, что когда-то было создано человеком, таит в себе изначальную загадку. Истинные художники творят, только отсекая лишнее. И от тебя, когда сопротивление твоего «я» станет слабее и своенравнее, поток времени отнимет бесконечно много, куда больше, чем то, что, по твоему разумению, в тебе могло быть. Однако же когда и тебя прибьет к берегу, ты, надо думать, тоже будешь удостоен внимания, которое с годами будет возрастать. Одно лишь должен ты видеть и знать: не прибьет тебя ни к какому берегу, ибо у этого потока нет берегов.
Так стоило ли труда творить, создавать себя? Стоило. Ибо со сложившейся изнутри формой поток мог сделать нечто такое, что выходит за пределы речений и слов, в том числе и за пределы слова «поток». Он и стал-то потоком именно потому, что его никогда не интересовали речения и слова, и меньше всего было ему дела до времени. Время касается только тебя; это существенно, хотя в нем ты становишься все меньше и меньше. Но наступает момент, когда приходит конец твоим дням и часам, приходит миг, когда ты устаешь барахтаться, сопротивляясь потоку времени, и поднятый тобой водоворот успокаивается. Не надо бояться, что тебя унесет в бездну. Потому что нет больше «я», способного бояться, и нет никакой бездны, но нет и твердой почвы, которая могла бы уйти из-под ног; нет даже той опоры, которую ты вроде бы оставил. И поток, о котором шла речь, есть не что иное, как текучая форма без начала и конца, источник всех форм, куда они возвращаются, когда достигают своей цели. Но нет: это сама цель надвигается на них; она – начало и исток, затягивающий их в свое таинственное молчание.








