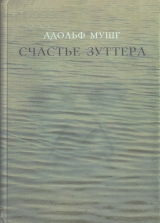
Текст книги "Счастье Зуттера"
Автор книги: Адольф Мушг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
– А что это за «Селера»? – спросил я.
– Не говори, что впервые об этом слышишь. Хуго, представляющий в своем лице Human Genome Project [17]17
Проект человеческого генома (англ.).
[Закрыть] , и «Селера», частное предприятие господина Вентера, пытаются, соревнуясь друг с другом, раскрыть секрет человеческой наследственности, но каждый действует независимо от другого. Хуго в одиночку трудится на благо человечества и результаты поставляет в Интернет, «Селера» же предпочитает гоняться за результатами, которые можно запатентовать. Через пару лет они оба хотят полностью раскрыть нашу наследственность, тогда в руках у них будут все средства, с помощью которых они смогут если не улучшить реально существующих людей, то хотя бы создать усовершенствованную, легко управляемую модель человека. Если тебе довелось хоть раз видеть бесконечные столбцы букв, выражающих геном, – а это сплошной дадаизм, – ты поймешь, что искусство уже не имеет никаких прав, любое искусство, Эзе, кроме одного-единственного: господа, творящие это, все еще хотят видеть свои портреты на стене… Ромео и Джульетта ушли в прошлое, их место занимают Хуго и «Селера», эта фантастическая пара гипервремени. История – такой же пройденный этап, как и любовь. С искусством покончено. Понимаешь? Эгоистический ген – вот новая Тора. Мириады цифр устраняют наше маленькое человечество, ликвидируют нашу историю. Нам досталась всего лишь роль третьего лишнего. Потом уже не будет ничего. Ничего, кроме детских игр праздной ностальгии, кроме уличного искусства для обывателей. Последняя рыночная ниша накануне глобального конца.
– А как поживает Ялука? – поинтересовался я.
– Ах, знаешь ли, любовь в мастерской – это ведь тоже искусство, – ответил он.
Зуттер поднял голову от своих заметок. Через сползшие на нос очки он не сразу разглядел свой маленький сад. В момент, когда взгляд собрал наконец отдельные детали в единый образ, в глаза Зуттеру бросился незнакомый предмет. То ли птица сидела в самой нижней развилине вишни, то ли это было осиное гнездо? А может, болезненный нарост на стволе? Или застрявший в развилке мяч? Зуттер не без труда поднялся с кресла и вышел во двор. Яркое солнце на несколько мгновений ослепило его. Неуверенным шагом он добрался до угла сада, тряхнул деревце, и в его раскрытую ладонь, словно засохший плод, скатился застрявший предмет. Это была игрушка, образовавшаяся естественным путем из слипшихся иголок лиственницы, «сильский шар», уже второй; тут он вспомнил, что и первый после выписки из больницы ни разу не попадался ему на глаза. Как он здесь оказался? Это был тот самый шар, рядом с которым Руфь на их последнюю совместную Пасху спрятала яйцо, единственное, которое она не стала красить; и так как вишня вся была облита белым цветом, он очень долго не мог его найти.
25
По-видимому, в июле у Фрица появились свободные вечера, и у него снова возникла потребность в откровенном разговоре с Зуттером. При этом субъективная потребность в таком разговоре сокращалась пропорционально росту объективной необходимости. Говоря без обиняков: речь шла о разводе и, стало быть, о деньгах. Моника осталась в Пирмазенсе со своим Фолькером (уже одно имя звучит кощунственно [18]18
Вероятно, из-за созвучия с völkisch – «народный» с привкусом шовинизма.
[Закрыть]), осталась, чтобы удержать на плаву семейную лодку с матерью-наркоманкой и двумя растерявшимися дочерьми, предоставив перегруженному работой Фолькеру лишь взирать на ее усилия, взирать беспомощно и благодарно. Кстати, он был вовсе не врачом, а всего лишь стоматологом – тоже типичная черта его характера. У Моники и в мыслях не было выходить замуж за зубного врача в Пирмазенсе. «Глупость с супружеством больше не повторится. Я жду от тебя только великодушного согласия на развод», – сказала она Фрицу. И при этом потребовала вернуть свои деньги.
Зуттер сначала легкомысленно решил, что у Моники в Пирмазенсе точно такая же трудная задача, какая была поставлена перед перевозчиком: переправить через реку кочан капусты, козу и волка таким образом, чтобы все остались целы. Но Фриц заставил друга взглянуть на проблему серьезно.
– Ты плохо знаешь эту женщину, – сказал он, – она идет по трупам. Но, – добавил он трагически торжествующим голосом, – в свое время мы решили объединить наши состояния. Пусть ее зубодер сам финансирует свое развивающееся предприятие. Они у меня узнают, что бывает, когда от святости брачных уз остается какое-то нелепое «партнерство на конкретный отрезок жизни». Язык сломаешь. Это же глумление над здравым смыслом. Они у меня схлопочут большие неприятности!
– Они, они, – сказал Зуттер. – Одна из этих «они» все еще твоя жена. Но с тех пор как ты стал трахать свою бухгалтершу, твой жизненный тонус явно повысился.
– Ты вульгарен, – сказал Фриц.
– Зато ты сплошное благородство. Я лишь сделал выводы из нашего последнего разговора.
– Я так не выражался.
– Еще бы. Но протокол требует ограничиваться существом дела. Своей самоотверженной службой эта дама еще раньше заслужила твою благосклонность, к воздержанию тебя вынуждали только священные узы брака. Теперь Моника подобной чуткости с твоей стороны уже не заслуживает. А ты всего лишь человек. Ну и позволил себе быть человеком.
– Друзья познаются в беде, – сказал Фриц.
– Кроме того, она… кстати, как ее зовут?
– Жанетт, – неохотно ответил Фриц.
– Кроме того, Жанетт ловко управляется не только с бухгалтерскими счетами. Она прирожденный менеджер, и теперь ничто не мешает ее таланту проявить себя в полной мере. Я выражусь неприлично, если скажу, что тебя можно поздравить с «хорошей советницей»?
– Нет, всего лишь съязвишь. Но тут ты абсолютно прав. Впервые за десять лет у нас дебет сошелся с кредитом. Теперь у нашего центра бездефицитный бюджет.
– Ну, тогда тебе недолго ждать благословения швейцарской церкви. Кстати, как Жанетт предпочитает произносить – «бугалтер» или «бухгалтер»?
– Бухгалтер, разумеется, – ответил Фриц.
– Само собой. Я слышал, точно так же произносит это слово и господин Кинаст, бывший прокурист «приносящей доход сберкассы». Муж той женщины, что держала на коленях мою голову, когда я подыхал, истекая кровью. Бухгалтер. Почти как «бюстгальтер». Но ничего похожего на «адюльтер» – не на тот слог падает ударение. Жанетт – то, что надо для твоего благочестивого дома. Уж она постарается, чтобы Моника не добралась до ваших денег.
– В этом ты можешь быть уверен. Не доберется даже с помощью адвоката из Пфальца. Закадычного дружка Хельмута Коля! Можешь себе представить такое после всего, что мы с нейпережили?
– Очень даже могу.
Они сидели рядом на задней террасе и наблюдали за ливнем, который хлынул таким шумным водопадом, что дух захватывало, во всяком случае приходилось повышать голос, что в разговоре о столь деликатных вещах было не совсем уместно. Возмущенная глумлением над собой природа репетировала всемирный потоп.
– А как обстояли дела у вас? – спросил Фриц. – У Руфи ведь были деньги.
– И довольно много, я думаю.
– Ты думаешь? – удивился Фриц. – А самих денег ты не видел?
– Не видел, – подтвердил Зуттер. – Мы жили, не объединяя наших состояний. На этом настояла Руфь. Доставшееся ей от тети наследство не должно было играть в нашей жизни никакой роли.
– Однако же сыграло. Теперь наследник – ты.
– Нет, я ничего не унаследовал. После смерти Руфи ее состоянием распоряжается адвокат, исполнитель ее завещания. Он выплачивает мне ежемесячную ренту, ровно столько, сколько я получал, работая в газете.
У Фрица на какое-то время отвисла челюсть.
– Ты получаешь рентуиз наследства своей жены, но само наследство тебе не принадлежит?
– Так мы с ней договорились, – пояснил Зуттер. – «Пока я жива, ты кормишь меня, – сказала Руфь. – Я буду кормить тебя, когда умру. Мне тетины деньги достались незаслуженно. А она их выстрадала. Ради них она терпела своего мужа». Из этих денег Руфь оплатила наш дом, вот и все. «Мой рак и так обходится мне слишком дорого, не хватало еще тратить на него деньги», – говорила она.
– А если заболеешь ты? – спросил Фриц.
– У меня обязательная страховка, а что сверх того, оплачивает адвокат. Например, за шутку с прострелом моего легкого ему пришлось выложить кругленькую сумму.
Устроившись на сухом краешке настила под шиферной крышей, кошка пристально вглядывалась в шевеление сочной зелени под ударами дождевых струй. Морщины на лице Фрица словно застыли.
– Ты хочешь сказать, когда у тебя появляются расходы, ты отсылаешь счет адвокату, и он оплачивает его из твоих же денег?
– Примерно так. Но это, как ты уже слышал, не моиденьги.
– Эмиль, – сказал Фриц, – но ведь ты же не под опекой?
– В финансовом отношении – под опекой, и это меня устраивает. Я не люблю иметь дело с деньгами.
– И кто же этот твой… этот ваш адвокат?
– Доктор Шпитцер.
– Почему именно Шпитцер? Этот реакционер! Этот головорез!
– Драматический тенор, – сказал Зуттер, – специалист по правам человека. Его бухгалтерские счета всегда на высоте. Не я его выбирал, а Руфь. Roma locuta, causa finita [19]19
Рим сказал свое слово, дело окончено (лат.).
[Закрыть].
– Речь, должно быть, идет о миллионах, – прошептал Фриц.
– Вполне возможно, – согласился Зуттер. – Но меня это никогда особенно не интересовало. Ты знаешь, Фриц, я рос в трудных условиях, у нас дома говорили только о том, чего у нас не было: все о деньгах да о деньгах. Поэтому я поклялся, что никогда не стану ими заниматься. Независимо от того, будут они у меня или нет. Матушка Фортуна позаботилась, чтобы это мое желание исполнилось, и деньги у меня действительно были благодаря Руфи. И для меня стало делом принципа жить так, словно у меня их нет. Этот принцип разделяла со мной и Руфь, в ее миллионах мы не нуждались.
– Господи, везет же людям. И на что тратятся эти деньги?
– Руфь поддерживала несколько фондов, как и ее тетя. «Врачи без границ», «Гринпис» и еще парочку других, о которых она не любила распространяться. Для одной религиозной общины в Индии она основала монастырь.
– И ты еще удивляешься, – совершенно серьезно заметил Фриц, – что кто-то хотел убрать тебя с дороги?
– Кому это могло понадобиться? – спросил Зуттер.
– Как кому? – рассеянно переспросил Фриц. – Я не сыщик, я всего лишь теолог, но дай мне десять минут, и я отыщу тебе сотню мотивов.
– Валяй, – весело согласился Зуттер.
– Для управляющего наследством Руфи ты обременительный нахлебник. Твоя ежемесячная рента – это же чистая трата денег. Эту графу расходов вполне можно убрать.
– Что ж, Шпитцер на роль преступника вполне сгодится. Валяй дальше.
– Ему и не надо было делать это своими руками. Ты говоришь, что не знаешь, на что тратятся деньги. За этим может стоять организация, которая возьмется быстро решить твой вопрос.
– Ну вот, в игру вступает мафия. Какая же – русская или чеченская? Или ограничимся классической из обеих Сицилий?
– Послушай, – сказал Фриц, – я не шучу. И прежде всего вижу одногобесспорного подозреваемого – тебя.
– Но я же не мог стрелять в себя с пятидесяти метров: у меня для этого руки коротки.
– Но свою жену ты мог убить, – сказал Фриц. – Тебе никогда не приходила в голову эта идея?
– Это другой вопрос, – задумчиво ответил Зуттер, – и мне кажется, ты путаешь ее с той, что близка твоему христолюбивому сердцу. Можешь и дальше не скрывать своих мыслей. Только, пожалуйста, не приписывай их мне.Это, знаешь ли… некрасиво.
– Зато убедительно, – невозмутимо продолжал Фриц. Убрав с дороги Руфь, ты мог быстрее подобраться к ее деньгам. Ты ведь даже не знаешь, во что обошелся ей ее рак.
– Да нет, я знаю, что ваша достославная «группа самопознания» стоила ей пятьдесят тысяч шиллингов. За это я мог бы подать на вас с Моникой в суд.
– В таком случае советую тебе нанять другого адвоката, не Шпитцера, этого плута, которого ты публично осрамил в газете. Управляющего твоим собственным наследством!
– Вот видишь, до чего доводят деньги, – сказал Зуттер. – До несвободы, идиотизма и тьмы нелепых подозрений. Теперь ты понимаешь, почему я знать о них не хочу.
– Однако же ты их брал и продолжаешь брать. У людей, которые, может быть, не разделяют твоих взглядов на деньги. Я тоже их не разделяю. Ты глупец, не желающий знать, как и чем наносишь себе ущерб. Ты все еще остаешься мишенью, Эмиль!
– Слушая тебя, я начинаю верить в то, о чем писала «Субито». Когда меня подстрелили в лесу, репортера этой газеты интересовал только один вопрос: «В каком мире мы живем?»
– Чертовски верно, – заметил теолог, – мы живем в реально существующем мире, который не только кругом околпачен. Он сам хочет, чтобы его обманывали.
– «В страхе живете вы в этом мире, – процитировал Зуттер, – но утешьтесь, я преодолел мир». Я не боюсь, и знаешь почему? Потому что немножко знаю по-гречески. Мир, о котором там идет речь, называется kosmos,что значит «украшение». Мир – это сплошное великолепие, и не его вина, что мы не умеем с ним ладить. С какой стати мне жаловаться на это великолепие, только потому что я не в состоянии его удержать? Разве от этого он становится несостоятельным? Мне не хочется быть занудой, Фриц, поэтому я не христианин и не экономист. Я могу только пожалеть человека, который из-за частички этого великолепия, которое не принадлежит ни ему, ни мне, хочет меня прикончить. Я не принимаю его всерьез – даже в том случае, если ему удастся его замысел. Для меня мир, в котором я вынужден бояться за свою жизнь, кажется слишком глупым. А потому и мотивы, которые ты мне называешь, кажутся мне слишком глупыми – излишними, как и твое христианское миросозерцание, которое без всяких усилий смог поколебать зубной врач из Пирмазенса. Если я глупец, ОФриц, то и ты тоже.
– Сатана гордым стал, да с неба упал.
– Не вижу здесь ни гордыни, ни падения, – сказал Зуттер. – Та цена, которую ты платишь за свое видение мира, не подтолкнет меня к падению.
– Эмиль, я просто не понимаю. Тридцать лет ты был судебным репортером. Ты внимательно приглядывался к людям, к тому, что они делают, раскрывал подоплеку их дел. А теперь не можешь понять, что ты главный подозреваемый в смерти Руфи. Что полиция, конечно же,подозревает тебя и, конечно же,продолжает следить за тобой, за каждым твоим шагом.
– Я догадываюсь об этом, – сказал Зуттер, – и это меня забавляет. Даже успокаивает, так как недобрый взгляд полиции может пересечься с глазом целящегося в меня преступника. Но полной уверенности в этом у меня нет, хотя преступность полиции в нашей стране все еще низка в сравнении с Бразилией. Но все может измениться, если в этой сфере по-прежнему не будет порядка. Как оплачивает государство своих верных слуг из скудного бюджета? То-то и оно. Вот им и приходится искать спонсоров. А где их найдешь, как не на той стороне, с которой столь долго профессионально общаешься? Так они могут делать друг другу скидки, полную цену платит сегодня только глупец. В таком случае почему не я?
– Ты нигилист, – сказал Фриц.
– Я с удовольствием оставляю за другими право быть моими врагами. Поэтому меня не интересуют мотивы, которые ты мне предлагаешь. Забирай их обратно. Давай полюбуемся дождем и кошкой, которая получает от него удовольствие.
– Эмиль, – озабоченно сказал Фриц, – тебе уже никто не поможет.
– Не поможет тот, кто сам беспомощен. Руфь мне помогала.
– Если ты в ней не обманывался, – сказал Фриц. – Посмотри на Монику. Когда женщины снимают с себя грим тщеславия, называемый ими любовью, они на все способны.
– А мы разве нет? Вполне может быть, что я обманывался в Руфи, но я хотел этого. Как христианин ты должен знать: воля человека – его царствие небесное.
– Для царствия небесного ты, по-моему, не годишься.
– Вот тут ты совершенно прав, – согласился Зуттер.
26
Зуттер поставил перед собой цель: до отъезда в сентябре в Сильс прибраться в доме. «В „Шмелях“ должна быть чистота». Он попытался сделать это прошлой зимой – и застрял уже в подвале. Там так и остался стоять ряд набитых под завязку серых мусорных мешков – словно «скульптурная» группа Георга из эмментальского периода, названная им «Двенадцать апостолов» и вызвавшая в семидесятые годы немалый скандал. Сегодня этим уже никого не удивишь, а тогда, вспомнил с тоской Зуттер, даже мусорные мешки вызывали сенсацию.
Зуттер так и не вывез свои мешки, они стояли в подвале, полные дорогих его памяти вещей, которые он, оставаясь в здравом уме, никогда бы не выбросил. Чтобы составить себе представление о содержимом мешков, их надо было опорожнить, и тогда подвал снова погрузился бы в хаос. «Начну-ка я лучше сверху, – решил Зуттер, – летними вечерами там можно работать до половины десятого, не включая свет».
В фирме, занимавшейся перевозкой вещей, Зуттер заказал достаточное количество картонных ящиков двух размеров. Место для них он очистил в зимнем саду, перетащив растения во двор, а самые чувствительные пристроив в тени у террасы: пусть подышат горячим воздухом своей родины, тем более что жара в июне стояла тропическая. Дожди начались только в июле, резко похолодало, Центральная Европа оказалась в зоне холодного циклона, который застыл на месте. Но Зуттер не замечал непогоды и продолжал жить в обществе своих картонок, превративших дом в лабиринт; он лавировал в проходах между ними, словно канатоходец. Ящики тянулись к нему своими четырехугольными ртами с высунутыми надломленными языками, ожидая, что он наполнит их ненужными вещами; долго же им приходилось ждать.
Ибо Зуттер не торопился. За какую бы вещь он ни взялся, ему не хотелось с ней расставаться. Полки и шкафы он, как правило, очищал быстро, дело стопорилось, когда нужно было решить, что делать с ненужной вещью. Отправить в ящик? Нет, там она раньше времени исчезнет навсегда. Лучше на пол – чтобы оставить на виду и как следует поразмыслить. Поразмыслив, он не хотел выпускать из рук самые странные вещи, но даже и самые обыкновенные обретали странную притягательность. В доме почти не оставалось места, где можно было бы присесть, но он садился и замирал с бельем Руфи в руках или с уже отобранной на выброс книгой – в последний момент он обнаруживал в ней достоинство, которого раньше не видел.
Хорошо, что хоть кошка замечала его присутствие. Когда он нечаянно ронял на пол фломастер или нафталиновый шарик, она воспринимала это как приглашение поиграть. Но если падали ножницы или пресс-папье, кошка отскакивала в сторону, опасаясь за свою жизнь, и уже не верила, что с ней играют. Зуттер не мог не видеть, что квартира сопротивляется его планам очистить ее, более того, она использовала его попытки для того, чтобы стать еще более захламленной: она дичала и пустела в одно и то же время. Горы собранных за долгие годы бесполезных вещей, сберегаемых в надежде, что они когда-нибудь пригодятся, напоминали руины. Благое намерение сохранить только те вещи, которые необходимы для повседневной жизни или связаны с действительно дорогими для него воспоминаниями, оказалось невыполнимым. Решительному взгляду ненужным представлялось почти все, меланхолическому – почти ничего. Зуттер находил все больше вещей, с которыми не мог расстаться; ему даже трудно было сделать вид, что расстаться с ними ничего не стоит. Выбросить одежду Руфи на первый взгляд казалось делом само собой разумеющимся, но уже на второй – абсолютно невозможным. Разве мог он обойтись с одеждой Руфи так, словно это какой-нибудь хлам?
Он поклялся, что оставит не больше сотни книг. Потом стал считать за одну каждое собрание сочинений, хотя в последние годы не заглядывал ни в одно из этих собраний. Но они были частью интерьера, они как бы говорили тем, кто приходил, что жизнь продолжается. Совершенно пустые полки давали бы знать: дом заброшен окончательно.
Дом Зуттера, в отличие от почти всех остальных в «Шмелях», так и не был оборудован камином. Шлагинхауф не признавал камин, считая его символом возвращения в сферу – или, как тогда принято было говорить, в «идиотизм» частной жизни. Зато в клубе он сделал огромную, как у жителей Сардинии, печь, похожую на кузнечный горн и призванную поддерживать высокую температуру общественной солидарности. Этот клуб потом был отдан в аренду предпринимателю, занимавшемуся оздоровительной физкультурой, и превращен в спортзал, из которого часами не вылезали новые обитатели «Шмелей»; Зуттер туда не ходил, хотя и у него были проблемы с давлением. В его доме так и осталась старинная датская печь, которую в случае необходимости можно было использовать и как камин; зимой, когда он читал Руфи сказки, она не только давала тепло, но и настраивала на соответствующий лад. Но нрава она была разборчивого, топить ее приходилось только сухими дровами. Скопившийся хлам вряд ли стал бы в ней гореть, да и фантазия Зуттера отказывалась работать, когда он представлял себе, как из трубы днем и ночью поднимается столб черного дыма. Лучше уж пусть сгорит весь дом – но тогда пожар не пощадит и соседние.
Вешая одежду Руфи обратно в платяной шкаф, Зуттер услышал подозрительный шум. Кошка каталась по обуви Руфи. Она совала нос во все отверстия и так страстно терлась головой о кожу и замшу, что даже перекатывалась через голову. Тут впору смеяться и плакать, Руфь, у тебя появился любовник, которому все равно, живая ты или мертвая. Ему достаточно сохранившегося запаха твоих ног. Да, Руфь, я вижу призраков.
В последний год жизни Руфи Зуттеру пришлось вызывать электрика. В доме по непонятной причине гас свет. Случалось, что по вечерам Зуттер с книгой сказок в руках вдруг оказывался в темноте. Он передвигал рычажок предохранителя, но это помогало ненадолго. «Зажги-ка лучше свечи, – говорила Руфь, – господину Корбесу [20]20
Имеется в виду герой сказки братьев Гримм «Господин Корбес».
[Закрыть]они тоже были бы кстати. Он, конечно же, и сам мракобес, хотя мы ничего о нем не знаем. И не понимаем, с чего бы это петушок, мельничный жернов и иголка задумали с ним расправиться. Должно быть, только за то, что „его не было дома“. Во всяком случае, в тот момент, когда к нему нагрянули эти злючки. Может быть, мы увидим его при свечах». – «Я не увижу, – сказал Зуттер, – я вообще ничего не вижу». – «Тогда рассказывай, – невозмутимо потребовала Руфь, – рассказывать можно и не видя, Зуттер. Вспомни о Гомере».
После десятой попытки зафиксировать рычажок предохранителя можно было при свете раздеться, почистить зубы и добраться до кровати. Потом ток куда-то уходил, не появлялся он и утром, когда надо было включить кофемолку. Холодильник таких шуток и вовсе не понимал, и Зуттер призвал на помощь молодого электрика. Тот предположил, что замыкает в телевизоре, да вот беда: телевизора в доме не было. Таких бедных людей электрику еще не приходилось видеть. Даже беднейшие из бедных имели телевизор, а обилие макулатуры в виде книг не убедило парня в жизнеспособности хозяина дома. В поисках повреждения проводки он с измерительным прибором в руках облазил весь дом, но так ничего и не нашел. И очень смутился, когда хозяйка накрыла ему стол для второго завтрака. Сбитый с толку непривычным для него гостеприимством, он, наступив на горло собственной гордости, предложил позвать на помощь специалиста, которому подвластны не только электромагнитные волны. Подмастерьев теперь развелось больше, чем мастеров-электриков, и большинство из них шарлатаны. Правда, он знает одного, которого мог бы порекомендовать. Но, побывав в доме, этот специалист всю мебель перевернет вверх ногами, кровать-то уж точно. Зато потом не будет никаких отключений.
Руфь объяснила, почему кровать нельзя трогать с места. Она вырезана из ствола тысячелетнего дерева, корнями все еще уходящего в землю, дом с грехом пополам возвели вокруг этого ствола. После этого юный мастер, только что лазивший под эту кровать, в спешке откланялся, решив, что, судя по всему, имеет дело не просто с нищими, а с безумными.
Руфь только рассмеялась: раз уж и он не умеет повелевать электрическими токами, предоставим им свободу действий и не будем вмешиваться в их дела.
Загадочные отключения и впрямь прекратились. Должно быть, домовые услышали то, что хотели услышать.
«Никогда Руфь не рассказывала мне о себе», – подумал Зуттер.
Эта фраза была ложной, как и все начинающиеся с «никогда» или «всегда». Руфь не употребляла подобных слов, она так предполагала и придерживалась своего предположения. Она не выносила людей, которые употребляли словечки «никогда» или «всегда». Она с ними даже не спорила. Но в споре не обойтись без грубых слов, вероятно, они часть тех здоровых эксцессов, которых так недоставало в жизни Руфи, подумал Зуттер; во всяком случае, на зальцбургских сеансах терапии ей пытались внушить эту мысль. «Уж лучше мне умереть», – заявила она. Да так и сделала.
27
«В „Шмелях“ должна быть чистота» – а Зуттер не мог разобраться даже с собственными бумагами. Часто экран его компьютера казался ему единственным местом, где можно было спастись от царившего повсюду хаоса, и стук пальцев по клавиатуре напоминал ему шум убегающего от преследования загнанного зверя; но убежать зверю никак не удавалось. Он словно боялся провала, поджидавшего его за бегущими строчками, которые, в свою очередь, гнали перед собой, словно невидимое заграждение, испорченные и неудачные начала фраз.
Во всяком случае, строчкам, чтобы возникнуть, надо было мало пространства, а чтобы исчезнуть – и вообще никакого. Когда еще была жива Руфь, он распечатывал то, что написал, точнее, то, чем он замазывал себе глаза, чтобы не видеть, как Руфь «становится все меньше». Он «говорил о чем-нибудь другом», и этим другим все еще были его процессы, даже если он уже и не печатал о них отчеты в газете. Если его писания и казались убедительными ему самому, то только в том случае, когда они давали возможность заняться разбирательством «чего-то другого». Себя самого он находил созданием до крайности наивным, недостойным серьезного судебного дела.
Руфь почти не занимала его профессия. Он не сомневался, что в глубине души она презирала его увлечение, его интерес к смерти и убийству, к укрывательству и воровству, к церемониалу суда. Неоднозначность всех вещей в ее глазах не нуждалась в доказательстве посредством столь драматических поводов. Сказки были той территорией, на которой сталкивались интересы ее и Зуттера: там смело рубили головы и убивали, и все это мало что значило – не больше, чем нечто одинаково истинное для всех людей. В лабиринтах и дебрях сказок истина была надлежащим образом скрыта. А в процессах-сказках Зуттера она до неприличия раздувалась. Так называемые улики в них не только отдаляли наблюдателя от фактов. Они даже не затрагивали то, что лежало на поверхности.
После смерти Руфи Зуттер перестал распечатывать написанное. Он стучал пальцами по клавиатуре, как бы пуская слова по ветру, этот «ветер» казался ему подходящим лекарством для человека, не умеющего оторваться от вещей. Комическая ситуация для того, кто уже давно мог умереть. Но поскольку он все еще жил, то и оставался верен своей привычке, когда предпочитал разбираться с собственной историей как с делом неизвестного преступника, арестовывать которого он отнюдь не торопился.
Для человека, который пишет, пуская слова по ветру, Зуттер работал над своими процессами с навязчивым, часто лихорадочным усердием. Он даже не заметил в первые дни августа, что кошка перестала напоминать ему о кормежке. Лишь постепенно он сообразил, что с ней что-то не так. Он нашел ее за печью, свернувшейся в клубок. Она чесалась во сне и не хотела просыпаться, когда он ощупывал ее шерстку. Наконец на брюхе обнаружилось влажное место, а под ним довольно большая опухоль.
Он положил кошку в корзину с крышкой, чему она не сопротивлялась, и отнес к ветеринару. К счастью, в «Шмелях» вот уже несколько лет жил один такой специалист, до него можно было дойти пешком. Он сказал, что это абсцесс, и сделал инъекцию антибиотика. Кошку он решил оставить для операции у себя на ночь, и Зуттер, подозревая худшее, ушел от него с пустой корзиной.
Это было десятого августа, Зуттер писал всю ночь и сохранил написанное под названием «Воспоминание для покушавшегося на меня». Уснуть с мыслью «о чем-нибудь другом» он не мог и рано утром получил по телефону успокоившее его сообщение. Ничего серьезного; кошка хорошо перенесла операцию и спит в боксе, готовая вернуться домой. К облегчению Зуттера, она в первый же вечер начала есть и через несколько дней чувствовала себя как прежде.
Кошка, но не Зуттер; в тот день, когда он принес ее домой, он перенес один за другим два тяжелых приступа головокружения. В «Шмелях» с недавних пор появился медицинский пункт широкого профиля, и молодой врач, радуясь, что заполучил нового клиента, уделил Зуттеру много времени. Он нашел, что его ЭКГ не внушает опасений, в отличие от кровяного давления. Он дал нужную для этого случая «установку», пожурил Зуттера за сидячий образ жизни и сказал, что работа по уборке дома в счет не идет. Зуттер дал слово возобновить прогулки в ближайших окрестностях.
Когда еще была жива Руфь, Зуттер проверял свое давление специальным прибором; теперь, после работы за компьютером, он видел, что прибор, вопреки оздоравливающей «установке», показывает величины, грозящие кровоизлиянием в мозг. Зато когда он возвращался с прогулки, глаза его были застланы серой пеленой, а давление падало до крайнего предела. После этого он окончательно решил не обращать внимания на свою особу.
Но двадцать восьмого августа это его решение было нарушено странным происшествием. Он впервые снова пошел по лесной дорожке, которой до этого избегал, к конечной остановке трамвая № 17, и снова столкнулся с враждебной силой.
Выстрела на этот раз не было. Но это случилось на том же самом месте, где почти полгода тому назад прозвучал выстрел. На какое-то мгновение, широко открытыми от страха глазами Зуттер даже увидел стрелка, его взгляд, прищуренный за прицелом карабина, ствол которого целил прямо ему в сердце. Приготовления к выстрелу он видел абсолютно четко – но не стрелка. Ни его лица, ни тем более тела, не говоря уже о глазах. Только взгляд, прищур и ствол карабина, направленный в сердце.
При этом участок леса виделся ему увеличенным, словно он смотрел на него в бинокль. Каждая трещина на корявом рыжеватом стволе сосны, за которой, вероятно, припал на колено стрелок, неизгладимо врезалась в память, каждый изгиб оголенного, отшлифованного до блеска ногами пешеходов корня, тянувшегося через дорожку. Он даже видел, как по нему ползет муравей, таща в лапках превышающий его вес кусочек коры. С необычайной отчетливостью он видел и место, где находился стрелок.
Но точно на этом месте стоял он сам, Зуттер.
Придя через несколько секунд в себя, он приписал этот фантом скачкам кровяного давления, капризу фантазии, которую, вольно или невольно, долго занимало это место, и, вероятно, тем интенсивнее, чем дольше он тут не бывал. Должно быть, эту шутку сыграл с ним эйнштейновский оптический обман, когда преступник и жертва оказались во времени и пространстве в одной точке.








