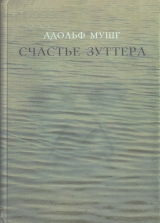
Текст книги "Счастье Зуттера"
Автор книги: Адольф Мушг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Дорожка, как и тогда, была пустой. Зуттер поднял голову и посмотрел сквозь листья бука на небо, которое подмигивало ему бесчисленными глазами, рассыпанными между все еще по-летнему зеленой листвой.
В детстве, когда ему снились кошмарные сны, Зуттер знал один трюк, который помогал ему проснуться: он брал себя за подбородок и рывком поворачивал голову назад. Это вовсе не ты, говорил он себе, это происходит с кем-то другим.
– Что это он делает, – послышался детский голосок.
– Не мешай ему, – вполголоса ответила женщина. – Он делает гимнастику.
28
Зуттер снова шел по дороге к трамвайной остановке; на этот раз обошлось без приключений. Он хотел перед поездкой в Сильс запастись лекарствами, купить туристские ботинки и бумагорезку. Быть может, удастся найти подходящую модель, портативную и в то же время производительную. Он уже видел такую во сне, видел, как она сечет на мелкие кусочки его журналистское прошлое, режет на узенькие, ни о чем не говорящие полоски целлюлозу двусмысленной любви к людям. Оставалось только отправить содержимое жесткого диска в компьютерную корзину и щелчком мыши очистить ее.
Он уже миновал тир, когда ему вдруг пришло в голову позвонить Кинастам, Францу и Ирене. Зайдя в одну из редких в этих местах телефонных кабин, он набрал номер. Кинасты оставили свой адрес, когда приходили к нему в больницу, и Зуттер занес его в свою записную книжку. Тогда старикам не разрешили навестить его, но ему передали от них три розы, а он так и не поблагодарил. Они жили неподалеку и были рады видеть его. Госпожа Кинаст как раз испекла абрикосовый пирог. Старики, похоже, никуда не спешили, предпочитая проводить время у телевизора.
Когда Зуттер с бутылкой «божоле» в руках поднялся в их скромную квартиру, шла какая-то Game Show [21]21
Телеигра (англ.).
[Закрыть], но телевизор тут же выключили; Зуттер задыхался: ему пришлось преодолеть шесть лестничных пролетов в многоквартирном доме постройки пятидесятых годов.
Украдкой и в то же время с волнением разглядывал он женщину, которая, когда ему прострелили грудь, держала его голову на своих коленях. С виду она казалась дряхлой, но была довольно энергичной, только руки у нее дрожали, когда она подавала кофе: чашки и приборы чуть слышно позвякивали на подносе. Старик сохранился лучше, но с кресла поднялся с трудом; здоровый лишь на первый взгляд цвет лица выдавал в нем гипертоника. Лекарства, которые после кофе ему точно отмерила жена, были Зуттеру знакомы. Взглянув на кресло, Зуттер оторопел: оно было меньше «кресла сказок» Руфи, но выполнено в том же стиле модерн, с почти такой же обивкой, только желтые и зеленые цветы напоминали тюльпаны.
Кинаст не без удовольствия принялся рассказывать о своих недугах. Они гарантировали ему уход жены, профессионально подготовленной медицинской сестры. Больше всего он нуждался в ее помощи из-за потери зрения. Чтобы он ничего не опрокинул, она подводила его руку к чаше и подносила ко рту кусочки пирога.
Случившееся с Зуттером несчастье стало событием в жизни пожилой пары. Они обрадовались возможности поговорить об этом с жертвой, поздравили его с выздоровлением и с нескрываемым ужасом выслушали рассказ о том, как близко от сердца прошла пуля. Нет, стрелявшего они не видели, они и сами ломали голову над тем, кто бы это мог быть. Когда они смотрят по телевизору детективы, Франц Кинаст первым угадывает преступника. «Или преступницу! – многозначительно добавил он. – Теперь даже женщины не стесняются прибегать к насилию».
Жизнь Кинаста состояла не из одних только жалоб на недомогания. Он был обладателем коллекции марок, правда, интересовался он только марками, выпущенными до 1945 года. Послевоенный мир казался ему слишком сложным, а почтовые знаки чересчур яркими. У него была абсолютно полная коллекция марок серии «Швейцария», каждая марка в двух вариантах – бывшая в употреблении и еще не использованная, большинство в блоках по четыре штуки, но попадались и напечатанные прямо на конвертах с кратким, но в ту пору вполне достаточным адресом, написанным к тому же готическим шрифтом: Гуттерли Эрнсту, бывшему сельскому жандарму, Штекборн. Там жили дедушка и бабушка Кинаста по материнской линии.
Жена раскладывала перед ним его альбомы, словно шкатулки с драгоценностями. Зуттер внимательно смотрел, как он, забыв о посетителе, приставив лупу к стеклам очков, к глазам с расширенными, как у призрака, зрачками, склонялся, почти касаясь носом стола, над своими аккуратнейшим образом рассортированными почтовыми марками. О каждой из них он мог бы рассказать целую историю. И еще одну о том, как она попала к нему в руки. Отдельного рассказа заслуживал рост коллекционной стоимости.
Собственно, Кинасты были теперь состоятельными людьми. Если сложить стоимость всех марок, получится шестизначное число. Но так считать не принято. Кинаст знал об этом: раньше он бывал частым гостем на филателистической бирже. Теперь он туда уже не ходил. У него и в мыслях не было превращать свои марки в деньги. Он не хотел с ними расставаться, да и нужды в этом не было. Каждая марка была для него бесценным сокровищем, никакие деньги не возместили бы их утрату.
Пока они сидели над альбомами, время летело незаметно, в шесть вечера фрау Кинаст спросила, не останется ли Зуттер с ними поужинать. Взглянув на часы, Зуттер с наигранным испугом сказал, что ему давно пора кормить кошку.
Аккуратно положив альбомы на место, фрау Кинаст спросила, как теперь живется Зуттеру. Она уже много лет собирает траурные объявления, в ее коллекции есть и объявление о смерти его дорогой жены. Она даже запомнила последнюю фразу.
– «Мы простились с ней тихо и спокойно, как того и хотелось Руфи», – процитировала она дрожащим голосом. Зуттеру показалось, будто он слышит голос Фрица.
– Да, – продолжала она, дрожа уже всем телом. – Тишина и покой. Вот чего нам чаще всего недостает.
– Но остаются воспоминания! – строго поправил ее муж. – Их у нас никто не отнимет.
– У Руфи было странное отношение к воспоминаниям, – сказал Зуттер. – Она с удовольствием не оставила бы о себе никакой памяти.
– И думать не смейте! – запротестовала фрау Кинаст. – Это был драгоценныйчеловек.
Слово из лексикона филателистов показалось Зуттеру неуместным.
– Я сейчас избавляюсь от балласта, – сказал он, – и хотел бы сохранить у себя очень немногое. Но что-то удерживаетменя. Боюсь, если я избавлюсь от всего, у меня не останется опоры на этом свете.
– Вам ни от чего не надо избавляться! – возмущенно сказала фрау Кинаст. – Вспоминайте, как вы жили с вашей женой, тогда вам будет казаться, будто она все еще с вами.
– Это ей вряд ли понравилось бы.
– Мы христиане, – вмешался в разговор господин Кинаст, – и можем утверждать: ваша жена все еще любит вас, но теперь ее любовь полна чистоты и покоя.
– Спасибо за гостеприимство, – поблагодарил хозяев Зуттер.
– Заходите еще, в любое время! – фрау Кинаст была сама любезность. – Мы будем рады.
– Сначала мне нужно побывать в Энгадине, – сказал Зуттер. И добавил, обращаясь к фрау Кинаст: – Спасибо, что положили тогда мою голову к себе на колени.
– Пожалуйста! – покраснела старушка. – А как же иначе.
– Вино лучше заберите с собой, – сказал ее муж. – Мы не употребляем алкоголь.
– Тогда я вечером выпью его за ваше здоровье.
– Я провожу вас немножко, – сказала фрау Кинаст. – Да заодно зайду за фотографиями. Франц, я скоро вернусь.
Зуттер спускался вместе с пожилой дамой по ступенькам лестницы. На площадке третьего этажа стояло синтетическое дерево. Фрау Кинаст остановилась.
– Тут живет один человек, он туг на ухо, – понизив голос, сказала она. – Я должна кое в чем вам сознаться, господин Гигакс.
Он послушно последовал за ней в угол. Ее ресницы задрожали.
– Мне стыдно, – прошептала она. – Это я звонила вам по телефону.
– К сожалению, я не снимал трубку.
– Я это знала, иначе бы не осмелилась.
– Я не совсем вас понимаю.
– Видите ли, когда я представила себе, как вы живете после смерти вашей дорогой жены, я должна была подать вам знак.
– Знак?
– Я тоже потеряла человека, которого любила, – шепотом пояснила она. – Он сам лишил себя жизни. О нет, не из-за меня. Просто он не был создан для счастья. Черные силы оказались сильнее меня, и его тоже.
Она откашлялась:
– Я знала вашу жену.
– Вы знали Руфь? – удивился Зуттер.
– Я ухаживала за ее тетей. У той тоже был рак, я дежурила по ночам. Руфь была красивой молодой женщиной. Она изучала медицину и редко появлялась дома, но когда появлялась, то это был настоящий праздник. Она всегда садилась в кресло с цветной обивкой, в котором уютно устраивалась еще в детстве. Сохранилось ли оно? С узором из больших цветов крокуса?
– Из безвременников осенних. Сохранилось.
– В нем старая госпожа Ронер и уснула вечным сном. Однажды вечером, придя на дежурство, я нашла ее мертвой. Ей была дарована легкая смерть. Руфь тогда была в отъезде, кажется в Индии. Она не любила, когда ее беспокоили во время путешествий. Надо же, кресло все еще у вас! Оно досталось Руфи в наследство от матери, ее мать была бельгийка, из Брюгге. Мне тоже достался один стул.
– Вы, значит, знали Руфь, – проговорил Зуттер.
– Руфь была женщина большой души, хотя и не показывала этого. Если она выйдет когда-нибудь замуж, думала я, то непременно за человека знатного рода, с частицей «фон» перед фамилией. Но, по правде говоря, я не верила, что это случится. Ее окружали только подруги. Это был человек большой выдержки.
– Фрау Кинаст, вы говорите, что звонили мне. В какое время?
– По ночам, но не очень поздно. Я проходила мимо вашего дома, чтобы узнать, когда вы выключаете свет. Мне не хотелось вас беспокоить.
– Вы звонили в двадцать три часа семнадцать минут.
– Каждый раз, когда засыпал мой муж. Знаете, он ведет размеренный образ жизни. Но я звонила не каждую ночь. Я чувствовала, дома вы или нет. Иногда – она снова понизила голос до шепота, – мой муж вдруг просыпался, тогда я не могла.
– Послушайте, фрау Кинаст, если это были вы, то звонили вы ровно в двадцать три часа семнадцать минут, секунда в секунду. И вы точно знали, где я нахожусь.
– Это у меня дар такой. Уже в детстве меня велакакая-то сила. Мой ангел, – прошептала она.
Зуттера бросило в дрожь. Странность разговора пробирала его до мозга костей. Он стоял со старой женщиной в углу лестничной площадки, пахнувшей свежей мастикой, и разговаривал вполголоса, наклонившись к ней, так как она была маленького роста; чтобы разобрать ее слова, ему приходилось напрягать слух. Он сделал шаг назад.
– Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я делала это ради вашей жены. Желала спокойной ночи, чтобы напомнить о Руфи и немножко утешить вас. Руфь жива, – уверенно сказала она.
Зуттера знобило все сильнее. Он хотел сказать, что все это чудовищно. Но только проговорил:
– Очень мило с вашей стороны.
– Вы, наверно, терялись в догадках? – на губах фрау Кинаст появилось хитроватое выражение.
– Да уж, пришлось поломать себе голову, – хрипло произнес Зуттер.
– А вы заметили, что я помнила о вашем дне рождения? в голосе ее звучало лукавство. – И подала всего два сигнала.
– Ага, фрау Кинаст. Нет, я совсем забыл о своем дне рождения.
– А вот это плохо. Мы появляемся на свет только один раз.
– Это ваш ангел подсказал вам, что в меня будут стрелять?
Она удовлетворенно улыбнулась.
– То, что я оказалась там в нужное время, вряд ли было случайностью. Всех нас ведеттаинственная сила.
– Кто же в меня стрелял? Что думает об этом ваш ангел?
– Недобрых людей он мне не показывает, – ответила она. – Он не из самых могущественных. Не из тех, что сидят на тронах и правят миром.
Зуттер не отводил взгляда от вечнозеленого синтетического дерева.
– Вы читали «Субито»? – лукаво спросила она. – Журналист хотел знать: «Существует ли связь между судебным репортером Г. и супружеской четой К.?»
– Фрау Кинаст, не затруднит ли вас позвонить мне сегодня, в обычное время?
– Такие вещи не повторяются. С этим не шутят. Потому-то я и не звонила вам больше, когда вы вернулись из больницы. В этом уже не было необходимости. А сейчас простите меня, а то мой Франц начнет беспокоиться.
– А как же фотографии?
Она приложила палец к губам.
– Их проявят только завтра. Ничего, он подождет. У него есть его марки.
Она протянула ему свою костлявую руку и быстро отдернула ее. Потом легко преодолела один пролет, остановилась на повороте и махнула рукой.
– Передавайте привет горам. Ведь мы тоже там бывали, и не раз. В Браунвальде. Тишина, господин Гигакс. Тишина! В ней все дело.
В ответ он нерешительно поднял руку. Она подпрыгнула и исчезла.
«Такими вещами не шутят, – сказал он про себя, – они никогдабольше не повторятся».
Часть третья
В горной долине
29
Сказать, что он радуется поездке в Сильс, было бы не совсем верно.
«Нынче славный день для смерти». Руфь научилась этому утреннему приветствию индейского племени могавков в группе самопознания. Индейцы, как дети природы, ни о чем таком при этом не думали. Но мы, всегда думавшие слишком много, не могли не научиться что-то чувствовать, произнося эту фразу. «Как будто главной проблемой этих людей было многомыслие, – говорила Руфь. – Представь себе, Зуттер: переношенные дети, которые с нетерпением ждут, когда их перепеленают и накормят. Когда можно будет закричать впервые после рождения или с плачем пожаловаться на своих глупых матерей. И я со своим раком. Нынче славный день для смерти. Не для того явилась я на этот свет. С этими людьми мне не хотелось бы даже умереть. Охотнее всего я задушила бы кого-нибудь из них».
«Тогда тебе пришлось бы пустить в ход собственные руки, Руфь».
«Играть ведь мне было позволено. Они бы рассматривали это как прорыв! Как Coming out» [22]22
Выход в свет (англ.).
[Закрыть].
«Да, Руфь, тебе уже нельзя было помочь».
«А теперь уезжаешь ты, хочешь меня утопить. Думаешь, тебе это удастся?»
«Сегодня мне удастся кое-что еще, Руфь. Сегодня я открою кошке приготовленный тобой корм. Чтобы отметить этот день. Последнюю банку, оставшуюся после тебя».
«Для этого сперва нужно научиться пользоваться специальной машинкой, Зуттер, неужели ты и в самом деле впервые ее откроешь?»
«Я и кошку в приют для животных отвожу впервые. И впервые без тебя еду в Сильс. Один – и с тобой».
«С урной, Зуттер. Ты что, уже путаешь жену с урной?»
«Я расстаюсь с ней, Руфь».
«Желаю удачи, Зуттер».
Зуттер что-то бормотал про себя, расхаживая по квартире. У расставаний уже то преимущество, что еще раз осматриваешь свои пожитки. Все вынуть назад из картонок, поставить опять на полки, а картонки сложить и отправить в подвал.
Кошка испуганно взглянула на него. Он засмеялся. Она сидела на столе и не думала сопровождать его в инспекционном осмотре квартиры, пока он не направится прямиком на кухню. При жизни Руфи ей не позволялось сидеть на столе, даже когда Руфь под конец принимала пищу, если под пищей понимать тарелку бульона, уже в своем «кресле сказок». Только не в постели, тут она была непреклонна. Но она же настаивала на том, чтобы Зуттер и впредь ел только за столом. Готовая покинуть этот мир на софе, остающийся – за накрытым столом. И ни в коем случае не позволять кошке забираться на стол. После смерти Руфи она сразу же прыгнула на него, и Зуттер не стал ее сгонять. «Руфи больше нет, и мы можем себе кое-что позволить. Отныне будем делить с тобой кровать и стол».
«Над чем ты смеешься?» – вместо того чтобы таращить в испуге глаза, могла бы спросить кошка.
– Вспомнил стихотворение «Ночью близ Буссето», – сказал Зуттер, и в голосе его послышалась дрожь. – «Юного, вдали от дома, / его в землю закопали, / кудри, вьющиеся густо, / его плечи облегали». – Кошка все еще смотрела на него. – «И без сил, вдали от дома, – продолжал он. – И небрит, вдали от дома».
Бывали дни, когда любая, даже дурацкая острота могла заставить Руфь смеяться до слез. «По теченью вверх ли, вниз ли / смелые бредут голландцы, / а за ними, будто гризли, / лезут храбрые шотландцы». Это было похоже на страшную сказку о господине Корбесе, которую так любила слушать Руфь. Храбрых шотландцев в сказке не было, но они вполне могли там быть и, без сомнения, приложили бы руку к гибели незнакомого и такого несчастного господина Корбеса.
– Сегодня, кошка, тебя ждет прощальный обед.
Он достал с полки последнюю банку, оставшуюся от запасов Руфи.
«Разве ты не знаешь, Зуттер, что тебе ее не открыть? Это могла только Руфь, даже когда у нее уже почти не оставалось сил. Сила тут совсем не нужна, Зуттер. Электричество давно изобретено, оно все сделает за тебя. Умный прибор удобно расположился в стенной нише, его не надо было даже снимать. Вон торчит нож-резец, ты вдавливаешь его в крышку банки. Потом крепко держишь банку, в то же время позволяя открывалке поворачивать ее вокруг ножа и делать то, для чего она создана».
Кошка с интересом следила за тем, что выйдет из этого руководства к применению. Выходило все что угодно, кроме корма. Резец или отскакивал от края банки, оставляя на нем вмятину, так что к этому месту его уже нельзя было приставить, или же если и протыкал крышку, то не хотел двигаться по кругу и доводить до конца столь удачно начатое дело. Ему больше нравилось застревать и так трясти банку, уже издававшую из пробитой дырки запах, что она начинала танцевать на кухонном столе и не успокаивалась до тех пор, пока не выбрасывала лежавшую сверху часть своего содержимого Зуттеру на живот. Не все из этого выброса было в застывшем виде. Для кошки эта пахучая смесь из тухлой солонины была, надо думать, как мед для мухи. Во всяком случае, она терлась о штанину Зуттера, по которой стекал коричневатый сок, и от алчности глухо хрипела.
Лучше бы Зуттеру не знать, какое у него сейчас давление. Эти светлые брюки были единственные глаженые. В довершение всего банка выскользнула из его перепачканных пальцев, упала со стола на пол и покатилась кошке под ноги. Та отпрыгнула в сторону, но потом начала вылизывать тянувшийся по кухне след сока.
– Я этого не хотел, кошка, – сказал Зуттер и тяжело вздохнул. – А все оттого, что сначала надо было тебя покормить, а потом уже одеваться во все лучшее. Теперь мне остается или оставить на себе эти новые брюки и вонять тухлятиной до самого Сильса, или же надеть старые и выглядеть точно так, как я себя чувствую. И главное: ты все еще не кормлена.
После смерти Руфи он привык объяснять кошке, что он делает и почему. Чаще всего это сводилось к признанию им своей неполноценности. Все годы их супружества о кошке заботилась Руфь. Для кошки он всегда оставался чужаком, которого надо было терпеть. Даже в последний год своей жизни Руфь никогда не забывала покормить кошку. «Это моя утренняя гимнастика. Не отнимай у меня моей вечерней прогулки. Ты кормишь меня, я кормлю ее, а когда я сплю, она нашептывает тебе сказки. Наша кошка – француженка. Братья Гримм подслушали свои сказки у французов».
Шесть лет тому назад Руфь решила обзавестись картезианской кошкой. Для Зуттера это было сигналом, что она потеряла надежду заиметь ребенка. Опыт, обретенный ею во время визитов к врачам, лишь укрепил ее в решении никогда больше не отдавать свое тело во власть медицины. «В противном случае с этого момента меня занимали бы только проблемы моих врачей, Зуттер. Своих собственных я бы просто не замечала. Ради этого многие готовы заплатить здоровьем – я же скорее заболею, чем стану объектом медицины. Дело не в том, что медицина ничего не может, она может многое и давно уже слишком многое. Вот только она не видит ничего в шаге от ее пути, из-за яркости исходящего от нее света. Для врачей медицина становится все лучше, для больных – нет. Знаешь ли ты, Зуттер, что такое болезнь? Это когда на тебя опускаются сумерки. И ты не знаешь, вечер на дворе или утро. Мы для того и созданы, чтобы привыкать к сумеркам. Мы видим все больше, но все меньше знаем, что же мы видим. Я не хочу умереть под взглядом медицины, Зуттер, тогда от меня ускользнуло бы слишком многое. Я не увидела бы даже того, что видит кошка».
– Да, кошка, эта банка последняя. It’s now or never [23]23
Сейчас или никогда (англ.).
[Закрыть]. Коли не удастся ее открыть, отправишься к кенгуру голодной.
Он вытер банку и вымыл руки. Они взглянули друг на друга. «Подари мне свой взгляд, чтобы я мог видеть в сумерках, кошка. По справедливости, тебе следовало бы быть серой. Нам обещали чистокровную картезианку. Полгода мы ждали очередного окота твоей мамаши, так как ее последний приплод мы просто проморгали. Твоя хозяйка поклялась, что в следующий раз мы первыми получим право выбора. Свидетелем был кот-картезианец. Он величественно стоял у дверей своей „детской“, символ чистоты породы, готовый исполнить свой долг».
И когда истек указанный срок, они пришли снова. Пришли, хотя хозяйка, жена аптекаря, призналась по телефону в постигшей ее неудаче. Если господин и госпожа Гигакс настаивают на породистом животном, то им лучше не беспокоиться. К сожалению.
Но этим она только разожгла любопытство Руфи, и когда им показали выводок, который кормила их чистопородная мамаша, она была восхищена игрой природы. Четверо серых тигровых котят и один черный с белыми лапками, кроме передней правой, убедительно подтверждали, что благородная мамаша очень даже подыграла благородному папаше, который, ничуть не смущаясь, все так же величественно поглядывал на не совсем обычный приплод.
Вот так маленький гибрид с тремя белыми лапками, сразу же безумно понравившийся Руфи, стал ее собственностью и получил имя Кошка, хотя потом и оказался котом. Из этого получилась еще одна история, на сей раз печальная. Руфь расплачивалась за нее ставшей уже почти невыносимой утренней гимнастикой и вечерними прогулками от кровати к холодильнику, а оттуда к миске для корма. Блеск черной шерсти в сумерках, куда она с трудом тащилась, был единственным светлым пятном на ее пути. Лазерными и рентгеновскими лучами она пренебрегла. И лишь раз в году пыталась взбодрить себя в Верхнем Энгадине. Брать туда свой черный блеск ей не надо было.
Зуттер стоял и смотрел на так и не открытую банку. Кошка больше не прерывала его задумчивости. Она забралась под кухонный стол и, закрыв глаза, улеглась, убрав под себя передние лапы – белую и черную.
А перед глазами Зуттера была Руфь, он видел, как она, оцепенев от боли, медленно идет из одной комнаты в другую – так прогуливаются в антрактах в театре. Он слышал, как она разговаривает с кошкой, не столь многословно, как он сам. Но даже когда кошка была уже накормлена, голос Руфи был неотличим от любовного призыва.
И Зуттер, муж, не мог его не услышать. Этот призыв пронизывал его до костей и пробуждал в нем жажду обладания. Где бы он ни стоял, куда бы ни шел, его охватывало желание. Он проскальзывал в кухню, брал хрупкую, слабо сопротивлявшуюся жену на руки и нес ее на кровать или опускал на ковер. Бережность, с какой надо было все это делать, возбуждала его еще больше. Он распахивал ее халат и осторожно, но не особенно щадя ее, добирался до тела Руфи, которое, сопротивляясь, все же тянулось ему навстречу и побуждало к маленькому штурму. Зуттеру не надо было изловчаться, его валет сам знал, что делать. И это было любовью почти до ее последнего дня, независимо от того, оставались ли они еще мужем и женой.
Часто в их объятия вмешивалась кошка, вызывая у них отнюдь не веселую улыбку. В игривом настроении кошка прыгала на все, что двигалось, к примеру на ноги Руфи и Зуттера, обхватывала их передними лапами, а задними скреблась о них. При этом она все глубже вдавливала зубы в человеческое тело, жмурилась или свирепо поводила глазами.
«На помощь, – вскрикивала тогда Руфь, – зверек, звереныш, дикий зверь!» После чего кошка прыгала на ее руку и еще сильнее сучила ногами и пускала в ход зубки, пока рука не становилась вялой. В таком виде она ее больше не интересовала. Кошка успокаивалась и засыпала на руке Руфи или Зуттера. Часто это была рука Руфи. Тогда Зуттер мог встать и приготовить завтрак для всех троих. После этого в настроении, которое он называл пасхальным, Зуттер садился за компьютер, чтобы выполнить свою ежедневную норму.
– С электрической открывалкой ничего не получится, кошка, – сказал Зуттер, – но у меня появилась идея. Для чего я был солдатом? Чтобы иметь солдатский нож. А зачем мужчине солдатский нож? Чтобы им пользоваться. Вопрос в том, найду ли я его. Этот нож никогда не употребляли по назначению, только для того, чтобы что-нибудь почистить. Подходящий предмет для воспитания мужчины. Но, как говаривала Руфь, никогда не знаешь, на что пригодится тот или иной предмет. Насколько я знаю, он лежит в самом нижнем ящике письменного стола, вместе со всем, что, как нам кажется, когда-нибудь может пригодиться. Или что было жаль выбросить, как эти две данхилловские трубки, стопка визитных карточек и – о господи! – вибратор. Ура, кошка, вот он, наш швейцарский нож, сейчас мы его потревожим. Посмотрим, не разучились ли мы пользоваться швейцарским ножом. Сломим ли мы им сопротивление этой банки с твоим отвратительным кормом?
И хотя Зуттер никогда особенно не умел орудовать консервным ножом, на этот раз он на удивление ловко справился со своей задачей, вырезая из крышки одну полоску с острыми краями за другой. Наконец содержимое банки так быстро вывалилось в миску, что кошка едва успела отдернуть свою мордочку, а потом, уже без помех, принялась за еду.
Пока Зуттер пытался тряпкой затереть пятно на новых брюках, сделав при этом его еще более заметным, кошка утолила голод и запрокидывала голову, избавляясь от застрявших в зубах остатков корма. Все еще облизываясь и причмокивая, она подошла к багажу и обнюхала небольшое сооружение из приготовленных к отъезду вещей: Зуттер аккуратно сложил их, чтобы легче было обнаружить, не забыл ли он что-нибудь. Ящичек из светлого дерева стоял чуть в стороне. К нему Зуттер прислонил небольшой джутовый мешок с камнями, найденными в карманах Руфиной шинели. Здесь кошка задержалась дольше всего.
– Да, – сказал Зуттер, – это был человек.
Внезапно кошка стремительно, словно ее укусила оса, прыгнула к двери и пронзительным голосом потребовала выпустить ее во двор. Она заметила корзину с крышкой, которую Зуттер спрятал за чемоданом.
– Ничего не поможет, кошка, – сказал он. – Будешь жить с кенгуру, а пока посидишь в корзине. Полезай туда, и немедленно. Сперва устрою тебя в надежном месте, иначе ты просто не дашь мне вынести вещи из дома.
Зуттер поднял кошку, которая упиралась; оно и неудивительно: он схватил ее неловко, чувствуя за собой вину. Прижав ее к себе, он ткнулся носом в дрожащее, дергавшееся черное тельце. В голову ему пришел стих, который часто повторяла про себя Руфь: «О алая заря! Пора рассвета!» Из глаз его брызнули слезы, и животное успокоилось. Он осторожно взял его за загривок и поднял. Оно не трепыхалось, на его мордочке появилось выражение такого ангельского блаженства, что Зуттер улыбнулся. Кошка позволила опустить себя в плетеную корзину и не издала ни звука, когда Зуттер закрыл крышку.
Словно зажженный фонарь, поднял Зуттер с пола корзину с успокоившимся зверьком и пошел к машине, чтобы поставить ее на заднее сиденье. Вряд ли кошка там долго продержится.
30
Зуттер надел вельветовые брюки песочного цвета, Руфь называла их штанишками. И не забыть почистить зубы. «Почисти свой зуб», – говорила Руфь. Да, Зуттер, забыть почистить зубы – последнее дело. Все равно что: Зуттер, иди умойся. Маленький мальчик Зуттер.
– Почему ты вышла за меня? – спросил Зуттер, когда они в ноябре еще могли сидеть на террасе, ноги Руфи были укрыты одеялом из верблюжьей шерсти. Листья декоративной вишни окрасились в багровый, красно-бурый цвет.
– А почему ты женился на мне?
– Я первый спросил.
– Потому что мне с тобой весело, – сказала она.
– Ты шутишь.
– Шучу. Мне с тобой зуттерно.
Мужчина, жена которого лишила себя жизни, не любит смотреться в зеркало. Зуттер, чистя зубы, и раньше не смотрел себе в лицо. А теперь тем более.
Странно, что зубы ему все еще не отказывают, хотя он уже десятилетия плохо за ними следит. Последний раз он основательно чинил их лет двадцать назад, и врач тогда сказал: «Вы многое упустили между пятнадцатью и двадцатью годами и теперь отдуваетесь. Расплачиваться будете, когда состаритесь».
Он представлял себе, как у него внезапно сыплются зубы. Во сне они катались во рту, как галька, языком он ощупывал камешки и проводил по пустой челюсти. Тогда он не сомневался, что в одно прекрасное утро так все и случится. Но с тех пор он почти не заглядывал к стоматологу, и когда теперь ощупывал зубы языком, его трогало их присутствие, они казались ему стражами, добровольно оставшимися там, где когда-то им приказали стоять, как японские солдаты на острове, хотя война уже давно закончилась. В нем еще было нечто, что его не подводило.
Покажи зубы, Зуттер, хотя бы самому себе.
Руфь никогда не говорила ему «мой муж», только по телефону с третьими лицами или с каким-нибудь учреждением. Даже когда она заболела, ничто не могло заставить ее назвать его по имени. И когда он приводил ее в восторг, ей не нужно было называть его по имени.
– Мы проживем здесь девяносто девять лет, – со смехом сказала она, когда они поселились в «Шмелях». – Представь себе: девяносто девять лет – и за вполне приемлемую цену!
– А я рассчитывал прожить с тобой сто лет.
Она перестала смеяться. До девяносто девяти – это она еще понимала. Но сто – тут ей было уже не до шуток.
– Ты можешь себе представить, что мы доживем до нового тысячелетия? – как-то спросил он ее. О болезни тогда еще не было и речи.
– К тому времени мир погибнет, – ответила она, – непременно.
Но вот год стал писаться с тремя нулями, и у Зуттера не осталось ни одного человека, для которого его фамилия значила бы так много, что о ней приходилось умалчивать. Ему никогда не хотелось взять себе фамилию «Ронер», хотя гражданское право теперь позволяло мужу носить фамилию жены. Но она не только свой рак и своего мужа, но и свою фамилию рассматривала как случайность. Она придумала ему другую фамилию, фамилию французского художника, только с двумя «т». Как бы она звала его, будь он котом? Наверное, Человек?
Он бы никогда не стал разрывать себя пополам, как тот сказочный Румпельштильцхен [24]24
Персонаж одноименной сказки братьев Гримм.
[Закрыть], из-за того, что кто-то угадал, как его зовут.
– Прощай, – сказал Зуттер своему отражению в зеркале.
Он видел, как белоснежной пены у него во рту становится все меньше, и слышал, как внутри его черепа что-то чуть слышно зашипело.
31
– Тише, кошка, мы уже почти приехали, – крикнул Зуттер, повернувшись к корзине на заднем сиденье и стараясь перекричать шум движущегося автомобиля. Но плач кошки заглушал шуршание шин, стук подвески на булыжной мостовой, истончал до предела то, что Руфь называла «костюмом для нервов». Под ним Зуттер представлял себе сетку, наброшенную на моллюска или на мясной рулет. Но в критические моменты у него не оказывалось даже этой сетки. И он выходил из себя. Или превращался в готовый взорваться студень.








