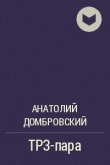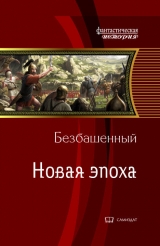
Текст книги "Новая эпоха (СИ)"
Автор книги: Безбашенный
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц)
Там же, где требуется нормальная – ну, относительно, по сравнению с этой сволочной сталью Гадфильда – обрабатываемость резанием, приходится нормальную нержавейку городить, то бишь хромоникелевую. С рудами хрома и никеля, пригодными для разработки по античным технологиям, у нас пока проблемы – или слишком бедные, или глубоко залегают, и тот способ, которым мы свою нержавейку получаем, любой современный металлург дикарским бы посчитал. Собственно, так оно и есть – испанские иберы для получения нержавеющей железяки в земле природно-легированную крицу выржавливают, оставляя только богатую халявными присадками часть, а мы делаем по сути то же самое, только многократно ускорив процесс ржавления за счёт применения "багдадской" батареи – типа тех, от которых мы аппараты наши телефонные заряжаем. Я ведь упоминал уже как-то, что железный электрод в означенной "багдадской" батарее – расходный, интенсивно ржавеющий и осыпающийся в процессе её работы? Вот этот эффект мы и используем. Крицы эти природно-легированные – конечно, предварительно прокованные – нам кузнецы кониев дают, которые быстро просекли фишку, а мы с ними за это обогащёнными остатками тех криц делимся. Пока производство нержавейки не массовое, а просто идёт отработка технологии – хватает и нам, и им. В дальнейшем, когда на Кубе колония более-менее на ноги встанет – там это производство развернём…
Пришли же мы к такой технологии оттого, что один хрен гальваника нужна – для получения электротехнической меди. Обычная-то медь, что металлургами местными выплавляется, по современным понятиям черновая. Только если очень крупно повезло с месторождением, и в полученном металле почти нет ни свинца, ни висмута, эта медь более-менее близка по свойствам к привычной нам. Но таких месторождений с гулькин хрен, и в основном они давно уже выработаны, и цена на металл с них соответствующая – часто дороже бронзы бывает. Но даже и такая медь, как выразился о ней Серёга – скорее сопротивление, чем проводник, а что уж тут об обычной массовой меди говорить? Вот и приходится её рафинировать, то бишь от вредных примесей очищать. И местной античной металлургии огневое рафинирование меди известно – часть металла угорает при этой вторичной плавке, зато выгорает и большая часть примесей, и оставшаяся медь гораздо чище получается, но один хрен всё ещё ни разу не электротехническая – только разве что на поделки медников, да на чеканку монеты и годится. Чтобы в электротехническую её превратить – уже гальваническое рафинирование нужно. Классика жанра – электролиз медного купороса, когда на аноде кислород выделяется, а на катоде химически чистая медь осаживается. Медный купорос Серёга нашёл – вылетело из башки, как минерал дразнится, но по делу это именно медный купорос, то бишь сернокислая медь, которая нам и требовалась. На анод, чтоб не растворялся, графит применили, на катод – проволоку из той дефицитной и дорогущей чистой меди, на которую свою медь и наращивали. При этом и серную кислоту заодно получили, которая нам уж всяко пригодится.
Теперь-то, имея запасец и электротехнической меди, и кислоты, мы процесс разнообразим. Если медь нужна, то растворимый анод из нерафинированной меди, с которого она и переходит уже в чистом виде на катод. А если больше нужна кислота, то анод применяем графитовый, а расходным материалом тот медный купорос служит по мере его добычи. А кислоты ведь на перспективу прорва нужна – хотя бы на ту же самую нитровзрывчатку. И сама серная нужна будет в качестве катализатора при нитровании, и азотная, которую из селитры с помощью серной кислоты получать будем. Хоть и есть селитра в Испании в виде многовековых залежей гуано летучих мышей в пещерах, это ж не значит, что транжирить её следует бездумно. Мы и на удобрения-то её не тратим, за счёт севооборота бобовых дефицит азота в почве восполняя, но на чёрный порох селитру расходовать – тоже транжирство, когда бездымный пироксилиновый раза в четыре его мощнее. Пока-что, не имея цинка и латуни на гильзы унитарных патронов, вынуждены чёрным порохом довольствоваться, но подходящие для разработки руды Серёга ищет и найдёт рано или поздно, а со шлифовальным оборудованием – благо, абразив есть – и я на подходе, и уж штамповку толстостенных цилиндрических гильз мы тогда всяко осилим…
Пока же мы по огнестрелу в доунитарной эпохе. Более того, светить его тоже нельзя, дабы римляне не заинтересовались, а то ведь если заинтересуются – отвертеться будет нелегко. В основном поэтому в колониях его внедрять и обкатывать планируем, где нет и не может быть никаких завидючих римских глаз и ушей. Тут как раз очень кстати у нас легированная сталь подоспела – ведь на той же Кубе в дождливый сезон простая сталь ржавеет куда быстрее, чем в Средиземноморье. Простая-то дульнозарядка примитивная заржавеет – и то жалко, а мы ведь минуем архаичный дульнозарядный этап, мы ведь сразу с казнозарядного начинаем. И чтоб скорострельность повыше была, и чтоб нарезные стволы сразу применять, да и чистить ведь казнозарядный огнестрел не в пример удобнее. Поэтому все эти аркебузы, мушкеты, фузеи и даже егерские штуцеры и винтовки первой половины девятнадцатого века дружной толпой идут на хрен. У нас тут, хвала богам, уже промышленный переворот на родной Турдетанщине наметился, хоть и мелкомасштабный и далеко не всеобъемлющий по причине вынужденной скрытности. Но станки у нас, хоть и в малом количестве, зато такие, о которых и не помышляли оружейники шестнадцатого и семнадцатого веков. Плевать, что станины у них в основном всё ещё деревянные – разве в этом суть? Суть в навороченности, и по ней мы уже в девятнадцатый век сходу въехали, а имея оборудование девятнадцатого века, да оружия его середины не осилить – стыдно-с было бы, господа.
Вспоминая с Володей и Серёгой форумные срачи по поводу попаданческого огнестрела, в которых мы трое, как выяснилось, в прежней жизни участвовали, мы теперь откровенно ржали от тех заведомо неоптимальных схем, которые и раскритиковывались в пух и прах великими форумными гуру-специалистами, обосновывавшими непригодность казнозарядных винтовок доунитарной эпохи. Произнесут магическое слово "обтюрация" и примутся критиковать исключительно те схемы, на которых её без унитара заведомо обеспечить невозможно – типа откидного затвора, например. Вспомнят о возможностях производства, и тут же учинят оголтелую травлю самым сложным и нетехнологичным образцам вроде винтовки Фергюсона. Правильно, многозаходная резьба, которой в ней и обеспечивается обтюрация – и в нашем современном производстве задача не из простых, а открывать и закрывать затвор аккуратными поворотами многозаходного винта – задача уж всяко не для косорукого среднестатистического рекрута, и понятно, почему этих винтовок было выпущено лишь немногим более сотни штук – ага, даже в промышленно развитой Англии. И при этом, что весьма характерно, ни одна сравшаяся на форумах по поводу неунитарных казнозарядок сволочь так и не вспомнила о винтовке Холла – единственной из всех ей подобных, официально принятой на вооружение и выпущенной в кремнёвом, а затем и в капсюльном вариантах в количестве более двадцати тысяч штук. Качающийся в вертикальной плоскости на шарнирной оси затвор-казённик обеспечивал лёгкое и удобное перезаряжание, а обтюрация, хоть и не была абсолютной, была всё-же на не сильно ещё изношенной винтовке вполне достаточной. Ведь несколько лет винтовку Холла изучали и испытывали, прежде чем на вооружение её принять, и говно хрен бы кто принял.
Тем более, что и задача обтюрации при износе для схемы Холла была вполне решаемой и почти решённой и на ней самой, и на французском крепостном ружье Фалиса, у которого затвор-казённик при запирании надвигался на ствол. В России попытки его выпуска себя не показали из-за низкой культуры производства – до двух третей ружей на испытаниях браковалось из-за прорыва газов, и пришлось заказывать его основные партии в Бельгии, но ведь тут-то как раз и напрашивается уминающаяся при первом запирании затвора по месту прокладка-обтюратор из мягкого металла. Свинцовый обтюратор вроде того, что мы на наших револьверах применяем, на мощной винтовке, конечно, и раздуть может, ну так на то у нас теперь и медь электротехническая имеется, с которой в первой половине девятнадцатого века дела обстояли далеко не блестяще. Так что для заокеанской вест-индской колонии, где на всякий пожарный, особенно учитывая неизбежные на море случайности, автономность желательна, усовершенствованная путём надвигания затвора-казённика на ствол и снабжённая медным обтюратором винтовка Холла – Фалиса напрашивается сама собой. Пожалуй, даже в кремнёвом варианте, дабы и от капсюлей в случае чего не зависеть. Ну и пистолет той же системы просится туда же, до кучи…
Основная проблема сейчас – фрезерные и шлифовальные станки – не такие, как примитивный заточной, уже античному миру известный, а серьёзные, типа современных. В реале их появление – это в основном уже вторая половина девятнадцатого века. Ну, их прототипы-то и в первой его половине были, но такие, что без слёз не взглянешь. О более ранних фрезерных станках, например, у которых даже и фрезы-то настоящей не было, а вращался вместо неё круглый напильник, шарошка по сути дела, и говорить смешно. Это у нас есть уже сейчас, да и не только это.
Лесопилку, что самое интересное, римляне в имперский период изобретут – самую натуральную, от водяного колеса, которое им тоже будет прекрасно известно – целые многокаскадные водяные мельницы у них местами стоять будут. То есть источник халявной энергии они знают, механизм привода, судя по лесопилке – тоже. Ну, или будут знать, что точнее. Сами додумаются или греки подвластные им изобретут – уже не столь важно. Важно то, что и инструмент-то режущий им известен – и напильник, и пила, от которой недолго уже было бы додуматься и до ножовки по металлу, а с ней – и до аналога той своей лесопилки, только для распиливания металла – эдакий античный ножовочный отрезной станок. А по образу и подобию машинного ножовочного полотна и напильник ведь большой машинный тоже напрашивается, а вслед за ним – и аналогичный по своему устройству ножовочному опиловочный станок – даёшь, типа, механизацию слесарных работ. Хоть и не фрезерные это ещё станки, а их примитивный слесарный аналог, многие работы современных фрезерных станков они вполне могли бы выполнять. Хрен с ним, даже с тем реактивно-паровым ротором Герона Александрийского, на полноценную паровую машину ну никак не тянущим, но и без паровой машины Уатта наш реальный мир прекрасно обходился хорошо известным ещё римлянам водяным приводом весь восемнадцатый век. Ладно, во времена ранней Империи римляне будут ещё избалованы дешёвыми рабами, но уже во втором веке – собственно, сразу после Траяна и Адриана – захлебнётся римская имперская экспансия, и рабы начнут неуклонно дорожать. Вот тут бы и пригодились Риму все эти механические заделы, что позволяли механизировать труд и резко снизить свою потребность в рабских трудовых ресурсах. Это ж, как прикинешь и проанализируешь всё, что в нашей реальной истории римлянам было прекрасно известно, так невольно придёшь к выводу, что в период своего наивысшего расцвета этот античный мир стоял на пороге собственной индустриальной революции, которую бездарно просрал. Ну и не уроды ли они ущербные после этого?
Мы, испанские варвары, ни разу не греки и ни разу не римляне, такой роскоши позволить себе не можем. Это Рим мог надеяться пережить все свои передряги за счёт своих имперских размеров и мощи – размер всё-таки имеет значение. В конце концов, в реале ведь это удалось восточной половине Империи – Византии, так что были, надо думать, в принципе какие-то основания для оптимизма и у римского Запада. Но у нас нет и не будет ни тех имперских размеров, ни той имперской мощи, и источник дешёвых рабов для нас иссякнет куда раньше, чем для Рима – эдак на пару столетий раньше. Ну, если черномазых африканских в расчёт не брать, которые нам здесь на хрен не нужны, да тех гойкомитичей американских, которые от любого чиха как мухи мрут, а рассматривать только нормальный вариант типа европейцев с азиатами. Так что не подходит нам даже в теории тот римский имперский оптимизм, а реально надо – и это даже если на задуманное нами полноценное прогрессорство не замахиваться, а только эти античные достижения сохранять и оберегать – загодя к дефициту дёшёвой и грубой рабочей силы готовиться, снижая свою потребность в ней настолько, насколько это вообще возможно. И пока нет настоящих фрез и настоящих фрезерных станков – хотя бы уж и этот механизированный слесарный паллиатив на безрыбье сойдёт. Раз уж есть водяное колесо, есть кривошипно-шатунный механизм, есть тигельная сталь и технология её науглероживания и закалки – вынь, да положь машинные ножовочные полотна и напильники, а к ним и оборудование соответствующее. Естественно, этим мы и занялись при первой же возможности, хоть и жаль переводимого в опилки металла, который, в отличие от более крупной стружки, хрен весь в переплавку соберёшь. Но экономия рабочей силы важнее, а металл – ну, пока фрез и фрезерных станков у нас нет, приходится пока-что и в опилки переводить. В окалину его, что ли, при той же традиционной ковке мало уходит? Бывает, что и до четверти! А посему и нехрен тут особо комплексовать – пилите, Шура, они золотые…
Фрезы, конечно, тоже будут ещё те – ни разу не быстрорежущие стали, без вольфрама и технологий его выплавки для нас недоступные, а обычные углеродистые типа тех же ножовочных полотен с напильниками. Калёную сталь такими хрен угрызёшь, да и сырую – считанные метры в минуту скорость резания будет. Для меня эта картина маслом как для современного производственника – удручающая. Это даже не картина Репина "Приплыли", млять, это скорее картина неизвестного художника "Доплавались". Но именно на таких скоростях и резали металл весь реальный восемнадцатый и первую половину девятнадцатого века, да и во второй его половине далеко не весь мир еще на тот самокальный вольфрамистый быстрорез перешёл. Вот и мы, пока вольфрам выплавлять не научимся, так и будем резать в час по чайной ложке, потому как без вольфрама не видать нам ни быстрорежущих сталей, ни, тем более, твёрдых сплавов. И там, и там основной режущий компонент – карбид вольфрама. Но главное – и теми углеродистыми фрезами мы ощутимо повысим производительность по сравнению с нынешней даже машинной опиловкой, а заодно и конструкции фрезерных станков отработаем и до ума доведём, а вместе с ними – и аналогичных им шлифовальных, для кругов которых абразив уже есть. Штампы, например, для тех же патронных гильз – только шлифовать, да и тот же самый инструмент металлорежущий тоже, включая и его заточку. Да и валки прокатные тоже желательно, а не так, как мои рабы сейчас с ними мучаются, полируя их после токарного обтачивания абразивными оселками по лекалам. В смысле, на том же станке, конечно, не совсем уж врукопашную, но один хрен удручающе примитивно. А куды деваться?
Над чем мы ещё ржали в тех околопопаданческих производственных срачах – так это над "плачем Ярославны" по поводу отсутствия КИП. Контрольно-измерительные приборы, если кто не в курсах. Любят обезьяны солидные мудрёные названия, а на самом деле под этой грозной аббревиатурой кроется как правило не компьютерный томограф и даже не оптический мелкоскоп, а обыкновенный мерительный инструмент типа тех же штангенциркуля с мелкометром. Наверное, те обезьяны и их наблюдали исключительно навороченные, с электронным табло, гы-гы! Ну да, есть и такие, и это – ага, уже аж целые приборы. Но есть и самые обычные, безо всякой электроники, а с простой размеченной шкалой, и если и это аж за целый прибор считать, то "сорок пять" им всем, паникёрам этим. Не слыхали этот анекдот? Млять, и чему вас только в школе учили? Слухайте сюды. Пилот штурману: "Штурман, прибор?" Штурман в ответ: "Сорок пять!" Пилот: "Чего сорок пять?" Штурман: "А чего прибор?" А самое смешное, что во многих случаях даже и этих недоприборов для производства не требуется, а вполне хватает специализированных шаблонов, калибр-пробок, да калибр-скоб под проходной и непроходной размеры. Если проходной идёт, а непроходной – нет, то размер в допуске, и беспокоиться нам не о чем. Смысл ведь всей этой стандартизации в чём? Чтоб ответные детали в сборке друг дружке подходили, иначе сборка не соберётся. Причём, в широком смысле и боевой патрон – тоже ответная деталь к револьверу или винтовке в большой сборке "заряженное оружие", обязанная подходить к их патронникам. Но и тут фокус в том, что если все мои калибры с шаблонами сделаны под один и тот же ошибочно замеренный размер 9,ХЗ вместо 9,00, то что это значит? Что реальный калибр наших револьверов не ровно 9 мм, а вот эти 9,ХЗ, только и всего. И если учесть, что никто больше в этом мире окромя нас самих к нашим револьверам боеприпасов не производит, то и они, соответственно, к ним гарантированно подойдут, потому как и они тоже этого же реального калибра 9,ХЗ, который потому и ХЗ, что нам нечем его замерить точно. Ну так и хрен с ним, пущай себе ХЗ и остаётся. Нам же не шашечки, нам ехать, а точнее – в данном случае – стрелять.
Ну, есть ещё, конечно, фактор износа тех шаблонов с калибрами, и для их проверки поэтому нужны ещё поверочные ответные, в самом производстве никак не используемые и поэтому практически не изнашивающиеся. А ещё есть в принципе и температурный фактор – коэффициент температурного расширения у каждого материала свой, и то, что прекрасно стыкуется при одной температуре, может не состыковаться при другой. В реале я сталкивался с такой хренью, когда люминиевая деталь, изготовленная летом, оказалась не в допуске по тому же самому калибру зимой. Но то было один раз, то был люминий, и то была наша холодная Средняя полоса с её тридцатиградусной разницей между зимой и летом, и там был достаточно жёсткий допуск на тот размер, которого нам в Античности и технически не достичь, и по делу он никому на хрен не нужен.
Так то даже для огнестрела справедливо, который уже сейчас выпускается у нас не единично, а мелкосерийно и полной взаимозаменяемости как минимум боеприпаса требует, а в идеале – и всей комплектации. Чтоб если посеял, допустим, Серёга свой запасной обтюратор, а основной у него затравил, так любой из нас чтоб мог ему свой запасной дать в полной уверенности, что подойдёт. Или, скажем, подуло вдруг у одного ствол, а у другого камору барабана так, что хрен провернёшь, то надо ведь, чтобы можно было разобрать оба сломанных и собрать из них один работоспособный. Ещё важнее этот фактор станет, когда мы те винтовки Холла – Фалиса для колониальных войск выпускать почнём. Они ведь на Кубе в основном служить будут, а производство – тут, и запасы на колониальном оружейном складе тоже не бездонные. По этой причине мы и наметили в кремнёвом, а не в капсюльном варианте этот винтарь выпускать, но по этой же причине и возможность из двух один собрать там позарез нужна будет. Но и это всё вполне себе обеспечивается известными ещё с позднего Средневековья шаблонами и калибрами, а уж для холодняка типа солдатских меча и кинжала самый основной производственный КИП, то бишь означенный контрольно-измерительный прибор – вообще банальная линейка.
Мелкий прокат, осуществимый небольшими валками у нас уже идёт полным ходом. Медный лист, например, нужный для обшивки подводной части судов от морского червя-древоточца, на гадесскую верфь Тарквиниев второй год уже, как наш катаный идёт. Наловчившись и изучив все проблемы на нём, начали катать и бронзу Прокатываем и толстую проволоку – как медную и бронзовую, так с некоторых пор и стальную. Её мы, конечно, только в горячем виде катаем, а если её диаметр нужен ещё меньшим, чем мы прокатом обеспечить в состоянии, и после этого предполагается ещё и волочение, то ещё и отжиг её приходится делать, иначе нагартованную хрен сквозь фильеру протянешь. И от отожженной-то проволоки фильера, хоть и калёная, изнашивается быстро – случается, что и после одного мотка менять её нужно, и их то и дело приходится делать новые, заменяя ими изношенные в волочильной доске. Так это нам, имеющим уже нормальные токарные станки, а значит – и возможность делать сменные фильеры, а каково ж приходилось в той реальной истории средневековым мастерам-кольчужникам! У них ведь сменных фильер не было, а отверстия прямо в самой волочильной доске проводились, и если самое тонкое – а значит, и самое трудное в изготовлении – изнашивалось, то из-за него ведь, получается, всю волочильную доску новую делать требовалось. А металл той доски едва ли лучше нашего, скорее гораздо хуже, и изнашивалась она, скорее всего, быстрее нашей фильеры. Ну и сколько тех досок сменить придётся, пока на кольчугу достаточно той проволоки вытянешь?
Римляне, да и кельты тоже, и сирийцы антиоховы – в общем, все те, у кого на войне кольчуги применяются – волочением той железной проволоки поэтому даже и не заморачиваются, а тупо куют её, как удастся. Сколько металла у ихних оружейников при этом в окалину уходит – ужас. Мы пока издали только римских легионеров наблюдали, так к мелким деталям особо не приглядывались, но вот как побывал я в гостях у римских сельских гегемонов, когда о подмене своего семейства при моём "освобождении" со свёкром Летиции договаривался, да с его односельчанами о фиктивном рабстве остальных наших, а потом и всей компанией у них же снова побывали, когда "освобождаться" туда прибыли – вот тогда и пригляделись поближе к их висящим на стенах домов солдатским кольчугам. Млять, срань господня! Проволока колец – видно, что кованая, местами сечение раза в два отличается, в местах склёпывания у некоторых колец и разрывы в "ухах", так что держится плетение кое-где на соплях, да на честном латинском слове. А у каждого третьего – ну, из тех, у кого кольчуга имеется – кольца даже и не проволочные, а из плоского листа вырубленные – это ж все серединки, получается, в отходы идут, так мы-то такие отходы в тигле переплавить могли бы, а у них – только кузнечная сварка с теми же неизбежными потерями на окалину. Но видимо, так легче ту кольчугу сделать, раз на эти потери всё-таки идут. Наверное, и на цене это не сильно сказывается, иначе они у всех какого-то одного типа были бы, который подешевле.
Но разве одной только ценой тяжела кольчуга для римского легионера? Там же и железо говённое, не смазал своевременно жиром – мигом ржаветь начнёт, сволочь. А каково промазать качественно всю эту плетёнку? И каково потом носить её смазанную? Туника ведь тут же тем жиром засрётся и пропитается насквозь, так что и сам этим жиром извазюкаешься, а на марше в полной выкладке ещё и пыль на тот жир осядет, да налипнет, и отмывайся, да отстирывайся потом от всего этого говна. Не просто так и даже не ради "золотого" блеска римские всадники из тех, кто побогаче, не железную, а бронзовую кольчугу приобрести норовят. Хоть и дороже она намного, чем железная, зато не ржавеет и смазки не требует, и службу в ней тащишь как белый человек…
Вот поэтому-то мы и стремимся к тому, чтобы наша сталь не ржавела. Ведь боеспособность солдата – это не только его вооружение и выучка, не только мотивация, не только личная храбрость и дисциплинированность, но и то, как он отдохнул перед боем и как себя ощущает во всём своём снаряжении. Ну и технология, конечно, роль играет. У нас она по кольчужной части уже ни разу не античная, а даже по сравнению с развитой средневековой здорово усовершенствована. И фильеры сменные, и делает их токарь, не отвлекая волочильщика проволоки от его работы, и отжиг той проволоки у нас по уму налажен – не на углях жаровни, а в специальной печи и в специальной керамической таре, плотно крышкой закрывающейся, внутри которой перед тем весь кислород выжжён, и вообще воздух более тяжёлым углекислым газом вытеснен, так что окислять металл там и нечему. Ну, это в идеале, конечно, на самом деле не так всё хорошо, но потери металла на окалину, для проволоки особенно большие, у нас сведены к минимуму.
Опосля экскурсии мы объезжаем Лакобригу и направляемся к берегу моря. Слуги хлопочут над костром и шашлыком, а мы с удовольствием купаемся и загораем. И прибой океанский давно привычен и приятен, и хрен знает даже, как я раньше-то без него обходился, в прежней жизни. Вроде бы, и живём-то мы здесь, на этой южнолузитанской Турдетанщине всего ничего, каких-то пять лет от силы, да и сама она существует ничуть не дольше, а уже – родная. Дважды уже за неё воевали – ну, эти два раза не совсем за неё, строго говоря, но один ведь хрен в её интересах, а если и само её завоевание считать, то и трижды, и этот третий раз, который на самом деле первый – уж точно за неё, без дураков. В позапрошлом году, как раз перед последней войнушкой, и о культуре её позаботились, привезя аж из самого Коринфа и образцы самого передового греческого искусства, даже в самой Греции мало распространённого, и талантливейшего скульптора, хоть и ни разу не грека – Фарзой, тот мальчишка-раб Леонтиска, скифом оказался, да ещё и, помимо голых баб, большим докой по знаменитому скифскому "звериному" стилю, и сейчас вон сидит с нашей детворой у костра, да деревяшку обстругивает, что-то эдакое из неё вырезая – будет у кого нашим скульпторам учиться. А ещё мы привезли тогда и двух коринфских гетер высочайшей квалификации – ага, из той самой знаменитой коринфской школы, из которой и Таис Афинская, и Лаис Сицилийская, и Федра нынешняя Александрийская. Наши две, конечно, не столь знамениты, а если начистоту, то и вовсе не знамениты – не успели прославиться. Почти сразу после выпуска пришлось их оттуда забирать и увозить, покуда беды с ними не случилось. Слишком уж выдающимися оказались обе, чтобы в традиционном социуме преуспевать – не любят таких обычные посредственности, на их фоне свою ущербность ощущающие, а нам для наших целей – НАШИ традиции с нуля на голом месте создавать – как раз такие и требовались…
Бабы наши, конечно, сперва к ним настороженно отнеслись – шутка ли, две высококлассные профессиональные шлюхи тут не пойми зачем нарисовались! Но я ведь уже упоминал, кажется, что настоящая высококлассная гетера – на самом деле ни разу не враг семейным устоям? Она ведь если и даст кому-то на симпосионе, так только кому-то одному, да ещё и так зачастую, что до самого последнего момента её выбор для всех будет оставаться непредсказуемым. Ну, выбрала она кого-то одного, а завела-то ведь перед этим всю толпу, и тут – ага, расходитесь-ка вы теперь, ребята, по домам баиньки, и пусть вам приснится озорная и на всё согласная девочка, гы-гы! И расходятся означенные ребята – ага, вот в этом самом состоянии сухостоя – по домам, а дома кто? Правильно, жёны. И уж тут-то результат вполне предсказуем – даже у греков, законные супружницы которых в большинстве своём – тупые домашние курицы, а нередко и выбранные не самим женихом, а его родителями, его собственным мнением зачастую и не поинтересовавшимися. Но у нас-то ведь ситуёвина совсем другая, и бабы наши – совсем другие, так что и эффект у нас получается похлеще того греческого. А дальше ведь – больше.
Обеим девчатам у нас понравилось, но жизнь ведь есть жизнь, и на неё надо зарабатывать, чем они и занялись – ага, в том числе и звиздой. Вот только не совсем так, как некоторые особо испорченные тут наверняка сейчас подумали, а на свой особый манер. Баб наших они обучать своим премудростям начали, в том числе и – ага, звиздой правильно работать, когда делом с мужем занята. Наши первыми учиться у них начали, как раз первую группу и образовав, и не успели даже самого основного изучить, как за ними уже длиннющая очередь из жён и наложниц нашей оссонобской элиты выстроилась – в следующие учебные группы по этой самой части. Второй год уже истекает, как Аглея с Хитией у нас работают, а работа – ага, и звиздой тоже – всё не иссякает. Помимо этого и манерам изысканным учат, и тут уж не только бабам, тут и мужикам есть чему поучиться. Нам ведь и с римлянами контачить приходится, а у них там и по манерам встречают, и по одёжке. Я-то по простоте душевной думал, что раз схитрожопил и завёл моду носить уменьшенную и облегчённую тогу, так и нагребал этим всех, увильнув от массы проблем – ага, хрен там! Оказывается, это не просто малая тога, а тога этрусского типа, которая тоже не абы как носится, тут и с ней целая наука, млять. Полегче, чем с большой чисто римской, но тоже не так-то просто. Да ладно тога! Уж плащ-то армейский – казалось бы, с ним-то какие проблемы? Разве складками на плаще или манерой его накидывания крут матёрый вояка? А вот оказалось, что у греков – и этим тоже. Есть гегемонская манера ношения плаща, а есть и аристократическая, даже если сам плащ – подчёркнуто грубый солдатский. А римляне ведь теперь – в смысле, аристократы ихние – сами уже повадились всё у греков рафинированных обезьянничать, так что и это скоро будет иметь значение. Вот, млять, век живи, век учись, и один хрен дураком помрёшь!
А по осени ведь первый поток нашей детворы в школу пойдёт – ага, первый раз в первый класс. Обе гетеры – сильно похоже на то, что уже бывшие – давно уже бегло говорят по-турдетански, а Аглея уже и по-русски начала – ну, с ошибками, конечно, но понятно. Ну и кому мелюзгу греческому учить, как не ей? А физре – кому, как не Хитии? Кому, как не им обеим, сразу же и хорошим манерам нашу школоту поучить? Да и той же истории детвору учить – той её части, которая и для этого мира уже история – Юлька уже на полном серьёзе и их в помощь привлечь планирует. Кто лучше гречанок передаст сам дух классической Греции?
Пока ещё не до конца определились с учебной программой первого класса. Но те же языки и та же хотя бы вводно-ознакомительная история, которая у нас в чётвёртом классе преподавалась, тут явно напрашиваются уже с первого класса. Естественно, на щадящем для детворы уровне, и из-за увеличившегося числа предметов придётся, видимо, обходиться пока без домашних заданий. Ясный хрен, никакой греческой монополии по той же истории и культуре никто допускать не собирается – храм Астарты в финикийской части Оссонобы уже интересуется, будет ли преподаваться история и культура Финикии, да ещё и с эдаким намёком, что препод – не проблема, найдётся кому. И уж не приходится сомневаться, что преподшей будет жрица высшего разряда, и причина тоже понятна – не дуры они там в своём храме и прекрасно соображают, что в старших классах и ещё кое-что преподаваться будет, в чём храму от греческих гетер отстать нежелательно. Ну, тут мы только за. Верховную, конечно, предупредили, что финикийский язык программой первого класса не предусмотрен, и далеко не все им владеют, так что преподавание – только на турдетанском и исключительно в светском духе. Мы ведь и из Коринфа не храмовых жриц привезли, верно? Так что религиоведение – тоже только для старших классов и исключительно в рамках программы, которая будет установлена и утверждена особо. Миликон вон уже озаботился и поиском подходящего грамотного жреца Нетона и знатока истории Тартесса – тоже ведь понимает, что дело государственной важности…