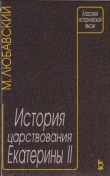Текст книги "Украденный трон"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
За ночь Екатерина обессилела, ей казалось, что всё в ней уже омертвело от боли и ужаса, но начинались новые схватки, ещё более тяжёлые и длительные, и она кричала, стонала, выла от страха, что вот-вот умрёт. Никто не приходил к ней, только акушерка держала её за руку и изредка приговаривала:
– Ничего, ничего, скоро всё пройдёт, тужься, матушка, тужься...
Екатерина ненавидела в эти минуты всех, захлёбывалась слезами, не видела и не слышала ничего, вся сосредоточившись на страшной боли, разрывавшей её.
Только около полудня Екатерина наконец разрешилась младенцем. Елизавета, с самого утра дежурившая возле родильного ложа, тотчас кликнула своего духовника. Тот окропил ребёнка святой водой, дал ему имя – Павел. Его завернули и торопливо унесли в покои Елизаветы.
Екатерина осталась одна. Россия получила наследника, великая княгиня выполнила свою задачу и теперь уже не интересовала никого.
Родильная постель была устроена прямо против двери, из-под которой немилосердно дуло, пробивался свет, занавешенные большие окна плохо закрывались, а направо и налево от родильной постели стояли распахнутыми ещё две двери – в уборную и в комнату статс-дам. Екатерина пыталась закутаться в сырые простыни, но те совсем не держали тепла. Вся мокрая, в крови, лежала Екатерина на постели и тщетно пыталась докричаться хоть до кого-нибудь.
Наконец явилась от Елизаветы Владиславова. Екатерина пожаловалась, что ей холодно, она вся промокла, что снизу, из дверей и окон, дует, что она смертельно устала. Единственное, о чём она попросила свою статс-даму, – помочь ей перебраться на кровать, в тёплые пуховики, под тёплое одеяло, сменить мокрую рубашку и простыни, подать ей пить.
И на все просьбы получала один и тот же ответ:
– Не смею, ваше императорское высочество...
Владиславову можно было понять, и Екатерина, измученная долгими и трудными родами, понимала её. Эта статс-дама впервые присутствовала при августейших родах, и малейшая ошибка могла бы стоить ей не только места и положения при дворе, но и головы.
Статс-дама только постоянно посылала за акушеркой, но Елизавета не отпустила ту, пока всё, что было связано с ребёнком, не было сделано. Важен был наследник, а не его мать.
Слёзы потоком лились из глаз Екатерины. Все оставили августейшую родильницу.
Пришла, однако, графиня Шувалова, разодетая в пух и прах ради такого торжественного случая. Она увидела, что Екатерина всё ещё лежит на полу, на безобразных сквозняках, в мокром от крови белье и мокрых простынях, и никого при ней нет, и никто не смеет ничего предпринять, чтобы помочь ей.
И снова Екатерина лежала одна, продуваемая сквозняками, кутаясь в мокрые простыни и заливаясь слезами. И опять приходила эта статс-дама, которая ничего не смеет тронуть без позволения, без разрешения императрицы.
Когда акушерка вернулась от императрицы, она выругала Владиславову, обвинила её чуть не в государственной измене и желании смерти великой княгини. Но Екатерине от этого не полегчало.
Она не помнила, как её перетащили на сухую постель, как закутали в тёплые одеяла, как дали воды. Никто и не подумал посидеть рядом с нею, никто не позаботился, чтобы узнать, как она себя чувствует. Акушерка снова ушла к императрице, потому что та не отпускала её ни на шаг. Владиславова запёрлась в своей комнате. И больше в этот радостный для страны день Екатерина не видела никого. Никто не подумал о том, чтобы покормить её, никто не оставил ей стакан воды рядом с постелью, никто не навестил её. Она сделала своё дело и больше была не нужна...
Вспоминая свои первые роды, Екатерина могла бы даже и не притворяться. Ещё до сих пор мучила её обида, терзало удивительное бездушие. Великий князь всю неделю пил по поводу рождения наследника и своего принца, но ни разу не заглянул к роженице, чтобы хоть пожелать ей доброго здоровья. Оставленная всеми, всеми покинутая, она твёрдо решила, что это будут первые и последние роды, которые прошли так бестолково. В следующий раз и где бы то ни было она сама позаботится о себе, раз уж нет никого, кто взял бы на себя эту обязанность. Так всё и вышло. До малейшей мелочи Екатерина продумывала всё заранее, не надеясь ни на кого. Она одна и должна полагаться только на самое себя...
Ревматические боли, сильный жар, лихорадка – вер это оказалось следствием небрежности и невнимания к роженице. Великий князь забежал на минутку, сообщил, что у него дел невпроворот – приёмы, балы, карнавалы, – и выскочил, забыв поинтересоваться здоровьем супруги. На третий день от императрицы пришли спросить, не в этой ли комнате забыла Елизавета свою голубую мантилью, мягкую и меховую, тёплую и удобную, чтобы прикрыть ноги. Её не оказалось. Вот и послали спросить, не здесь ли императрица оставила эту вещь. Разыскали – лежала в углу комнаты. Уборки у роженицы не было, всё так и валялось, как во время родов.
Слёзы лились из глаз, но Екатерина не жаловалась. Предчувствие своей судьбы заставляло её скрывать горькие выражения чувств. И во всё время своего правления никогда не жаловалась она никому – да и некому было. Это от неё ждали сочувствия...
Вся страна праздновала великое рождение наследника престола. При дворе балы чередовались с карнавалами, званые обеды с роскошными куртагами. Все блистали золотом, серебром, бриллиантами. И только до женщины, давшей всем причину радоваться, никому не было дела. Её покормили, и то достаточно скудно, только на третий день.
На шестой день её навестила императрица, та самая, что теперь лежала в этом роскошном гробу, убранная словно невеста. За ней на золотом блюде несли сто тысяч рублей и крохотный ларчик с простеньким ожерельем, серьгами и двумя колечками.
Деньги были кстати – у Екатерины всегда оставалось меньше денег, чем долгов. Но их тут же забрал великий князь, чрезвычайно обидевшийся, что не ему они адресованы. Он выпросил у тётки также сто тысяч, а поскольку в казне не было ни копейки, пришлось Екатерине отдать эти сто тысяч.
Даже сына своего Екатерина не видела первые сорок дней. Ей не показывали его, а узнавать о здоровье ребёнка значило бы не доверять императрице. По обрывкам фраз, по недомолвкам Екатерина знала, что его душили заботами – едва он кричал, совали в рот грудь кормилицы, держали в душной комнате, пеленали во фланель, укладывали в колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы, да ещё сверху закрывали атласным одеялом, также подбитым мехом черно-бурой лисицы. Младенец потел, кричал, болел, но на него наваливали ещё больше одеял и мехов. От малейшего дуновения воздуха Павел болел и простуживался.
Но мать этого августейшего ребёнка могла только стонать и плакать в своей одинокой постели...
Сорок дней она не видела своего сына, а когда его принесли к ней и она протянула руки, чтобы увидеть своё дитя, его тут же унесли. Мать всё ещё болела, она не могла встать с постели, и Елизавете не хотелось, чтобы её наследник тоже болел...
...Екатерина всё ещё плакала, положив руки на край последнего ложа императрицы, как вдруг почувствовала толчок под сердцем. Раз и другой завозился, переворачивался в ней её ребёнок, её дитя. Она замерла. Только этого не хватало, едва не сказала она вслух. Она знала, что беременна, и теперь-то уж она никак не могла обвинить в этом мужа – уже много месяцев он даже не заходил в её спальню. Она знала, что беременна – уже и лицо её было чуть тронуто тёмными пятнами, уже и подташнивало её по утрам, и еда казалась ей пресной, и требовалось горького и солёного. Но так скоро?
Значит, в первую же ночь с Григорием она понесла. Ах, как она любовалась им, её любимым! Удивительной красоты голова, голова самого Аполлона, нежные, тонкие черты лица, белоснежная кожа, словно у молоденькой девушки, то и дело вспыхивающая розовым румянцем. И прекрасное тело атлета, мускулистое и гибкое, стройное и здоровое.
Она влюбилась в него сразу, как только ей показали его, и долго страдала, что он не удостаивает её своего внимания. Его громкие и скандальные романы создали ему славу завзятого сердцееда. И Екатерина не устояла! На какие только уловки не пускалась она, чтобы привлечь его, каких только самых обольстительных улыбок не посылала ему.
А потом она любовалась им, как хорошенькой статуэткой, как искусной работы фарфоровой чашкой, и так же боялась разбить. Она вспомнила их удивительные ночи, наполненные страстью и негой.
Но ребёнок! Как он теперь некстати! И так уж Пётр косо посматривает на неё, а если он узнает, ничего не остановит его. И тогда либо монастырь, либо тюрьма.
Ребёнок... Нет, она не чувствовала в себе привязанности к детям. Старшего, Павла[26]26
Павел I (1754 – 1801) – российский император, сын Петра III и Екатерины II. Во время правления ввёл военно-полицейский режим. Убит заговорщиками-дворянами.
[Закрыть], в сущности, воспитывала Елизавета, изредка показывая его Екатерине, не позволяя ей привязаться к собственному сыну. Она, эта лежащая здесь, сейчас женщина, как будто ревновала её к Павлу, задаривала мальчика, закармливала сладостями, кутала и ужасалась при каждом неровном вздохе.
Принцессу Анну, свою дочь, Екатерина тоже почти не видела. Елизавета взяла на себя заботу и о ней. Потому Екатерина и не слишком горевала, когда девочка умерла от оспы в двухлетнем возрасте.
Но теперь?! Значит, через два месяца ей уже нельзя будет показываться на людях, особенно на глаза Петру, уже и сейчас широкие траурные одежды лишь прикрывают выступающий живот.
Екатерина закусила губы. Что с нею будет, если тайна её беременности раскроется? Статс-дама Катя Шаргородская посвящена в тайну и так задобрена, что будет хранить молчание. Но как мало таких, на молчание и преданность которых можно положиться.
И опять нужно обо всём позаботиться самой – найти достаточно молчаливую и умелую акушерку, найти семью, куда можно пристроить ребёнка, но главное – как обойти все эти балы, куртаги, званые обеды, завтраки, ужины...
И пожалуй, к лучшему, что Пётр не рвётся к встречам с нею, он занят рябой Елизаветой, он окружён целым сонмом женщин, он без конца назначает парады и смотры, всё ещё продолжает играть в солдатики, но теперь уже живые и большие. Она с ужасом подумала о том, что грянет пора парадного обеда на четыреста персон всех высших классов империи. Его собрался закатить Пётр по случаю заключения мира – уже «голубица мира», любимый его адъютант Гудович поспешил в Берлин с кондициями о мире.
– Боже, спаси меня! – во весь голос зарыдала Екатерина.
Статс-дамы поспешили к ней, принялись совать нюхательную соль, но Екатерина отодвинула их жестом руки и продолжала плакать, обдумывая своё трудное положение и способы обойти судьбу.
Глава IX
Степан в ярости мерил шагами горницу, где ещё так недавно сидела перед зеркалом Ксения. Он скрипел зубами, бил на ходу пальцами по мундиру, ерошил волосы. Вот здесь сидела она и ушла, бросила все его подарки, сбросила бриллиантовую диадему, соболью шубу. А он так искал эту красивую безделку, ходил к ювелирам, заранее заказывал, шил у лучших скорняков Санкт-Петербурга соболью шубу, стоившую целое состояние.
Нет, никакого внимания не обратила она на его заботы и хлопоты, никакого дела ей до него, до его страданий, до его жизни. Как не нужно, как жалко всё это оказалось. Какими ничтожными стали эти дорогие вещи, в которые он вкладывал столько души. Ему казалось, что они привяжут к нему Ксению крепче всяких верёвок, а она просто ушла, оставшись голой.
Она шла по городу, безумная, в одной только своей накидке из роскошных волос, шла, показывая всем своё прекрасное тело, которое должно принадлежать ему и только он должен видеть. И снова вставала перед его мысленным взором белая, обнажённая до самого бедра мягкая, нежная нога с голубыми прожилками. Он мотал головой, отгоняя это видение, но бедро, бесстыдно оголённое и выставленное ему напоказ, а может быть, и всему свету стояло и стояло перед его глазами... Значит, перед всеми ей не стыдно обнажаться, перед всем светом не стыдно идти голой, значит, для неё это бессмыслица. Никто не должен видеть это прекрасное тело, кроме него...
Он бросался к иконам, вставал на колени, молился об успокоении души, духа, но голая нога Ксении не давала ему покоя...
Все, все против него. Надо же случиться такому совпадению, чтобы в светлый Христов праздник даже церкви покрылись могильными траурными покровами, чтобы даже в Рождество не смог он сыграть свою свадьбу, не смог повести Ксению под венец. Нет в мире правды, доброты, нет утоления его тоске и муке.
Он вскакивал с колен и как разъярённый зверь шагал и шагал по горнице, не в силах избавиться от увиденного им её голого бедра с голубыми прожилками. Голова его горела, мысленно он раздевал всю Ксению, ласкал её прекрасное, такое желанное тело, целовал каждый извив её кожи...
Какая злая насмешка над ним: все могут смотреть на неё, голую, обнажённую, бегающую по всему городу, и только он, он, который любит её сильнее Бога, он лишён этой возможности. Он стискивал голову руками, чувствуя, что ещё немного – и сам побежит по городским улицам, сбросив всю одежду, сам станет сумасшедшим, таким, как она.
Да нет, она не сумасшедшая, уговаривал он себя, она просто решила для себя, что ничего ей не нужно. Так для чего она живёт, для чего она решила мучить его?
И вдруг ему пришла в голову простая мысль – ей нет никакого дела до него, ей всё равно, есть он на свете или нет.
Он даже остановился от этой мысли и тупо уставился в стену. Да, скорее всего, так и есть – ей совершенно безразлично, что он живёт на свете, что он безумно любит её, что сердце его готово разорваться от этой любви. Он вспомнил всех тех невест, которых сватала ему мать, вспомнил те молящие, надеющиеся взгляды, которыми одаривали его они, вспомнил, как равнодушно, холодно он проходил мимо них. Они не были ему нужны, так же, как он не нужен ей, он смотрел сквозь них и видел в мыслях только её, самую нужную ему...
Подумать только, что он страстно желает лишь эту – жалкую, ничтожную нищенку, попрошайку, у которой ни кола ни двора, нет ничего, – женщину, открытую всем, закрытую только для него. Да что он такое себе навоображал, что такое он нашёл в ней, что она единственная дорога ему. Ничтожное существо, не ценящее ничего, существо, может быть, переспавшее не с одним таким же попрошайкой, юродивым, таким же нищим...
Он застонал, представив себе, как она барахтается где-нибудь в грязи, под забором с таким же оборванцем, да не с одним. Ей ведь всё равно, кто и что...
Холодная ярость переполнила его, подумать только, кого это он собрался вести под венец, с кем намерен был соединить свою жизнь...
Он выскочил за дверь, ещё не зная, что скажет, что сделает. Все слуги в доме попрятались. Знали, гневен бывает господин, под руку ему не попадайся, рука у него тяжёлая. Один только старый, служивший ещё его отцу, седой, отяжелевший Федька рисковал в такие минуты выслушивать барина.
– Федька, – разнёсся по всему дому зычный голос Степана.
А Федька уже стоял за его спиной, знал, что в минуту ярости барина надо быть настороже.
– Собери всех мужиков, человек пять – семь, – резко обернулся к нему Степан, – разыщите юродивую, нищенку эту бесстыдную, и как следует поизмывайтесь...
Федька похолодел. Всякое в жизни видел он от бар, но такого приказания ещё не слышал.
– Батюшка, – ласковым голосом начал он, – да что ж в ней, стара и грязна, да как молодцы...
– Всем доступна, значит, и вам, – отрезал Степан.
– Батюшка-барин, – упал к ногам Степана Федька, грузный пожилой, видавший виды слуга, – ведь юродивая, пощадите сироту.
– Она меня пощадила? – разъярился Степан. – Она меня опозорила, из-под венца сбежала. Запорю!
Понурой собакой встал Федька от ног хозяина. Знал, не выполнит это мерзкое дело, быть ему битым, может, и до самой смерти. Крут, лютенек стал Степан Фёдорович Петров...
И Федька пошёл собираться. Наготовил три четверти медовухи, отобрал семерых ражих мужиков, известных своим буйным нравом, сам запряг тройку лихих коней в широкие розвальни, набросал туда тулупов, кинул большую подушку. И сам сел к вожжам...
Они нашли её далеко за городом, когда уже стало смеркаться и неяркий северный денёк закутался в сизые наплывы тумана. Ксения шла негустым леском, просверкивающим белым сквозь хмарь тонких сучьев, петляла, чтобы не провалиться, между кочками, свалившимися на бок хилыми берёзами, шла по пустынной равнине, лишь слегка запорошенной снегом и кое-где выступавшей красной пристылой на морозе глиной. Пятна подтаявшей земли заставляли розвальни увязать, но кони, добрые, откормленные, тащили сани с восемью мужиками споро, почти не напрягаясь.
Федька только слегка пошевеливал вожжами, зорко вглядываясь в синеющую даль. Он первый углядел юродивую, скользившую среди хилых берёзок чуть в стороне от дороги, и хлестнул лошадей, стараясь обогнать её. Мужики в розвальнях уже перепились и, пьяно икая, взвизгивая на кочках, горланили непристойные песни. Федька их не унимал, чем больше развяжутся языки и пьяная похоть выступит наружу, тем легче ему будет выполнить барское приказание.
Был он сумрачен и молчалив, только на коротких остановках доставал из-под тулупов очередную четверть с медовухой, наливал в глиняную кружку и подносил мужикам. Сперва они удивились, с чего вдруг такая милость, а скоро и думать забыли об этом. Мощные пьяные голоса гулко разносились по окрестностям, пугая старых филинов и вспархивающих куропаток.
Он, Федька, и сказал эти слова, заставившие мужиков пьяно вызвериться.
– Глядь, мужики, баба, – со значением произнёс он, – ай, хороша, юбка зелёная, кофта красная, сама как тополь...
Только такой подначки и не хватало мужикам. Они стали хватать Федьку за рукава тулупа:
– Стой, слышишь, баба, не уйдёт...
Федька ещё подбавил, знал, каких слов ждут мужики:
– Ай не осилите, да нет, где вам...
Мужики гурьбой свалились с саней, побежали, оскальзываясь на кочках, пошатываясь в пьяной, буйной похоти.
Она не испугалась, остановилась перед ними, прямая как берёзка.
Гурьбой окружили её мужики. Гоготали, рвали на ней юбку, задирая на голову, бесстыдно кромсали кофту, обнажая белые полные груди. Словно бес вселился в них – заламывали руки, бросали в жидкий подтаявший снег, распяли за руки и ноги. Самый старый из них, высокий могучий мужик с окладистой бородой, кинулся на белое тело, сверкающее на холодном снегу, трясущимися пальцами развязывая ширинку. Упал на юродивую, судорожно дёрнулся и смущённо встал на колени. Хмель вдруг прошёл, одолела немочь, бессилие. Ничего не смог он сделать с юродивой.
Его оттолкнул другой, более молодой, более похотливый мужик, тоже упал на голое тело Ксении и так же смущённо встал с колен.
По очереди падали они на голое, распластанное на снегу тело юродивой, все семеро, и все откатывались вбок, а то и вставали прямо с колен. Дикая ярость охватила их всех. Они поняли своё мужское бессилие, и дикая злоба охватила их всех.
– Бей её, робята! – скомандовал самый старший и первый ударил её в бок сапожищем.
Они били её долго, с наслаждением и остервенением, мстя за это тёмное чувство собственной неполноценности. И стыдились один другого, и стыд этот вымещали на голой, распластанной на снегу плоти.
Ксения и не пробовала защищаться, лежала на снегу безмолвная, не отвечая на удары даже криком, не сознавая, что с ней делают.
Трезвые, притихшие вернулись мужики к розвальням.
Федька сидел, отвернувшись в сторону, не глядел, как потешаются мужики.
Мужики так же гурьбой свалились в сани.
– Ну и баба, – громко крикнул самый старый мужик с окладистой бородой, – ну уж и натешились...
И все, стыдясь и стесняясь своего мужского бессилия, в голос стали уверять Федьку, сколь славная была баба, как они над ней надругались.
Федька стегнул лошадей и молча гнал их до самого дома, ни слова не отвечая на пьяную похабщину мужиков, опять заливающих своё дело медовухой.
Избитая, окровавленная, истерзанная осталась лежать Ксения под хилой берёзкой, печально опустившей над ней свои голые ветки. На этом месте, болотистом, сыром, топком и гнилом, берёзы не росли путём – корни не успевали зацепиться за пружинящую, топкую, пропитанную водой землю, и стволы вымахивали в сажень, а то в две. Корни не могли удержать ствола, и дерево гнулось до самой земли, не в силах удержать крону...
Федька, не раздеваясь, как был в тулупе и с кнутом в руке, предстал перед барином.
Тот пристально смотрел на него.
Федька молча кивнул головой.
Степан отвернулся, плечи его вдруг осели, согнулись. Загребая руками, таща ноги, словно набитые ватой, поникнув головой, Степан упал на пол. С ним сделались судороги...