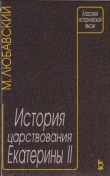Текст книги "Украденный трон"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Глава III
В последний раз низвергнутый, низложенный, отрёкшийся от престола император Пётр Третий ехал по дороге в Ропшинское имение. В последний раз качала его карета по пыльной колее, слегка развевались занавески на крохотных оконцах. Он почти лежал на подушках, чувствуя, как уходят из него последние силы, как надвигается страшная, самая чёрная, полоса его жизни. Ещё вчера он был всесильным властелином, ещё вчера ему заглядывали в рот льстивые царедворцы, угадывая каждое его желание. Сегодня он стал узником, человеком без прав, состояния, чести, титулов и даже щегольского мундира, который он так любил носить.
Последние два дня вымотали его совершенно. Треволнения переворота, в котором он не сумел найти себе достойное место, – переворота, который из вседержца сделал его ничтожеством, самым бесправным и униженным. Все его силы ушли на то, чтобы сначала разыскивать Екатерину в Петергофском дворце, где он умудрился даже заглянуть под кровать, настолько ошеломительной и страшной оказалась для него весть о её побеге из Монплезира. Он видел ее платье, приготовленное для парадного обеда и разложенное на подушках канапе, её сверкающие бриллиантами туфли, её корсаж и корсет, её подвески и серьги. Всё было готово к тому, чтобы Екатерина надела роскошный придворный наряд с громадными фижмами и стала неотразимой и блистательной. И вот – её нет, и только камердинер, верный камердинер Брессан сообщил, что Екатерина в Петербурге, и войска уже присягнули ей на верность.
Он сразу же обессилел. Его желудок и всегда-то был на редкость слабым, а тут совершенно отказал, заныл, забурлил до темноты в глазах.
Он долго сидел на парапете набережной в Петергофе, слушал, как суетятся те, кто ещё остался с ним, какие советы пытаются ему дать, как стоит, ходит, старается приласкаться к нему его любовь, теперь уже несостоявшаяся императрица Елизавета Воронцова. Она, вероятно, решила, что и в радости и в горести должна быть рядом, по-своему понимала долг фаворитки.
Но ему не хотелось даже смотреть на неё. Ведь это, пожалуй, всё из-за неё. Она потребовала, её дядя настаивал, чтобы постричь Екатерину в монахини, жениться по второму разу на ней, Елизавете, сделать её императрицей. Он всё тянул, оттягивал, его любимый Фридрих предостерегал его от этого решения. Нет, он не послушался любимого друга, он слушал её, любовницу, фаворитку, её советы он слушал больше всего. И вот – крушение всех надежд, планов, замыслов. Никогда больше он не будет императором, никогда не будет императрицей Елизавета, никогда не увидит он её больше. И он словно бы почувствовал облегчение от этой мысли – ему вдруг сделалась ненавистна Елизавета и её дядя, канцлер, ему вдруг обрыдло всё. Желудок слегка успокоился, и он потребовал обед. Война войной, переворот переворотом, а поесть никогда не мешает. Ему накрыли стол прямо в саду, на том же парапете набережной, и он с аппетитом пообедал, глядя на взволнованные и растерянные лица придворных.
Впрочем, их оставалось всё меньше и меньше. Все они просились в Петербург узнать, что стряслось, вызывались пристыдить жену и вынудить её отказаться от своего злокозненного замысла. И всё не возвращались... Ночная экспедиция в Кронштадт ничего не дала – его даже не пустили туда, а прямо потребовали уйти, иначе будут стрелять. Вот только тогда он всерьёз поверил – всё кончилось, Екатерина победила. И хотя у него стояло полторы тысячи голштинцев, и хотя пушки приготовились к бою, а осадные рвы были выкопаны надёжно и давно, он потерял голову.
Он самолично и добровольно написал отречение от престола, узнав, что Екатерина идёт на него с войском в четырнадцать тысяч гвардейских солдат. Он только запоздало сожалел, что не решился сразу же при вступлении на престол расформировать гвардию, обленившуюся, способную только к дворцовым интригам, а не к войне. Его просто хватали за руки свои же придворные. У всех были в гвардии родственники, друзья. Тёплые местечки, где можно было и не служа получать чины и звания. Он заскрипел зубами, вспомнив, как много собирался сделать. И не сделал ничего.
Теперь его везли в Ропшу. Он не бывал там, но слышал, что Ропшинское имение очень красиво, достойно императора, его цветники и парки едва ли не лучше петергофских и ораниенбаумских. Он приободрился, когда услышал, что его поместят в Ропше. Вместе с ним везли его любимого арапа Нарцисса, его собаку и скрипку, его бургундское. Вместе с ним приехала из Ораниенбаума и Елизавета, вместе с ним вышла из кареты. Больше он не видел её...
Ропшинский дворец был выстроен ещё дедом Петром Великим и подарен Ромодановскому, начальнику Тайной канцелярии самодержца. Потомок Ромодановского отдал Ропшу в приданое за своей дочерью Екатериной Ивановной, вышедшей замуж за графа М. Г. Головкина. Тётка Елизавета сослала Головкина в Сибирь, имение конфисковала, а потом подарила его Петру. Пётр в Ропше велел насыпать земляной вал для защиты от осады, перестроить дворец, завести многочисленные службы, но потом забыл об имении и никогда не бывал там.
Пётр пытался взглянуть в окно, но его заслоняла массивная фигура солдата, стоявшего на подножке. На козлах, рядом с кучером, на подножках, на запятках сидели и стояли солдаты.
В карете рядом поместился рослый кудрявый Алексей Орлов, но за всю дорогу не произнёс ни одного слова. Да бывший император и не поддержал бы разговора. Ему было тошно, и угрюмые глаза его не отрывались от созерцания запылённых тупоносых сапог. Перед его мысленным взором маячило лицо узника из Шлиссельбургской крепости, которое он видел три месяца назад.
Лицо, до тонкостей напоминающее его собственное. Значит, они оба обречены.
Он припомнил обстановку камеры, в которой содержался Иоанн, и содрогнулся – этот помост, толстая доска, закрывающая дыру в полу, эта жалкая ширма, это узкое окно, забрызганное чёрной краской.
Неужели и он, бывший император, будет сидеть в такой же камере? Сразу заломило живот, появилась тошнота, у Петра задрожали руки и ноги. Он искоса взглянул на своего тюремщика. Что с ним станет?
Но ведь Иоанна содержали в тюрьме восемнадцать лет, и ему ничего не грозит, разве что отсутствие удобств...
Однако комната, куда его ввели, оказалась достаточно комфортной. Большая спальная комната с роскошной кроватью под балдахином, с туалетными столами и креслами и скрытой китайской шёлковой ширмой ночной вазой. Всё, как в том ораниенбаумском дворце, где он провёл последнюю в свободной жизни ночь. Только теперь он вошёл один, у дверей стоял часовой, а на высоких окнах плотно задёрнутые шторы скрывали массивные кованые решётки.
Роскошная кровать оказалась до того жёсткой, что наутро Пётр пожаловался Алексею Орлову – не смог спать из-за неудобств. В тот же день в его спальне установили привезённую из Ораниенбаума привычную постель...
Все дни, что Пётр провёл в Ропше, почти неотступно стояло перед ним лицо смертельно-бледного узника, того, кого он повидал три месяца назад, – лицо Иоанна. Он слабел и лишался чувств от одной мысли, что его прикажут так же заковать в железа, бить палками и плетью, как он приказал за шалости бить несчастного императора, коронованного в двухмесячном возрасте. Однако его не только не били, но старались предоставить все удобства и выполняли любое его желание. Он просил привезти Нарцисса, своего камердинера. Того тут же доставили. Он просил свою любимую собаку – рыжего мопса с отвисшими щеками, – теперь пёс тёрся о его ноги и скрашивал его одиночество. Он брал свою любимую скрипку и изредка наигрывал пассажи – на большее не хватало сил и желания.
Ему доставляли в изобилии еду и его любимое бургундское. Он бездумно поглощал вино бокал за бокалом, но теперь почему-то не пьянел. А ему так хотелось забыться, чтобы проклятое лицо его двойника не стояло перед его глазами. И сверлил мозг только один вопрос – что с ним будет, что с ним сделает его жена, его Екатерина, которой он сдался на милость, как нашкодивший школьник?
Он краснел, когда вспоминал, что дал уговорить себя добровольно отречься, но замирал от надежды, что его могут отправить в Киль, обратно в свою страстно обожаемую Голштинию. И начинал убеждать сам себя – что такого он сделал, почему эти русские свергли его с престола, за какие такие грехи Екатерина возненавидела его, доброго малого, любящего солдат, армию, любящего хорошо выпить и закусить? Даже теперь он не мог представить себе, что кто-нибудь хочет его смерти...
Но лицо узника, стоящее перед глазами, доконало. На третий день он слёг, у него наступила слабость, головные боли измучили, а желудок отказывался работать. Он потребовал голштинца Лидерса – только тот мог ему помочь, его самый лучший из голштинских лекарей. Тот и прежде пользовал императора и умел найти лучшие средства для успокоения его желудка...
Но Лидерс всё не ехал. Три дня Пётр пролежал в постели, припадки геморроя и слабость желудка то приходили, то уходили. Все волнения последних дней, все его тревоги выразились в приливах и отливах слабости, головных болях и желудочных коликах.
На третий день он встал, всё ещё слабый и болезненный. Его камердинер Нарцисс, огромный атлет с чёрной кожей, умел обращаться со своим императором как с больным ребёнком. Петру стало лучше, и он, как всегда, адресовался к Алексею Орлову, почти безотлучно сидевшему при императоре. Капризным тоном избалованного ребёнка он заявил, что в комнате душно, ему необходим хотя бы глоток свежего воздуха.
Комнату действительно заполнял спёртый воздух – безотлучно находящийся в ней больной наполнил атмосферу спальни своими запахами.
Алексей Орлов тут же согласился с императором. Конечно, он сделает всё возможное, и господин Пётр прогуляется по саду.
Пётр направился к двери. Она открылась, но за нею стояли двое часовых. Пётр не видел, как Орлов мигнул часовым. Зато он увидел, как часовые скрестили перед ним ружья.
– Не приказано, знать, – со вздохом ответил Алексей Орлов на вопросительный взгляд обернувшегося к нему бывшего императора. – А вот не хотите ли в карты?
И Пётр сел играть. Денег у него не было, однако стоило ему заикнуться, и Алексей Орлов тут же выложил перед ним целую гору червонцев.
Игра шла вяло. Петра она не увлекала, и он снова отправился в постель. Приехал лекарь Лидере, промыл желудок, дал успокоительных капель, и Пётр заснул, чувствуя себя гораздо бодрее.
Но сон не освежал его, не приносил ему сил. Пётр похудел, мысли его скакали и разбегались в голове. Снова начались жестокие желудочные колики, боли в животе выматывали его. Его слабое, хилое сложение не выдерживало напряжения последних дней.
Два дня он снова не вставал с постели. Во сне его не оставлял образ теперь уже товарища по заключению, безымянного узника.
В субботу утром Пётр проснулся посвежевшим. Он кликнул Нарцисса, но тот не отзывался, а на его голос пришёл всё тот же Алексей Орлов.
– Где Нарцисс? – Первым вопросом было ему.
– Вероятно, в саду, гуляет, разве его нет здесь? – вопросом на вопрос ответил Орлов. – Сейчас распоряжусь, чтобы его отыскали...
Однако и через час, и через два Нарцисса не нашли. Пётр и не догадывался, что Нарцисса схватили и увезли из Ропши рано утром, когда Пётр ещё спал. Он поминутно спрашивал о нём, и всё так же спокойно ему отвечали, что злодей арап ушёл куда-нибудь и никак его сыскать не могут...
После завтрака Орлов предложил карты. Все сели за карточный стол – Фёдор Барятинский, Алексей Орлов и Теплов, только что выпущенный из Петропавловской крепости.
Пётр не заметил, как мигнул Алексей Орлов князю Фёдору Барятинскому. Тот преспокойно на глазах бывшего императора передёрнул карту, и Пётр с негодованием закричал, вскочил и едва не бросился на князя.
Загорелась ссора, потом драка, опять мигнул Алексей Орлов Теплову, и через две минуты всё было кончено.
В последнюю минуту, когда подушка плотно прижалась к лицу, Пётр вдруг некстати вспомнил: она же сказала – удавленник... Хилое маленькое тело императора дёрнулось и затихло.
Алексей Орлов уселся за тот же карточный стол, схватил первый попавшийся кусочек серой и нечистой бумаги и неумелой рукой, не привыкшей к перу, нацарапал письмо Екатерине: «Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному рабу твоему; но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка – его нет на свете... Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя. Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Фёдором. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принёс, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневили тебя и погубили души навек...»
Письмо это пролежало в шкатулке Екатерины Второй более 34 лет, до самой смерти императрицы. Никто о нём не узнал, кроме двух-трёх лиц – Никиты Панина, гетмана Разумовского да Григория Орлова. Но и они молчали до последнего часа.
Через день был составлен и доведён до всеобщего сведения «Скорбный манифест»:
«В седьмой день после принятия Нашего престола Всероссийского получили мы известие, что бывший император Пётр Третий, обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидальным, впал в прежестокую колику. Чего ради не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которою мы одолжены к соблюдению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему всё, что потребно было к предупреждению средств, из того приключения в здравии его, и к скорому вспомоществованию врачеванием. Но к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего вечера получили Мы другое, что он волею Всевышнего Бога скончался. Чего ради повелели мы тело его привезти в монастырь Невский, для погребения в том же монастыре; а между тем всех верноподданных возбуждаем и увещеваем Нашим Императорским и Матерним словом, дабы без злопамятствия всего прошедшего, с телом Его последнее учинили прощание и о спасении души его усердныя к Богу приносили молитвы; сие же бы нечаянное в смерти его Божие определение, принимали за Промысел Его Божественный, который Он судьбами своими неисповедимыми Нам, Престолу Нашему и всему Отечеству строит путём, Его только святой воле известным».
Первая смерть после светлого и чистого переворота, совершенного без единой капли крови. Много смертей потом будет на пути Екатерины, но первая поразила и взволновала новую императрицу. Она взяла под свою защиту убийц, дала им титулы и звания, чины, ордена, богатство.
Ей была выгодна эта смерть. Получалось, что Бог сам расчищал ей дорогу – она-то прекрасно знала, что это сделали братья Орловы.
Она боялась их и никогда не забывала слов, которые сказал однажды на обеде Григорий: «Да если мы захотим, через месяц свергнем тебя, матушка, с престола...»
Сердце захолонуло. Спасибо, гетман Разумовский выручил:
– А через две недели допреж будешь в петле болтаться...
Лицо Петра в гробу чернело, шею прикрывал широкий шарф. Удавленник, сказала ему в лицо юродивая. Он и умер удавленником...
Глава IV
В неурочное время, сразу между утренним и обеденным приёмом пищи, распахнулась дверь в камеру Иоанна. Он сидел возле стола, пытался, как всегда, увидеть хоть что-либо сквозь чёрные капли краски на окне, хотя бы клочок неба или узенькую галерейку, у которой сложена аккуратная поленница двор.
В камеру вошёл незнакомый, но когда-то давно виденный им офицер в накинутой на плечи тёмно-зелёной епанче и чёрной, отделанной золотым кантом треуголке.
За ним следовали тюремщики – капитан Власьев и поручик Пекин. Их радостные, сияющие лица заставили сердце Иоанна вздрогнуть от неожиданности и предчувствия перемен в своей судьбе.
– Собирайся, – сказал генерал-майор Савин, офицер в треуголке и епанче, – на новое место...
Власьев и Пекин подошли к узнику и низко поклонились ему в ноги:
– Прощай, Григорий, – сказал Власьев, – знать, не увидимся более, прости, если что не так.
Чекин пробормотал те же слова, и Иоанн растерянно прошептал, не зная, благословлять их или проклинать судьбу:
– Бог простит, а уж я давно простил...
Они лобызнули его в бледную щёку, и он почувствовал кожей колючие концы их усов.
– Собирайся, – снова сказал Савин, – две минуты и пошли...
Иоанн заметался по камере. Ему дали чистую одежду, накинули сверху широкий армяк, заставили надеть тяжёлые солдатские ботинки. Он кидался от постели к столу, дрожащими руками засовывал в холщовый мешок свои книги – Псалтырь, Четьи-Минеи...
Перед выходом из камеры Савин подошёл к нему и туго обвязал лицо чёрной тряпицей. Иоанн едва не задохнулся, но скоро приспособился дышать. Тряпка намокла и прилипла к губам. Он не видел ничего, пытался открыть веки, но тряпка стягивала лицо так туго, что давила на веки и открыть их не было никакой возможности.
Он набросил петлю мешка на плечо, вытянул вперёд руки. Власьев и Чекин – он понял это по их привычному, потно-табачному, запаху – взяли его под руки и вывели за порог.
Как бы он хотел снять эту проклятую тряпку, как хотел бы взглянуть хоть под ноги, увидеть там другой пол, землю, хоть что-нибудь, но тряпка давила на глаза, и он всеми другими обострёнными чувствами впивался в этот мир, куда его вели.
Сначала ноги, неуклюжие в больших растоптанных солдатских башмаках, ощущали под собой глухой каменный пол, такой же, как в его камере, потом шаги стали звучнее и громче – камень сменился деревом. Внезапно он едва не упал. Руки его повисли в пустоте – кто-то перехватил его из рук Власьева и Чекина, и незнакомый, другой запах сказал ему, что теперь его ведут другие люди.
– Осторожнее, – услышал он голос офицера, пришедшего за ним, – чтоб не оступился...
И руки новых тюремщиков крепче сжали его под локти. Под ногами стало шатко и пружинисто – Иоанн понял, что его ведут по какому-то мосту. Он осторожно ставил ноги, сам боясь упасть. Шаткость и гулкость помоста оказалась короткой, он не сделал и пяти шагов. И тут его ноги едва не подкосились – под ногами качалась зыбкая деревянная поверхность. Он валился с боку на бок на этой зыбкой качающейся плоскости, и тюремщики крепко держали его хилое тело.
Один страж отпустил руку, и Иоанн непременно упал бы, если бы другой не поддержал его. Но вот страж снова подхватил его под руку. Иоанн едва не стукнулся о притолоку двери, ударился головой, проехал плечом по боковому косяку и понял, что его привели в какое-то помещение. Стражи, невидимые и неслышимые, подвели его к скамье, осторожно усадили на неё, отпустили руки.
Тряпка упала с глаз, и Иоанн обнаружил себя сидящим в крохотной каморке с крохотными окошками на все четыре стороны. Четыре тесовые стены, невысокая, горкой, крыша да скамья у края стены. Вот и всё, что было в каморке.
От удивления и любопытства Иоанн чуть не упал, скамья слегка колыхалась под ним, и он вцепился в её края пальцами. Покачивание стало плавным и равномерным, и он понял, что находится в лодке с маленькой каютой посреди неё. В такой же лодке его везли много лет назад, и он хорошо запомнил путешествие, хотя и тогда все переходы по открытому воздуху он совершал с завязанными глазами.
Сбоку каморки раздавались какие-то голоса, совсем не похожие на те, к которым он привык за восемь лет сидения в камере, отрывистые команды. Он с жадным любопытством и интересом вслушивался в эти голоса, кричавшие, что надо отдать концы, поднять трап... Все слова казались ему незнакомы, и он представлял себе странную и нелепую картину, где конец какого-то хвоста отдают человеку, требующему поднять трап...
Он вслушивался в незнакомые слова, какую-то шумную возню, шлёпанье о воду и понимал, что он едет в лодке и везут его по воде в другое место. Сердце захолонуло – а что, если туда, назад, в Холмогоры, где он провёл бок о бок со своим отцом и матерью недолгих четыре года. Никто не знал, а он нашёл средство сообщаться с родителями, и солдаты оказались к нему так добры и участливы, что он слышал многое...
Стражи плотно закрыли крохотную дверь, и он остался один. От нетерпения и любопытства узник привскочил на скамье и прильнул к крохотному оконцу в дощатой стенке лодки.
Перед ним расстилалось безбрежное Ладожское озеро, в глаза ему ударил солнечный свет, и он зажмурился: таким резким он показался после полной темноты чёрной тряпки, завязанной на его лице. Он вцепился в края открытого оконца руками, силясь не упасть и вдыхая, вдыхая, вдыхая незнакомый, пахнущий рыбой и свежестью воздух. Как он сладок, этот воздух, после кислого, спёртого запаха его камеры, как необычаен показался ему вид из окошка, такого крохотного, что едва хватало поместить в его пространстве два его глаза. Он впивал и впивал в себя этот воздух, такой свежий и дразнящий, что не замечал, как ветерок из всех щелей шевелит его волосы на голове, с которой он сорвал свой куцый треух. Он смотрел и смотрел в серую безбрежную гладь, на которой ветер поднимал серые с жемчужным отливом волны, и ему казалось, что нет лучше, вкуснее этого запаха, и этого необъятного простора, и этого голубого неба, до половины закрытого перед его глазами тёмными, серыми тучами.
Лодка колыхалась под его ногами равномерно и плавно, и он уже приучился стоять ровно, вместе с ней покачиваясь из стороны в сторону и придерживаясь за края оконца. Он готов был так стоять целую вечность...
Он кинулся к противоположному оконцу и увидел низкий серый берег с купами деревьев, издалека словно бы прикрытых зелёным густым туманом, низкие домишки, кое-где мелькавшие из-под кручи, красную ленту дороги, вьющейся по самому берегу...
– Похож как на бывшего императора, – внезапно услышал он слова, произнесённые вполголоса.
– Замолчь, – резко оборвал голос Савин, и всё стихло. Лишь в отдалении раздавались голоса солдат, выполнявших непонятные ему команды и повторявшие их. «Бывшего?» – мелькнуло в голове, на миг прорезалось лицо скромного офицера, приказавшего пороть его в случае шалости, сажать на цепи и на хлеб и воду.
«Что же случилось в здешней империи?» – подумалось ему, но за новыми впечатлениями, свежим воздухом и возможностью видеть далеко всё отошло, забылось, не залегло в памяти.
– Приказ матушки-императрицы не выполним, худо будет, – услышал он опять. – Знать, Шлиссельбургские камеры для низложенного готовят, этого загодя услали...
– Сколько раз говорить, чтоб замолк, гляди, кабы язык не вырезали...
– Дак на воде ж, никто не слышит, – робко прошептал другой голос и смолк.
– А и не надо, чтоб слышал, – сурово одёрнул голос Савин. – И так уж сколько народу видало его.
– Лицо ж завязано было, – оживился первый голос, но, не получив поддержки, смолк.
Иоанн прислушивался к этим словам, они западали в глубину его памяти, но не будоражили ничем. Не всё ли равно, по какой причине его вывезли, не всё ли равно, по чьему приказу. Главное – он стоит в этой лодке с крышкой, дышит свежим воздухом, глядит вдаль, которая затекает в перспективе голубым туманом от его близорукости, от его привычки смотреть только на два шага.
Он видел, как волны из прозрачных и жемчужных стали выше, суровее, отливали уже свинцом тяжело и мрачно. Солнце спряталось за чёрную тучу, охватившую всё небо, ветер завивал верхушки волн в белые пенные барашки, лодку закачало сильнее.
Иоанна затошнило, желудок подкатил в самому подбородку, он упал на скамью и скорчился от сильнейшего приступа.
Лодка продолжала раскачиваться, слышались крики, шум ветра заглушал все другие звуки. Ветер гулял в тесной каморке, а Иоанн корчился и корчился, стараясь подавить тошноту. Он не выдержал, и в лужу воды у его ног вырвалось всё содержимое его желудка.
Легче ему не стало, приступы повторялись и повторялись, он стонал, метался на своей жёсткой скамейке, но никто не открывал дверь, никто не заглядывал к нему.
Он почти потерял сознание, скорчившись так, чтобы и ноги умещались на жёсткой скамейке, прилёг и качался вместе с лодкой, то вздымаясь высоко вверх головой, то падая вверх ногами. Все эти ощущения вымотали его, он тихо лежал, словно мешок с мукой, и стонал, раздираемый приступами...
Лодка качалась на одном месте, и если бы Иоанн прислушался, то понял бы, что из-за скверной погоды стражи его приняли решение добавить к полагающейся охране ещё троих солдат, за которыми и отправили один из двух сопровождавших процессию швертботов.
К ночи, которая так и не стала ночью, погода несколько улучшилась. Небо развиднелось, Иоанн смог поднять голову и заглянуть в крохотное оконце-щель. Кое-где тучи очистили горизонт, солнечная пелена окутала озеро. Белая ночь не скрывала тяжёлых волн, но пенные барашки пропали, и волны только медленно и тяжело ударяли в борта лодки, то и дело грозя опрокинуть её.
Лодка шла ходко, и несчастному узнику стало легче. Ему предложили съесть что-нибудь, но он и смотреть не захотел на еду. Один из солдат убрал каморку, нещадно ругая слабосильного пассажира, но узник не реагировал ни на что. Он только удивлялся, как это он мог радоваться такому путешествию, и с тоской вспоминал хоть и душную, но такую тёплую и даже уютную камеру, мечтал почувствовать под ногой твёрдую землю, пусть даже и каменный пол каземата. Лодку всё качало и качало, однако она бойко шла вперёд в сопровождении двух швертботов, заполненных солдатами охраны.
Утром засияло солнце и осветило мрачную поверхность Ладоги бледными бескровными лучами. Узник с трудом приподнялся на скамье, взглянул в окно. Ветер продолжал хлестать во все четыре оконца крытой беседки, Иоанна знобило, горло саднило, а нос покраснел от холода. Он кутался в свой серый армяк и натягивал чуть ли не на самый нос треух, но это не спасало от пронизывающего сквозняка.
Небо темнело, тучи закрыли наконец и тот небольшой просвет, через который на озеро падали блёклые и косые лучи. Казалось, наступила ночь, ночь светлая, в которой видно всё, но туман и морось затягивали всё кругом густой сетью.
По крышке рябика забарабанили тяжёлые капли, потом они слились в однообразный, бесперебойный гул от косых и тяжких струй дождя. Ветер замётывал в оконца капли, и скоро узник весь промок и забился в самый угол скамьи, спасаясь от холода. Под ногами проступала вода, и башмаки его намокли, сделались тяжёлыми и хлюпали на ногах.
Внезапно раздался треск, лодка словно споткнулась, накренилась. Иоанн съехал по скамье в другой край и больно ударился о стенку каморки. Сразу же лодка накренилась на другой бок, и узник поехал по мокрой и скользкой скамье в другую сторону.
Он не слышал криков своих сторожей, осознал только, что ветер ворвался в каморку, охватил его ледяной струёй с ног до головы, дверь хлопала на ветру. Его подняли, завязали лицо чёрной тряпкой и потащили из каморки.
Он не мог переставлять ноги, двое солдат подхватили его, удерживая на весу. Он не видел, но чувствовал, как его поднимают, спускают с борта сильно накренившейся лодки, как двое солдат, стоя по шею в ледяной воде, бережно обхватывают его тело. Разбитый, расслабленный, он ничего не видел, но чувствовал – его несут. Волна заплёскивала на чёрную тряпку, закрывающую его лицо, и он смог как в тумане разглядеть низкие очертания берега, камни, замшелые валуны у самой кромки воды.
Солдаты донесли его до берега, поставили на ноги на жёсткую и непривычную землю. Он не удержался и упал бы, если бы они снова не подхватили его.
Шум, суета, возня, окрики – всё это ударило в уши теперь. Сквозь намокшую тряпку на лице он мог различить низкий пологий берег с серыми валунами и невдалеке поднимавшийся стеной хилый лесок.
Больше он ничего не увидел, впал в глубокий и тяжёлый обморок, и сколько ни ставили его солдаты на ноги, он валился как подкошенный.
До самой деревни, версты четыре, его пришлось нести на руках...
Узника втащили в деревенскую избу, первую попавшуюся на пути. Испуганные селяне вжались в угол, когда в избе появились солдаты.
Савин знаком приказал очистить избу, и хозяева, чернобородый здоровяк рыбак, жена его, маленькая крепенькая толстушка, и трое босоногих детей мгновенно убрались.
Солдаты свалили Иоанна на жёсткую длинную лавку, опоясывающую всё пространство избы, и стащили чёрную тряпку с его лица. Он почти не дышал, лицо было мертвенно-бледным.
Савин похлопал узника по щекам и, хотя сам измучился не меньше, присел около и поднёс к губам, синим и крепко сжатым, фляжку со спиртным. Узник закашлялся, замотал головой из стороны в сторону и открыл глаза.
– Вот и оклемался, – довольно произнёс Савин и пошёл из избы, поставив у дверей часовых.
Иоанн присел на лавке, огляделся. Никогда раньше не бывал он в такой крестьянской избушке, топившейся по-чёрному, и его интересовало всё. Он обошёл углы, увидел несколько икон на божнице и благоговейно помолился, став на колени.
Голова всё ещё кружилась, и он падал через каждые несколько шагов. Но никаких ощущений он при этом не испытывал, просто падал, потом поднимался, а через пару шагов падал опять. Ему было немножко стыдно, и хорошо, что в избе он остался один.
Он подошёл к очагу и потрогал висевший над ним большой железный котёл на крючке. В котле нашлось немного каши, он горстью выгреб её и сунул в рот. Каша была ещё тёплая, и это совсем поставило его на ноги. В деревянной бадье у двери плавал деревянный же ковшик. Он зачерпнул и напился.
Низенькие крохотные оконца, затянутые слюдой, почти не давали света, но он сумел разглядеть двор, ничем не обнесённый, горбатые строения для скота, сети, висевшие на кольях для просушки. Ему всё было внове, и каждый взгляд открывал для него что-то особенное.
Он прожил три дня в избушке рыбака. Савин и квартирмейстер завтракали и обедали вместе с ним, и ни разу Иоанн не пожаловался на грубость или плохую пищу. Ели все молча, из одной большой деревянной миски, ели, что придётся, хотя и староста деревни, и крестьяне, жившие в этой северной забытой Богом деревушке, старались собрать по дворам самую лучшую еду, отрубали головы голосистым петухам и маленьким, плохо несущимся курицам.
Савин платил щедро, но еды не хватало, а хлеба здесь вообще не имели. Лепёшки из чёрной муки, да каши из гречихи, да неумело сваренные куриные крохотные тельца – вот и всё, что составляло их рацион.
Савин после еды быстро, молча уходил на берег, где солдаты пытались починить рябик, вконец разбитый на прибрежных камнях, да осмолить протекавшие швертботы. Но три дня работы не дали никаких результатов – не хватало снасти для ремонта, а убогая деревушка и не знала их. Пользовались в ней ещё лодками, долблёнными из целого ствола дерева...